Гуманизм Достоевского в свете его антропологии
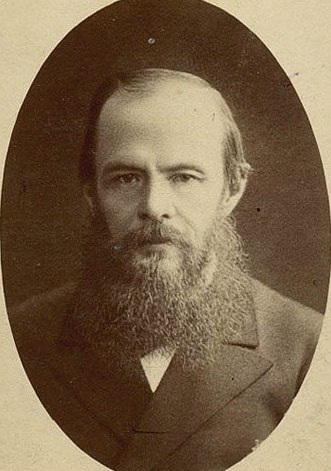
Л. Аллен (Франция)
О Достоевском сложено немало легенд, касающихся не только его частной, личной жизни, но и его духовного облика, его миропонимания.
Достоевского часто считают яростным противником рационального принципа в человеке, предтечей иррационального течения в современной западной философии. Такие суждения происходят от предвзятого чтения его произведений, от плохого ознакомления с ними.
Достоевский считал необходимым критический, т. е. научный подход к действительности. В критическом методе познания он усматривал естественное проявление человеческого ума. С этой точки зрения наличие и обоснование рационализма им не оспаривались. Научный рационализм, по словам Достоевского, принадлежит «нашему закону развития».
В чем же Достоевский все-таки расходился, впрочем, не столько с рационализмом, сколько с некоторыми рационалистами?
Рационалисты, по мнению Достоевского, слишком самонадеянны. Критикуя их, он опирался отчасти на состояние современной ему науки: «Путаница и неопределенность теперешних понятий происходят по самой простейшей причине: отчасти от того, что правильное изучение природы происходит весьма недавно (Декарт и Бэкон) и что мы еще собрали до крайности мало фактов, чтоб вывести из них хоть какие-нибудь заключения. А между тем торопимся делать эти заключения, повинуясь нашему закону развития. Выводить же окончательные результаты из теперешних фактов и успокаиваться на этом могут разве только самые ограниченные натуры, кто бы они ни были и как бы ни назывались».
Отметим, что Достоевский критически относится здесь не к самой науке, а к «полунауке», отличительным признаком которой является желание «успокаиваться» навсегда на «окончательных результатах», выведенных только «из теперешних фактов». Достоевский, как известно, надеялся на блестящее продвижение науки в своей стране.
Самонадеянность рационалистов проявляется, согласно Достоевскому, еще и в том их предположении, что человеческим умом, достижениями науки, все получает на свете исчерпывающее, объяснение. Достоевский категорически отрицал такую возможность.
Рационализм и наука являются плодами человеческого ума. Но ум в человеке не все, ум не весь человек. Кроме того, ум существует только у человека, человеческий ум составляет исключение в общей системе мироздания. «Ум свойствен только человеческому организму». Разум же, в отличие от ума, присутствует как во вселенной, так и в человеке. В этом противопоставлении разума уму и заключается один из главных моментов спора Достоевского с рационалистами. Писатель любил говорить, что народная мудрость отражает это различие в своей поговорке: «ум за разум зашел (заходит)». Спор идеологический перекрещивается здесь со спором семантическим. Борьба за истину неразлучна с борьбой за точное определение слов и понятий. Ведь «рационализм» происходит от латинского слова «ratio», которое означает не ум, а разум. Современный рационализм как раз покоится на семантическом недоразумении, т. е. смешении понятий — ум и разум.
Уже в юношеском письме 1838 г. (Достоевскому было 17 лет) он четко распределял области и средства человеческого познания: «Что ты хочешь сказать словом знать? Познать природу, душу, бога, любовь... Это познается сердцем, а не умом... Проводник мысли сквозь бренную оболочку в состав души есть ум. Ум — способность материальная... душа же или дух живет мыслью, которую нашептывает ей сердце... Ум человека, увлекшись в область знаний, действует независимо от чувства, следовательно от сердца. Ежели же цель познания будет любовь и природа, тут открывается чистое поле сердцу...». Значит, сердце стоит гораздо ближе к разуму, чем ум.
В этом свете становится понятнее отношение Достоевского к философии: «Философию не надо полагать простой математической задачей, где неизвестное — природа... Заметь, что поэт в порыве вдохновения разгадывает бога, следовательно, исполняет назначенье философии. Следовательно, поэтический восторг есть восторг философии... Следовательно, философия есть также поэзия, только высший градус ее».
Человеческий ум и его главное орудие — критический метод познания, т. е. наука, — может приложить свои усилия только в одну сторону действительности, и то не надеясь дойти до каких бы то ни было окончательных результатов. Там, где человеческий ум останавливается в бессилии понять до конца загадку бытия, выступает новый ключ к познанию мира — ключ эстетический.
Сфера эстетическая, по мнению Достоевского, стоит безмерно выше сферы науки для подлинного понимания человека и человеческой истории. Тут рационализм стушевывается и пасует перед куда более действенным понятием, понятием о рациональности, о целесообразности человеческого существования. Достоевский тщательно размежевывает рациональное и рационалистическое. Для него рационализм узок и ограничен, но вполне приемлем, пока не выходит из своих пределов. Как метод критического анализа, он даже совершенно необходим и незаменим и как таковой является неотъемлемой частью всеобщей рациональности, специфической функцией общего уравнения знания. Но Достоевский изо всех сил восставал против безраздельного господства голого рационализма; философия позитивизма является, по его мнению, опасным уклоном от подлинной рациональности, которая играет положительную роль в понимании мироздания в целом и человека. Ясно, что мир представлялся Достоевскому вполне разумным. Человеческая история и личное существование каждого человека подвержены общему закону развития, проходят под знаком необходимости. Исторический процесс является процессом раскрытия всех потенций и целей, которые были заложены в его начале и станут явными в его конце, когда замкнется круг веков и человеческих судеб и когда «времени больше не будет». «Ведь земная жизнь есть процесс перерождения» (т. 11, с. 184). Мир воспринимается как цикл, который, замыкаясь, возвращается к своим исходным данным, только на высшей форме развития и выражения. В этом смысле история человечества является целенаправленной, и тут концы и начала должны же как-нибудь да когда-нибудь совпадать.
Установление связи между концами и началами истории и является, по мнению Достоевского, основной задачей сферы эстетического и искусства. В этом плане представляет интерес следующее высказывание писателя: «Для иного наблюдателя, все явления жизни проходят в самой трогательной простоте, и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается даже и нередко) — не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться, — он прибегает к другого рода упрощению и просто-напросто сажает себе пулю в лоб, чтобы погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противоположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий. Но, разумеется, никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо лишь насущное видимо-текущее, да и то по наглядке, а концы и начала — это все еще пока для человека фантастическое».
Именно фантастическое определяет поле деятельности эстетической мысли, что, впрочем, не значит, что эстетическая мысль должна оторваться от «насущного видимо-текущего». Достоевский, как известно, упорно и пристально следил за фактами. В наброске предисловия к «Подростку» он писал: «Факты. Проходят мимо. Не замечают... Я не мог оторваться, и все крики критиков, что я изображаю не настоящую жизнь, не разубедили меня...». Достоевский гордился тем, что в разные периоды своей жизни ему удалось предвидеть или предвосхитить позже случившиеся факты (преступление Раскольникова, Нечаевское дело и т. д.). «Ихним реализмом — сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты». В этом отношении представляет интерес высказывание писателя относительно «Записок из подполья»: «И автор записок и самые «Записки», разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество» (т. 5, с. 99).
Искусство, будучи сферой эстетической, дает нам возможность познать закономерность исторического развития: «Разум и наука, — пишет Достоевский, — в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность, второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание «реки воды живой», иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. «Искание бога» — как называю я всего проще» (т. 10, с. 198).
Любопытно отметить, что здесь идея бога как-то рационализируется, превращаясь как бы в некий образ человеческой истории. «Бог, — говорится далее, — есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца» (т. 10, с. 198). Подобные мысли встречались в переписке Достоевского конца 60-х годов. Вообще, всю жизнь писатель метался между верой и неверием, блуждая чаще всего на неопределенных границах между спиритуализмом и материализмом.
Достоевский тщательно отмежевывался от традиционной, вульгарной психологии, «психологии на всех парах», «палки о двух концах». В этом плане интересно следующее высказывание писателя: «При полном реализме найти в человеке человека... Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой».
Психологические наблюдения и догадки у Достоевского предвосхищают часто строгие доказательства. Интересен с этой точки зрения диалог между Раскольниковым и Порфирием Петровичем: «Раскольников подумал с минуту. — Послушайте, Порфирий Петрович, вы ведь сами говорите: одна психология, а между тем въехали в математику. Ну что, если и сами вы теперь ошибаетесь? — Нет, Родион Романыч, не ошибаюсь. Черточку такую имею» (т. 6, с. 350).
В «Идиоте» Мышкин говорит Рогожину: «Вот я давеча сказал, что для меня чудная задача: почему она идет за тебя? Но хоть я и не могу разрешить, но все-таки несомненно мне, что тут непременно должна же быть причина достаточная, рассудочная» (т. 8, с. 179).
В «Бесах» говорится о реакции Ставрогина на удар, нанесенный ему Шатовым: «...злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться, разумная» (т. 10, с. 165). Тот же Ставрогин в предсмертном письме признается: «Я никогда не могу потерять рассудок» (т. 10, с. 514).
Связь между «действительностью» и «логикой» особенно ярко ощущается в романе «Преступление и наказание».
Иррациональное в художественном мире Достоевского определяется на трех уровнях:
на уровне психологии иррациональное определяется незнанием всех причин и всех пружин какого-то поведения, действия или поступка. Иррациональное и есть тот неизбежный остаток необъясненности, который остается при любом пусть даже самом точном и кропотливом анализе;
на уровне антропологии иррациональное определяется той дистанцией, которая непременно существует между каждым личным «я», т. е. каждым индивидом и каждым носителем человеческого призвания в строгом и полном смысле этого слова;
на уровне морали разлад между индивидом и человеком, между их законами составляет сущность иррационального принципа. Гармония же между ними составляет, наоборот, сущность рациональности, она же и есть осуществление закона гуманизма.
Являясь в сущности недостатком и дефектом, иррациональное тем не менее сопутствует жизни даже как некоторый признак ее. Но иррациональное сопутствует жизни, как ревность сопутствует любви: она ее тень. Впрочем, возникая из какого-то субъективного недостатка, иррациональное не выходит из всеобъемлющих рамок универсальной рациональности.
Отличительным принципом антропологии Достоевского является та грань, которая отделяет индивида от человека. Руссо утверждал, что человек рождается добрым. Достоевский целиком отвергал это. Человеком никто не рождается, а рождается просто индивидом. Индивид же добрым не рождается, и человеком становится с трудом, постепенно и в разной степени.
Индивиду, в сущности, предстоят два пути: очеловечиваться, т. е. утвердить собственными усилиями человеческий образ, который заложен в нем, или же, наоборот, обесчеловечиваться, т. е. в конце концов потерять зародыш человечности и возвратиться к «звериному образу». Оставаясь оптимистом, Достоевский тем не менее был глубоко убежден в хрупкости и кратковременности создания, именуемого человеком. В конце своей книги «Слова и вещи» Мишель Фуко писал, что человек является изобретением, и археология нашей мысли убедительно доказывает, что этому изобретению суждено скоро кончиться, несмотря на то, что оно недавно начало существовать. Нечто подобное имел в виду Достоевский.
Чтобы стать человеком, индивид должен побороть в себе голос животного инстинкта, зов эгоизма и сладострастия. Жить «в свое брюхо», «в свое пузо» (Достоевский выражается иногда еще резче) — естественное стремление индивида. «Есть, пить и спать по человеческому значит наживаться и грабить, а устраивать гнездо значит по преимуществу грабить». «Не верю я, гнусный Лебедев, телегам, подвозящим хлеб человечеству! Ибо телеги, подвозящие хлеб всему человечеству, без нравственного основания поступку, могут прехладнокровно исключить из наслаждения подвозимым значительную часть человечества, что уже и было...» (т. 8, с. 312).
Согласно Достоевскому, закон «я», или закон индивида, расходится с законом человека и человечества. Но ведь оба закона должны же стремиться к возможно большему сближению, если не к полному слиянию.
Как можно осуществить такое сближение? Человек должен, как было уже сказано, одолеть в себе силы животного царства. Должен одолеть, но не задавить, или просто «игнорировать» их. Достоевский имеет в виду человека, всего человека в совокупности всех его природных данных и всех его внешних связей. Человек рационалистов, по его мнению, — человек неполный и оттого человек несчастный. А от несчастья к отчаянию и к прямой беде — лишь один шаг. По-видимому, Достоевский недалек от мысли, — она особенно ощутима в «Записках из подполья», — что иррационализм может, при известных условиях, проявиться в крайностях чрезмерно «сухого» рационализма.
Индивидом нельзя жертвовать в пользу человека, и Достоевский в самом деле ненавидел всякие попытки создавать какого-то человека вообще. Только живой индивид во всей его жизненной полноте может, по его мнению, превратиться в живого, деятельного человека. Превращение индивида в человека требует, прежде всего, признания индивида как такового. Это превращение означает самоочищение, перерождение, видоизменение. Такое может случиться при двух непременных условиях: человек должен руководиться высшими моральными целями («Христос или его идеал») и отдаваться высокой деятельности. Тут бесспорный «демократизм» Достоевского (все равны перед моральным законом) смешивается с каким-то скрытым элитаризмом (это, в сущности, равенство неравных, так как не все одинаково одарены в этой битве за звание человека). Сам Достоевский решал эту задачу как писатель: «Я имею у себя всегда готовую писательскую деятельность, которой предаюсь с увлечением, в которую полагаю все старания мои, все радости и надежды мои, и даю им этой деятельностью исход. Так что предстань мне лично такой же вопрос, и я всегда нахожу духовную деятельность, которая разом удаляет меня от тяжелой действительности в другой мир. Имея такой исход при тяжелых вопросах жизни, я конечно как бы подкуплен, ибо обеспечен, и даже могу судить пристрастно. Но каково тем, у которых нет такого исхода, такой готовой деятельности, которая всегда их выручает и уносит далеко от тех безвыходных вопросов, которые иногда чрезвычайно мучительно становятся перед сознанием и сердцем и, как бы дразня и томя их, настоятельно требуют разрешения».
Культура необходима индивиду как воздух, если он хочет осуществить свое человеческое призвание. Культура прежде всего означает образование и просвещение. Достоевский был ревностным сторонником распространения образования и просвещения в России. «Я никогда не мог понять мысли, — писал он в «Дневнике писателя» за 1876 г., — что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или сколько их там народится) будут все когда-нибудь образованы, очеловечены и счастливы».
В сложной системе символов, развернутых в романе «Идиот», большое значение отводится повторным символам книги и ножа. «Гм, — рассуждает Мышкин, во второй части романа, — Рогожин за книгой, — разве уж это не «жалость», не начало «жалости»?».
В конце романа, уже после убийства Настасьи Филипповны, тот же Мышкин спрашивает Рогожина:
«— Слушай,, скажи мне: чем ты ее? Ножом? Тем самым?» «Тем самым... — отвечает Рогожин, — я его из запертого ящика ныне утром достал... Он у меня все в книге заложен лежал...».
Небезынтересно уточнить, что книга эта — «История» Соловьева. Достоевский придавал истории большое просветительское значение и выделял ее среди всех гуманитарных наук.
Но книга не должна превращаться в книжность, считал Достоевский, и культура не должна отождествляться с ученостью, если только она неистинная ученость: «Есть некоторые жизненные вещи, которые весьма, однако, трудно понять от чрезмерной учености. Ученость, такая прекрасная вещь даже и в случае чрезмерности, обращается от прикосновения к иным живым вещам в вещь даже вредную. Не все живые вещи легко понимаются. Это аксиома. А чрезмерная ученость вносит иногда с собою нечто мертвящее. Ученость есть материал, с которым, иные, конечно, очень трудно справляются. Чрезмерная ученость не всегда есть тоже истинная ученость. Истинная ученость не только не враждебна жизни, но в конце концов всегда сходится с жизнью и даже указывает и дает в ней новые откровения. Вот существенный и величавый признак истинной учености. Неистинная же ученость, хотя бы и чрезмерная, в конце концов всегда враждебна жизни и отрицает ее».
Итак, основным признаком настоящей и плодотворной культуры писатель считает ее кровную связь с жизнью. Культура, оторванная от жизни, — «мертвящее» начало. По глубокому убеждению Достоевского, жизнь — самая великая воспитательница; задача культуры состоит в том, чтобы помочь лучше жить и лучше понять жизнь. Ведь жизнь, в крайнем случае, может заменить культуру, а обратное просто невозможно. В «Подростке», романе о воспитании, Достоевский показал, как юного героя воспитывает не школа и учителя, а сама жизнь со всеми ее темными и страшными сторонами.
Страстно звучит в конце «Записок из подполья» предупреждение героя об опасностях вырождающейся культуры, книге противопоставляется «книжка»: «Мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей «живой жизни» какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того дошли, что настоящую «живую жизнь» чуть не считаем за труд, почти что за службу... Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь и что оно такое, как называется? Оставьте нас одних без книжки, и мы тотчас запутаемся, потеряемся, — не будем знать, куда примкнуть, чего придержаться, что любить и что ненавидеть, что утверждать и что презирать? Мы даже и человеками-то быть тяготимся, — человеками с настоящим, собственным телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми общечеловеками. Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уже не от живых отцов, и это нам всё более и более нравится».
Итак, живая, настоящая культура является одновременно условием, выражением и признаком жизненности данного народа. Тут опять подчеркивается примат эстетического подхода к действительности.
Проблему гуманизма Достоевский трактовал в том же свете. XIX век был раздвоен и противоречив, это был век больших чаяний и грозных опасностей. С одной стороны, XIX век представлялся Достоевскому веком возрождения человеческого образа: «Его (Виктора Гюго. — Л. А.) мысль есть основная мысль всего искусства 19-го столетия, и в этой мысли Виктор Гюго, как художник, был чуть не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоконравственная, формула ее — восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль — оправдание униженных и всеми отринутых парий общества (...) Конечно, она не есть изобретение одного Виктора Гюго: напротив, по убеждению нашему, она есть неотъемлемая принадлежность и, может быть, историческая необходимость 19-го столетия (...) Проследите все европейские литературы нашего века и вы увидите во всех следы той же идеи, и может быть хоть к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно, в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени».
С другой стороны, XIX век таил в себе опасные зародыши насилия над человеком. Эти угрозы были художественно воплощены Достоевским в «Легенде о Великом инквизиторе» с ее зловещей программой: «чудо, тайна, авторитет». «Смысл тот, — пояснял Достоевский, — что если исказишь Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства, ум несомненно должен впасть в безверие, вместо великого Христова идеала созиждется лишь новая Вавилонская башня. Высокий взгляд христианства на человечество понижается до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом социальной любви к человечеству является уже не замаскированное презрение к нему».
Осуществимость программы Великого инквизитора уже содержится как намек в заключительной речи героя «Записок из подполья». Его заявление о вымирании живой струи культуры в упадочном обществе и об опасностях, связанных с этим процессом, как-то предвосхищает процесс вырождения гуманизма в трактовке Великого инквизитора: «...все мы про себя согласны, что по книжке лучше. И чего копошимся мы иногда, чего блажим, чего просим? Сами не знаем чего. Нам же будет хуже, если наши блажные просьбы исполнят. Ну, попробуйте, ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы... да уверяю же вас: мы тотчас же попросимся опять обратно в опеку».
Для Достоевского вопрос о гуманизме был неотделим от проблемы культуры, которая, в свою очередь, мыслилась в тесной связи с проблемой о природе человека. Живая культура приносит человеку свободу от отчуждения. Упадок культуры есть вернейший залог неизбежной опеки над человеком.
Последнее слово Достоевского о культуре и гуманизме — слово о вреде пагубности культуры, оторванной от живительных соков народного духа и творчества и об опасностях лжегуманизма, основанного на неуважении к человеку, слово о необходимости культуры, укорененной в полном и полноценном человеке, осуществляющем закон гуманизма, единственный закон сохранения людского рода.
«Всякий организм существует на земле, чтоб жить, а не истреблять себя... Наука определила так и уже подвела довольно точно законы для утверждения этой аксиомы. Человечество в его целом есть, конечно, только организм. Этот организм бесспорно имеет свои законы бытия. Разум же человеческий их отыскивает».
В такой перспективе и в таких условиях культура может идти рука об руку с наукой, в защиту и в пользу того внешнего творения природы, что именуется человеком
Источник: Вестник МГУ. Серия 7. Философия. – 1981. - № 6. – С. 82-29.













Поділитися