Сосна, которая смеялась. Часть третья
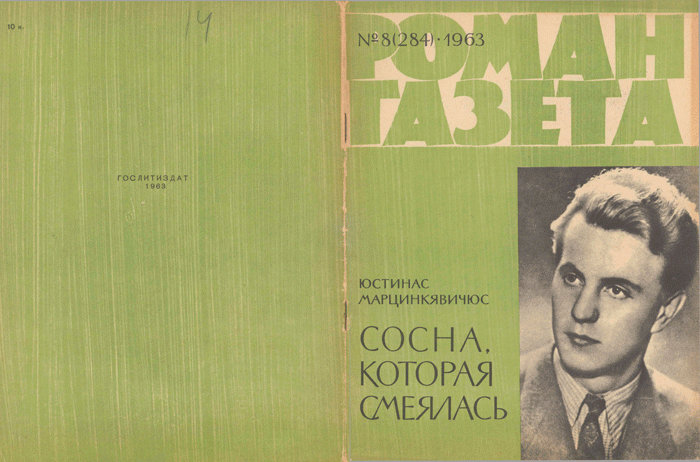
Часть третья
1
Я нарочно задержался на день в пути, чтобы застать Юле дома. Но Юле не было. Все ее вещи стояли нетронутыми. Я повалился на диван и долго лежал, уставясь в одну точку. Вот когда я действительно остался один. Жизнь жестоко наказала меня за то, что я глумился над ней, безжалостно разбивая последнюю свою иллюзию. Стеклянный колпак, который я было чуточку, только самую малость приподнял, упал обратно, и снова стало душно и тесно.
Потом мне пришло в голову, что Юле, возможно, пошла к какой-нибудь приятельнице. Я вспомнил фамилии двух ее подружек и позвонил — нет, Юле не заходила к ним. Звонил в школу, но никто не отозвался.
Я просто не знал, что делать. Наступил вечер. и мне стало страшно. Может, не следовало никуда ехать, может, надо было ждать там, у той женщины, может, Юле вернулась, может, она сидит сейчас в посыпанной песком кухне и пьет теплое, парное молоко...
Я умылся и вышел на улицу. Липы пахли медом; кругом было полно народу, и казалось, ничего не случилось. Я бродил среди прохожих, которые не знали меня, а я не знал их, — и это было все-таки лучше, чем одиночество. Я мог зайти к приятелям, мог посидеть в кафе, но там мне пришлось бы говорить. Говорить я не хотел и боялся.
Улицы вскоре опустели, у дверей магазинов уселись дежурить старушки сторожихи, из парков доносился приглушенный смех, надо было идти домой. Еще издали заметил я свет в окнах и одним духом взлетел на второй этаж. Я ничуть не сомневался, что это Юле, и даже не подумал, что скажу и как посмотрю на нее.
Я позвонил, нетерпеливо и нервно. Дверь открыл отец. Я все еще озирался, надеясь увидеть или услышать Юле. Отец, должно быть, заметил разочарование в моих глазах и спросил:
— Не ждали?
Что я мог ответить?
Он кутался в свой старый халат, хотя в комнате было жарко, и говорил усталым, равнодушным голосом — как человек, которому все опостылело.
— Не по мне эти курорты. Врачи отправили обратно — погасить свечу в своей комнате. Я решил не противиться.
Отец порылся в чемодане и осторожно вытащил репродукцию «Вечерних колоколов» Милле — мужчина и женщина, молитвенно сложившие руки под вечерним небом, а рядом корзина с картошкой и торчащая из земли мотыга, и звонят далекие, тяжелые и печальные колокола, и день закончен, и приближается ночь.
— Знаю, что это не твой стиль, — улыбнулся отец, — ведь ты активно ненавидишь ползучий реализм, — кажется, так называете вы подобные картины? Но настроения здесь хватает, и она мне очень понравилась. Возьми, сунь куда-нибудь... ,
Я взял репродукцию, и мои руки дрожали.
— А где Юле? — спохватился отец. — Я привез ей Листа, наткнулся случайно в букинистическом. Девочке должно понравиться.
— Еще не пришла, — ответил я, все еще надеясь, что вот-вот раздастся звонок, я открою дверь, и все будет, как раньше.
— Слишком долго гуляет, придется ей сказать. Она давно ушла?
— Два дня назад, — я старался говорить как можно спокойнее. .
— Как? Два дня назад? Куда?
— Она не сказала.
— Два дня? А ты разгуливаешь, ничего не говоришь и ничего не делаешь... И в кого ты уродился, не знаю!
Я пожал плечами — не мог же я сказать, почему Юле ушла и как я искал ее.
Отец сел у телефона и набрал номер отделения милиции.
— Иди спать, — зло сказал он.
Я закрылся в своей комнате.
Потом отец оделся и ушел, даже не глянув в мою сторону.
Я сидел, облокотившись на стол, и в ушах у меня на самые разные голоса — знакомые и незнакомые — звучало одно слово:
— Трус! Трус! Трус! Трус!
Казалось, весь мир собрался в моей комнате, чтобы бросить мне это слово. Люди толпились, лезли ко мне, отталкивая друг друга, и швыряли прямо в лицо:
— Трус! Трус1
Они не могли уйти, не сказав мне этого.
— Трус! — крикнул я так громко, что все смолкли и на цыпочках вышли из комнаты. Я не должен пускать их в комнату, я их очень боюсь, пусть они лучше стоят за дверью и слушают, как я твержу:
— Трус! Трус! Трус!..
Я так и заснул, облокотившись на стол, и даже во сне знал, что подсознание, как часы, выстукивает одно единственное слово.
......................................................................................................................................................................
Отец не ел, не спал, каждый час, а может быть, чаще, звонил по телефону, выходил, снова возвращался и словно не замечал меня. А я, как только оставался один и пытался забыться, слышал сперва тихое и робкое, потом- все более громкое и настойчивое:
— Трус! Трус!..
Я бежал на улицу, но среди людей становилось еще тяжелее. Казалось, они бросают мне в лицо это слово. Я снова прятался в комнате, и все было напрасно. Очевидно, я сходил с ума.
В один из дней, помнится, уже под вечер, зазвонил телефон, отец быстро выбежал из дому.
Я уже ничего не ждал и ни на что не надеялся. Идти было некуда, и делать нечего. Я сидел у стола и на большом листе бумаги выводил карандашом: «Трус, трус, трус, трус, трус...»
Да, как чистописание.
Исписав весь лист, я комкал его, бросал в корзину и брал новый.
Отец вернулся поздно вечером, встал за моей спиной и крепко сжал руками спинку стула. Я отложил карандаш и бросил исписанный лист в корзину.
— Юле уже целую неделю работает на ткацкой фабрике, — сказал отец. — И живет в общежитии. Я только что разговаривал с ней...
Я обернулся и, должно быть, усмехнулся. В душе я действительно усмехнулся, потому что мне стало гораздо легче.
Тогда отец размахнулся и дал мне пощечину. И еще, и еще... Я встал, чтобы ему было удобнее. На секунду отец опустил усталые руки, потом снова размахнулся. Он смотрел мне прямо в глаза и не узнавал. Он бил меня, как холодную, безжизненную статую, которую вылепил похожей на себя и в которую хотел теперь вдохнуть душу, чтобы статуя начала ходить и разговаривать, чтобы она познала добро и зло и стала человеком.
Запыхавшись и обессилев, отец рухнул на диван и обхватил руками голову. Он молчал, долго молчал. Я подошел и, как в детстве, когда-то очень-очень давно, поцеловал отцу руку. Он посмотрел, удивляясь и не веря, что статуя сдвинулась с места.
— Ты разрушил здание, которое я всю жизнь возводил. Я носил кирпич за кирпичом, укладывал, укреплял и надеялся, что к концу дней смогу написать большими буквами по всему фронтону: Гуманизм. Я считал это целью своей жизни, в этом видел смысл человеческого существования. Сперва мое здание разрушил фашизм, разрушил до самого фундамента, сровнял с землей. У меня еще были силы начать заново. Сейчас, когда я стар и слаб, во второй раз его рушит мой сын. Мой сын!
Отец плакал. Тихо, беззвучно, последними слезами.
— Я виноват! Я виноват! — прерывистым голосом заговорил он. — Я виноват и наказан. Я думал о всем человечестве... Человечестве!.. И не видел человека подле себя. Прости мне, сын, что я не сделал тебя человеком.
Он встал, такой маленький, старый и сгорбленный, глубоко-глубоко вздохнул и скорее простонал. нежели сказал:
— Господи, как трудно мне теперь будет умереть!
И ушел в свою комнату. А я все стоял и стоял, лицо горело, и весь я горел, но все равно стоял и ждал, когда они ворвутся и наперебой станут повторять: «Трус! Трус!..»
Но никто не пришел. Я все стоял и ждал. Очень долго ждал.
Странно, почему никто не приходит?
....................................................................................................................................................................
Было уже за полночь, когда отец позвал меня. Горел зеленоватый ночник у кровати, отец лежал на спине и тяжело дышал. Я взял его бессильно повисшую, горячую руку, отец нетерпеливо вырвал ее. Я понял, что он не позвал бы меня, будь в доме кто-нибудь еще.
— Воды! — попросил отец.
Я принес. Стакан стучал о зубы, отец жадно выпил, снова упал на подушку.
Я вызвал врача, потом побежал с рецептами в дежурную аптеку, дал телеграмму тете Юзе. Я боялся, что не успею чего-нибудь сделать, и весь дрожал.
Отец принял лекарство, ему вроде бы полегчало, и он заснул. Во сне он метался, бредил, все звал Юле и часто повторял:
— Я виноват! Я виноват...
Один раз проснулся, огляделся и совсем отчетливо сказал:
— Загляни-ка в рукопись словаря — я забыл все синонимы глагола «давать»...
Я встал, подошел к столу, но, обернувшись, увидел, что отец снова спит.
Я смотрел, как тяжело вздымается впалая грудь. Седые, сильно поредевшие волосы разметались по подушке и в зеленоватом свете ночника казались светящимся ореолом. Вот лежит человек, которого я всю жизнь называл отцом, но никогда не был ему сыном. И ничего ему не дал, только боль. Я не хотел себе признаться, но в глубине души чувствовал, что это я свалил отца в постель, с которой он уже вряд ли поднимется. Я старался вспомнить лучшие часы нашей совместной жизни, их было так немного, и все они были какие-то ненастоящие, надуманные. Мы были мужчинами, стыдились своих чувств и сдерживали их.
Я помнил отца, величавого и гордого в своем знании, и страстно хотел походить на него. Существует только знание — то единственное магнитное поле, которое может привлечь такого человека, как мой отец. Я должен был прочесть все, и еще больше, чем он. Я очень быстро убедился, что знаю куда больше своих сверстников. И уже не мог дружить с теми, кто не преклонялся передо мной. Я пошел дорогой, которая была темна и никуда не вела. И не было иного мира, кроме моего мира, и не было иной жизни, кроме моей жизни, и не было иного знания, кроме моего.
Так я остался один, и черная ночь была вокруг.
После обеда приехала тетя Юзе. Отец встретил ее посмеиваясь:
— Видишь, свалился...
— Ничего, Юргялис, подымешься. Сейчас подымешься. Я тебе чаю на липовом цвету заварю.
Отец немного поел, выпил чаю, потом заснул и проснулся, когда солнце уже садилось.
— Откройте окно! — попросил он.
Отдаленный шум улиц, смутный ропот города и голоса прохожих ворвались в отцовскую комнату. Он вслушивался, закрыв глаза, вслушивался долго...
— Подведите меня к окну. Я хочу видеть людей.
Мы придвинули стул, закутали отца в теплое одеяло и чуть ли не на руках поднесли к окну. На другой стороне улицы находился продуктовый магазин, и после работы там всегда было много людей. Одни входили, другие выходили.
Отец смотрел, подняв голову, и был очень большой и очень красивый.
Мы не заметили, как закатилось солнце.
Отец так и умер, глядя на людей.
2
Если я когда-нибудь и говорил, что одинок, то прошу вас — забудьте. Это была неправда. Только теперь я стал одиноким. И очень хочу, чтобы на этот раз вы поверили мне.
Отец умер. Юле ушла из дому — на похоронах я видел ее, заплаканную, у могилы. Тетя Юзе тоже уехала. О своих друзьях — поэте Мешкайтисе, актере Юозенасе и других — я не мог даже подумать. Мои коллеги по группе (не смею называть их друзьями) еще не вернулись с практики. Однажды я подумал, не поехать ли мне на старую турбазу заняться живописью? Но я чувствовал, что работать все равно не смогу, прежде всего мне надо об очень многом подумать.
Я слонялся один по большой квартире, ночуя то в комнате Юле, то в отцовской. Мне казалось, что там я чувствую близость этих двух людей и, может быть, лучше понимаю их. Но меня все больше манил к себе мир отца, большой и непознанный, наполненный толстыми книгами и высокими мыслями. Я окончательно переселился в отцовскую комнату.
Отец при жизни не принадлежал себе, а после смерти — тем более. Многие его записи, заметки, некоторые книги и даже письма, рабочую картотеку и рукопись неоконченного словаря взяла Академия наук.
Долгое время я не смел прикоснуться к отцовским вещам — с малых лет мне было строго-настрого запрещено приближаться к письменному столу, который всегда был завален книгами, записями, всевозможными разноцветными карточками. И мне было странно, что совсем чужие люди так вольно обращались с вещами отца, разбирали, рассматривали их и говорили о словаре, который будет заканчивать кто-то другой. Разве может кто-нибудь закончить дело, начатое другим человеком?
Однажды вечером я решился, нашел ключи и отпер письменный стол отца. В верхнем ящике я увидел старую, толстую тетрадь в черной коленкоровой обложке. Первая страница была чистой — только дата: 17 июня 1938 года. Я долго старался припомнить, где я видел эту дату, пока наконец меня не осенило: да ведь это день моего рождения!
Я перевернул страницу и начал читать.
«17 июня 1938 г.
Уже двое суток я сижу в приемном покое и до того отупел, что совсем не могу думать. Я знал или воображал, будто знаю, какое испытание ждет меня и особенно Грасиле. Но оказывается, человек никогда не может быть до конца готовым ко всему.
Говорят, после тридцати мужчина не женится по любви. В таком случае моя женитьба счастливое исключение.
К тому времени я уже защитил диссертацию, читал небольшой курс в университете, собирал материал для новой работы и, казалось, ничто не омрачало моего счастья.
Несколько лет у нас не было детей, врачи сказали, что роды для Грасиле опасны. Но Грасиле была настоящей женщиной. Жажда материнства не давала ей покоя, и она положилась на судьбу. Долго готовилась к своему подвигу, каждый день занималась специальной гимнастикой. И мы оба уверились, что все кончится счастливо. Правда, возможно, будет тяжело, но...
— Я все вынесу, — говорила Грасиле.
А если... «А если» человек говорит только по привычке, эта формула из двух словечек осталась в его сознании с незапамятных времен, когда ему приходилось заклинать судьбу. Мы никогда не поймем, что же на самом деле означает «а если», ибо никогда не узнаем, что происходит с человеком, если случается это «если».
Сейчас Грасиле рожает. Рожает третьи сутки. Я не знаю, что это такое, и ничем не могу помочь. Я могу быть только поблизости, за несколькими дверьми, но и это «поблизости» — далеко, невероятно далеко. Я даже не знаю точно, где все это происходит.
Несколько часов назад врач сказал:
— Ничем не можем помочь. Поздние роды... Кроме того, бывают такие случаи, вы сами понимаете. Вам придется выбрать: ребенок или мать.
Я должен был решить. Я еще не знал его, он не существовал для меня, мне казалось ужасной несправедливостью положить на одни весы человека и того, кого еще нет. И вообще, как можно задавать такой вопрос? Как будто я — бог, хозяин над этими двумя существами.
Но врач ждал, и я ответил:
— Мать.
Я сидел, ходил и снова сидел, и было ужасно, что все происходит без меня, хоть я и был таким могущественным, что одним словом мог предрешить: ребенок или мать.
Распахнулась стеклянная дверь, и ко мне подошло несколько человек в белых халатах.
— Поздравляем, — сказал один из них. —
Сын!
Я был настолько глуп, что усмехнулся и, счастливый, смущенный, благодарил их.
— Сердце было переутомлено затянувшимися родами и не выдержало наркоза.
Я все еще не понимал. Я ведь им ясно сказал: «Мать!»
Тогда вперед выступил седой, почтенного вида человек:
— Мать скончалась.
Они нагнули головы и один за другим тихо вышли.
Потом сестра вынесла ребенка. Наверное, для того, чтобы умерить мою боль. Пришлось нагнуться и посмотреть на него. И как только я увидел красное, сморщенное лицо, тонкие чмокающие губы, в тот самый миг я понял: ненавижу его.
В это время ребенок открыл глаза, и наши взгляды встретились.
Грасиле, родная моя Грасиле! А если бы его не было... И снова то же самое «а если», перед которым мы бессильны.
Грасиле, могу ли я еще разговаривать с тобой?..»
Я закрыл черную тетрадь и стиснул руками голову. О, как мне было страшно! Как страшно, что я только теперь увидел отца, держащего меня на руках. Не меня, а свою черную судьбу, завернутую в белые пеленки. Почему, почему я родился с ненавистной метой на лбу?
«17 июня 1948 г.
Твоему сыну исполнилось десять лет. Он растет здоровым, веселым и счастливым. Хорошо учится, и учителя довольны его поведением.
Прошла ужасная, невообразимо ужасная война. Нам, которые остались в живых, все еще трудно поверить, что мы живы. Я даже провожу какую-то аналогию между жертвой, которую принесла ты, родив мне сына, и неописуемыми муками, в которых человечество выносило на руках новое поколение. И если все те, кто сегодня умеет еще только смеяться, когда-нибудь забудут, какой ценой плачено за них, — пусть они будут прокляты!
Твой сын все еще не знает, чего он стоил. Стоил! Какое это никчемное слово, но у нас, живых, другого нет. Я все еще не нахожу в себе мужества сказать ему правду. Да он бы и не понял ее.
Иногда я сажаю твоего сына на колени и рассказываю о тебе. Но для него это лишь неинтересная сказка, в которой нет ни девятиглавого змея, ни спящей красавицы. Грасиле, разве я не люблю тебя, почему же не умею рассказывать о тебе? Я сталкиваю с колен твоего сына, он смотрит на меня и не понимает, что случилось, а мне так тяжко, так тяжко, что не знаю, как жить дальше.
Ребенок начинает понимать, что в моем сердце творится что-то неладное. А я ничего не могу поделать. Даже ради тебя, и именно ради тебя, ничего не могу поделать. Твой сын боится и избегает меня. Я вижу, как в его детских глазах разгорается недобрый огонь, который, наверное, горит и в моих глазах. И я не в силах погасить его. Нет тебя, нету твоей любви, и некому снять с наших плеч бремя отчужденности.
Я заметил, что твой сын любит рисовать. Сегодня, в день рождения, я подарил ему большую коробку акварельных красок, и мальчик сразу же сел за стол. Прошло немного времени, и он принес мне свой рисунок — три расплывшихся пятна, которые могли сойти и за деревья, и за людей.
— Это ты, это Юле, а это я, — объяснил твой сын.
— А где мама? — спросил я.
Ребенок удивленно посмотрел на меня. Я понял, что он не может нарисовать то, чего никогда не видел. Но ведь я не раз наблюдал, как он рисует сказки.
Грасиле, почему ты для него не сказка, почему в нем так долго нет тебя?»
По улице прогрохотал грузовик, на минуту оторвав меня от этой страшной тетради, каждое слово в которой было выстрадано.
«17 июня 1960 г.
Грасиле, я снова хочу поговорить с тобой.
Сегодня твоему сыну исполнилось двадцать два года, но я не знаю его. Он отдалился от меня, так и не став близким.
Я виноват. Только тебе могу сказать, как я виноват. Я ничего не делал, когда мог еще что-то изменить. Теперь я хочу любить, я мог бы любить, мне очень нужно любить, но юноша вовсе не нуждается в любви старика, доживающего последние дни. И вот я наказан, и нет у меня сына, которого ты сотворила только для себя. Мне страшно подумать, что скоро и Юле покинет меня, все ближе день, когда я должен буду открыть ей правду, и, кто знает, сможет ли она, захочет ли быть со мной после этого.
Твой сын собирается стать художником. Он учится в институте и уже думает о дипломной работе. Не знаю, все ли довольны его талантом и его поведением. Что до меня, так я недоволен.
Мне довелось всю жизнь общаться с молот дежью и учить ее. Я любил свое дело, любил своих юных друзей. Спускаясь с высоты профессорской кафедры, старался узнать, понять их. Где-то подсознательно я, должно быть, надеялся, что, общаясь с ними, легче найду путь к сердцу сына. Грасиле, я никогда не лгал тебе. Вот уже который год я ищу этот путь и цепляюсь за все, что только могу нащупать под ногами.
Я заметил, что, когда мы с гордостью произносим «наша молодежь», «наше молодое поколение», то представляем себе его, это новое поколение, каким-то единым целым. Но я боюсь, что в этом здоровом, молодом и сильном организме есть клетки, которые начинают гнить. Точно так же, как и в языке есть слова-сорняки, которые оскверняют его.
И вот эти больные клетки забыли, с какой болью, в каких муках человечество выносило их, вырастило на крови и пепле своем, показало солнце и сказало: живите! Представляешь, Грасиле, они забыли! Для меня это открытие было настолько неожиданным, что я остолбенел и пытался убедить себя — нет, нет, тебе только показалось, ты уже стар и не в состоянии всего понять...
Увы, мне не показалось, и не я один вижу это.
Молодые люди ограниченных способностей идут по пути заурядного мещанина, подыскивают удобное местечко и создают маленький мирок вещей, в котором чувствуют себя отлично, если их никто не трогает. И мне их не жаль. Во все времена были такие люди, мы только должны заботиться о том, чтобы их с каждым днем становилось все меньше.
Но мне очень больно, мне до слез жаль способных людей, лица которых как бы отмечены печатью нигилизма, мировой скорби, всеобщего отрицания и недовольства. Все, что имеет цель, направление и движение, для них — всего-навсего сумасшествие, единственная правда — это правда смерти. Жизнь — лишь краткий, захватывающий дух прыжок из неведомого в неизвестное. По сути, эти люди (я с большими оговорками называю их людьми) родственны обычным мещанам, замкнувшимся в небольшом мирке вещей.
Обычный мещанин может целыми часами стирать пыль с мира своих веющей, бесцельно перемещать их, остерегаться открытых окон и беспокойного сквозняка эпохи. У этих людей то же стирание пыли со старых, истлевших, мнимо философских систем, бесцельное перемещение черных идеек, тот же страх жизни и боязнь сквозняков, та же замкнутость в себе — что же это, как не новая метаморфоза мещанства — мещанство интеллектуальное?
Грасиле, я должен сказать тебе правду: наш сын относится к последним.
Я познакомился с его друзьями, с которыми он может ночами напролет бесцельно переставлять и перемещать еще более бесцельные идейки и кичиться своей смелостью и оригинальностью. Я, сколько мог, читал, интересовался литературой нашего сына, старался уяснить его эстетические взгляды: ведь мне нужно, мне обязательно нужно найти с ним общий язык. Должен тебе сказать, что и тут меня поразило глубокое пресыщение, своеобразная извращенность. Хочу надеяться, что это болезнь возраста, что все пройдет, но разве бывают болезни, после которых организм становится крепче?
Легче всего обвинять себя, что я и делаю. Да, я виноват в том, что не любил своего сына, не заботился и не интересовался его миром. Кое-чего я вовсе ему не дал, а кое-чем обеспечил в избытке. Сегодня мне уже ясно, что хлеба, да и не только хлеба, я давал слишком много и ни разу не сказал, сколько это стоит. Не показал ему настоящей жизни, где радость и боль идут рука об руку, где запах пота смешивается с запахом цветов, где труд и разум не отрицают друг друга, а, наоборот, создают гармоничного человека, где жизнь и смерть сплетаются в бесконечную всеобщую ткань.
Но я сделаю это, Грасиле, сделаю ради тебя. Я не могу допустить, чтобы звезда, которую ты зажгла ценой своей жизни, погасла и бесследно пропала в ночи.
Сегодня я смотрел последние картины сына. Не думаю, что мой вкус — это вкус отсталого зрителя. Картины его, как и лицо и душа, отмечены той же печатью пессимизма, отрицания, безнадежности. Самое ужасное, что написаны они талантливо. Как настоящий художник, он все пропускает через себя и отдает себя всему.
— Зачем все это? — спрашиваю я.
— А зачем обманывать и себя и других? Только трусы боятся правды и прячутся за розовыми занавесками.
Грасиле, дорогая, Грасиле, если я еще могу говорить с тобой...»
3
«Отец, если я еще могу говорить с тобой...»
Я написал эту фразу на чистой странице черной тетради, где так внезапно оборвались записки отца. Написал и почувствовал, что я еще не могу разговаривать с ним, что отец в каком-то смысле живее меня, что прежде всего мне нужно хорошенько поговорить с самим собой, а тогда уже садиться за эту тетрадь...
Вдруг, словно в большом правдивом зеркале, я увидел отца и себя. И мать, которую впервые ощутил так остро, что мог бы нарисовать. Мне еще предстоит нарисовать их обоих. Рисовать — на моем языке значит любить.
Отец, почему я не написал тебя при жизни, почему не успел даже выбрать дерево, которое было бы похоже на тебя? Сейчас мне очень хотелось бы найти тот детский рисунок, на котором акварель впервые обрела смутную форму не то дерева, не то человека. Там я узнал бы тебя и, опираясь на детское, наивное, но истинное знание, смог бы заново общаться с тобою. О, как далеко мне надо вернуться!
Это лето — мучительное и поэтому большое лето. За короткое время я несколько раз лицом к лицу столкнулся с жизнью, которую упорно старался не видеть. От этих неожиданных и постоянных столкновений раскалываются голова и сердце.
Вот я сижу на берегу реки на окраине города, где подземная труба канализации, вобравшая все нечистоты и все отбросы, выплевывает их в большую воду. А вода все течет и течет, и через несколько шагов река вновь чиста и прозрачна. Даже всем нечистотам мира не загрязнить больших настоящих рек. Но где отмыться мне?
Большое лето в муках родило что-то и кончается. Первые птицы уже потянулись в дальний путь, деревья расстаются с лаской и шепотом листьев. Всем приходится с чем-то прощаться.
Недавно я заглянул в Художественный салон, где мои товарищи устроили скромную выставку летних работ. Центром экспозиции была картина Галюнаса «Земля» (портрет). Я долго стоял перед этой еще не вполне завершенной, но и теперь уже по-настоящему хорошей работой. Широкое свежевспаханное поле: слева, на переднем плане, во все полотно, даже не умещаясь на нем, большое, серьезное лицо человека. И земля и человеческое лицо в чем-то очень схожи и уравновешивают друг друга. Удивительная внутренняя связь. И все это выполнено зрелой кистью, человеческое лицо написано рукой искусного портретиста. Смотришь и ни на секунду не сомневаешься, что существует такое лицо и такой человек.
Я полистал книгу отзывов. Записей было не много, и почти все так или иначе отталкивались от картины Галюнаса — восхищались ею, хвалили, некоторые даже претендовали на философское осмысление земли и человека. Я обратил внимание на знакомый почерк и прочел:
«Пашне не хватает навоза, а человеческому лицу — бородавок! В сортир эту мазню!»
Подпись была неразборчива — я и без нее понял, чья рука вывела эти слова. Я тоже собирался высказать несколько мыслей о картине Галюнаса, но мне стало стыдно. Первым желанием было перечеркнуть очередной призыв нашего маленького друга, но тут, как нарочно, подошла дежурная, и я подумал: пусть он сам вычеркивает из своей жизни всякий вздор. А мне есть что вычеркивать в себе, и работы этой хватит еще надолго.
Актер Юозенас наконец отвоевал приличную роль — он играл в новом спектакле молодого журналиста, который хотел перевернуть вверх ногами всю теорию и практику журналистики, но поначалу ему все не везло. Роль была не главная, но Юозенас много работал, надеясь блеснуть, покорить театр. «Думаю, что это будет последней ступенью к Гамлету», — оповестил он за кулисами.
Я получил билет на премьеру и решил пойти. В фойе встретил поэта Мешкайтиса. Молча выпили пива и отправились на свои места. Я радовался, что мы сидим не рядом.
Спектакль был средний, но Юозенас нажимал, как говорится, на все педали. Он видел на сцене только себя. Часто он даже не слышал, что и как говорят другие актеры, случалось — не давал им закончить фразу. Сцены, в которых фигурировал Юозенас, сильно смахивали на разговор едущего с идущим. «Темперамент, — говаривал Юозенас, — главное на сцене темперамент». И он кипел, горел, шипел, клокотал, летал и метался как угорелый, я даже с удивлением отметил, что он не умещается на сцене... Понимаете, сцена стала вдруг слишком тесной, и создавалось впечатление, что актер как следует работает только за кулисами.
После спектакля мы, несколько друзей, зашли поздравить Юозенаса, который все еще не мог успокоиться, бегал из комнаты в комнату, а если и стоял на месте, то норовисто топал ногами и отчаянно жестикулировал. Аланас извлек откуда-то небольшой букет, мы расцеловались, и взволнованный Юозенас пригласил нас «отметить» премьеру.
Отказаться было невозможно. Для нашего друга это был поистине большой день. По дороге мы купили кое-что — развязать языки — и по старым скрипучим ступеням взобрались на третий этаж, где Юозенас снимал комнатушку. Стены в этой мансарде были увешаны фотографиями хозяина в различных эпизодических ролях. И больше ничего.
— Послушай, у тебя нет даже Станиславского, — пошутил Гоцвингерис.
— Пусть он висит в театре, а здесь я один, — ответил Юозенас.
Я вспомнил популярное выражение Станиславского: «Любите не себя в искусстве, а искусство в себе», — и подумал, что старику было бы здесь не очень-то уютно.
Мы выпили за Юозенаса и, само собой разумеется, начался разговор о его игре.
— В первом антракте, — рассказывал Юозенас, — подбегает ко мне режиссер: «Я надену на тебя намордник! — кричит. — Ты не даешь играть остальным». — «А мое какое дело, — отвечаю. — Роль творю я, а не вы. Пускай остальные тоже поборются за место на сцене». Ну, известное дело, он взбесился и после спектакля даже не поздравил меня. Очень нужно. Чтоб ему удавиться! Я должен был показать, на что способен, не так ли, друзья?
Мы согласились — Юозенас действительно должен был показать, на что способен. Я улыбнулся, представив себе, что за зрелище было бы, начни несколько актеров по рецепту нашего друга бороться за место на сцене: дошло бы до рукопашной.
— Мне кажется, — осторожно начал я, — что режиссер имеет право предостеречь актера, когда тот выходит за пределы спектакля. Ведь он, режиссер, тоже творит. Правда, не роль, но. возможно, еще большее — целый спектакль. Так что...
— Режиссер творит, когда сидит за своим столиком в пустом зале, — перебил Юозенас. — После этого спектакль берем в свои руки мы, актеры. Понимаешь, режиссер — это как мать: помогает младенцу, а в данном случае спектаклю, сделать первые шаги. Но как только дитя начинает ходить, оно непременно вырывается из рук матери и несется черт знает куда!
— То-то и оно, что черт знает куда, — попытался возразить я. — И мать и режиссер, мне кажется, обязаны удержать младенца, чтобы он не несся без цели, а шел куда ему положено.
— «Сенуций, я не узнаю тебя», — продекламировал поэт Мешкайтис. Кажется, Петрарка. — Когда художник творит, никакие режиссеры, никакие мамки и няньки не могут, не имеют права удерживать его. Не сам ли ты недавно провозглашал высшую свободу художника? Я приветствую смелость актера Юозенаса, его страсть и темперамент. Я видел на сцене моего современника, который мечется, ищет и... не может найти. Потому что искать нечего. Ничего не найти. Дайте Юозенасу большую и пустую сцену!
Наш маленький друг впервые произнес такую длинную речь. Он выпил, хмыкнул и почувствовал необходимость сказать что-то еще.
— А что касается материнских или отцовских прав, то, как говорится, чья бы корова мычала: твой отец не очень тебя предостерег и удержал, хотя, насколько мне известно, и очень стремился к этому. Даже слишком.
Я почувствовал, что краснею, сердце начало сильно биться.
— Послушай, — счел нужным вмешаться адвокат Гоцвингерис. — Ты уж слишком... Его отец недавно умер.
Мешкайтис не остановился:
— Знаю. Ну и что? Никто не вечен в этом мире. Наш юный художник только избавился от няньки. Ты думаешь, он любил отца? Ха! Любил! Он ненавидел своего отца точно также, как наш актер режиссера.
Я вскочил, руки у меня дрожали. Вот сейчас, именно сейчас должно произойти что-то очень важное. Я размахнулся и двинул по сугубо интеллигентному лицу нашего юного друга. И вдруг каким-то внутренним взором я с испугом увидел, что это лицо не поэта Мешкайтиса, а мое, мое собственное! Господи, я хорошо знаю свое лицо, я помню его наизусть. Я дважды писал автопортрет и могу поклясться, что это было мое лицо. Сначала я испугался, потом стало стыдно, и, наконец, меня охватила слепая ярость: я хотел броситься и исколошматить это лицо только потому, что оно мое. Но поздно — вскочили возмущенные приятели, и я бросился к двери.
Уже на пороге я крикнул:
— Если это и было когда-то правдой, то теперь — ложь. Ложь! Ложь, говорю я вам!
Что ложь? То, что я ненавидел отца или что у меня с Мешкайтисом одно лицо? Что ложь?
Я украдкой глянул на Мешкайтиса, который все еще сидел на стуле, как-то странно съежившись. Нет, теперь это был Мешкайтис. И главное, мы с ним абсолютно разные. Я хочу сказать, что наши лица похожи лишь постольку, поскольку это лица двух людей.
Потом я выбежал на лестницу. Слышал, как они звали меня, но не вернулся. Я знал, что никогда больше не вернусь в тесную мансарду, увешанную изящно обрамленными фотографиями, изображающими меня самого в ничтожных, низкопробных ролях.
Мне показалось, что и зашел я туда лишь для того, чтобы теперь уйти.
4
Бежать, бежать!
Впервые в жизни накатило на меня такое. Ярость! Вот когда я по-настсящему изведал это жгучее чувство! И некуда податься: куда ни ткнешься — огонь. Огонь и огонь... Синий, жаркий, кажется, что плывешь в бесконечном океане огня — и тесно. Тесно в бесконечности, понимаете? Хочешь взорваться и не можешь. Со всех сторон давит стальной панцирь бесконечности. Тесно в комнате, тесно на улице, тесно в самом себе. Надо бежать. Стиснуть зубы, сжать кулаки и бежать, унося с собой большой синий огонь. Сто, тысячу раз правы пожарники, когда предостерегают: «Осторожно с огнем!», «Не позволяйте детям играть со спичками!»
Я замедляю шаги, прячу в карманы, руки. Надо научиться владеть ими. Ну?
И опять мое тело стремится вперед, лишь бы не отвечать.
— Не выйдет! — говорю ему и нарочно иду медленно, медленно. Всем горлом глотаю синий огонь ярости. Чувствую, как она вязкой массой заполняет сердце. Сегодня я наконец взорвусь и вдребезги разнесу бесконечность. И тогда все будет ясно.
— Только не сейчас, только не здесь, — просит какая-то половина моего тела. Я даже не знаю толком, какая — левая, правая? Знаю лишь, что она чертовски горда.
И еще я знаю, что если поддамся, то вряд ли удастся когда-нибудь взорваться и хоть что-нибудь узнать.
Сворачиваю в темный переулок. Тут есть такое место, где можно лицом к лицу встретиться с собой. Со своим богом, со своим чертом — с кем угодно.
Перелезаю через старинную, полуразвалившуюся кирпичную стену и теперь уж точно знаю, что я один.
Один? Нет, мы вдвоем, но выйти отсюда можно только одному.
И вот мы встали друг против друга.
— Ну? — говорю я с вызовом.
— Ну? — тем же голосом и тем же тоном откликается тот.
Так у нас ничего не получится. Мы никогда не начнем. Я становлюсь поудобнее и презрительно сплевываю.
— Сегодня ты уже схлопотал по морде.
— Когда?
Я:
— Там, в мансарде. Не увиливай.
Тот:
— Твои нервы чересчур напряжены в последнее время. Ты устал и начинаешь верить галлюцинациям.
Я:
— Верю только в то, что ты теперь слабее меня. После того как убежала Юле, умер отец и кончилось большое лето, ты крепко сдал.
Тот:
— Ты еще не знаешь меня.
Я:
— Я тебя видел. У тебя мое лицо.
Тот:
— Что ты собираешься сделать со мной?
Я:
— Убить тебя.
Тот:
— Убить свое лицо? Тогда ты будешь безликим и неоригинальным, как многие люди. Ты слишком велик, чтобы стать толпой.
Я:
— Ты неплохо знаешь мои слабые места.
Тот:
— И еще я знаю, что тебе все равно не удастся начать заново.
Я:
— Почему?
Тот:
— Потому... потому, что ты трус.
Я ждал этого слова. Знал, что обязательно услышу его, и был готов к этому. Зажмурившись, я изо всей силы треснул его по лицу.
Я колотил себя, задыхаясь от злобы и от боли, и в первый раз так явственно почувствовал, что человеку совсем не трудно сойти с ума.
А что мне было делать? Я давно ненавидел себя. Едва появившись на свет, с нетерпением ждал того момента, когда увижу свое лицо. Теперь я видел, теперь я очень ясно видел себя и знал, что мне необходимо взорваться. И зацепиться за то, что останется.
А тот смеялся. Смеялся тихо, чуть слышно. Такой смех куда оскорбительнее откровенного хохота. Вот так же посмеивался я, когда Галюнас показывал мне свою очередную работу: «Твоя картина так близка к действительности, даже не верится, что это картина!»
Самое обидное, что я никак не мог заставить его молчать. А слышать его смех тоже не мог. Я стоял и бранился про себя. А он все хихикал, хихикал, и тогда меня прорвало:
— Ты можешь смеяться, можешь смеяться сколько влезет. Мне абсолютно все равно. Вот нистолечко не трогает. Я тоже умею смеяться. Только не хочу. Потому что должен сказать тебе кое-что поважнее. Послушай, мне стыдно, что я не сдержался и стукнул тебя. Сначала там, в мансарде, а потом еще и здесь. Может, и не стоило. Ведь ты никчемный, несчастный больной. И никакого оригинального лица у тебя нет. Самое большее, что у тебя есть, — это индивидуальный халат и интеллектуальное одеяло. Ты кутаешься в них от всех сквозняков, от всякого воздействия. И ухмыляешься — вот как сейчас. Хорошо быть больным, когда все ходят вокруг тебя на цыпочках и то и се предлагают, а ты упрямо мотаешь головой, потому что совсем не хочешь выздороветь, потому что тебе самому ужасно нравится твоя болезнь. И ты ни капельки не стесняешься, когда сиделка подсовывает тебе под одеяло «утку», чтобы не пришлось встать с постели даже по малой нужде. А на лекарства с концентратом жизни ты просто-напросто плюешь.
Знаешь, что я с тобой сделаю? Для начала возьму за шиворот, пригну к черной земле да потычу носом — и непременно в то самое место, куда ты только что плюнул. Потом сведу в большой цех железобетонных конструкций, чтобы ты враз почувствовал всю свою никчемность, покажу кипящую в доменных печах сталь, чтобы понял наконец, какая ты ледышка. Поставлю возле электронной счетной машины, дабы усвоил большим своим умом, какой же ты все-таки дурак.
Пока ничего больше не могу тебе сказать, хоть и вижу снисходительную твою ухмылочку...
Конечно, он ухмылялся. И конечно же, рассчитывал сбить меня одним вопросом:
— А ты сам был там хоть раз? И вообще, что ты думаешь о самом себе?
Тут пришел мой черед смеяться. Господи, да ведь я-то и говорил о самом себе! Всю жизнь только и делал, только и думал, только и говорил, что о себе. И ни о ком, кроме себя. А он еще спрашивает!
Я сел на землю, привалился спиной к стене, обхватил ноги руками. Разрешите мне первый раз в жизни не думать о себе. Надоело. Понимаете, когда рану часто щупают, она не заживает. Давайте о чем-нибудь другом.
Сегодня мне не удалось взорваться. Но за себя я все-таки зацепился.
Потому и говорю: давайте о чем-нибудь другом.
5
Солнечное утро обещало погожий день. Проснулся я рано, чувствуя большую тоску по музыке. Вещи молчали, молчало и тело. Я уж и не помню, когда в последний раз слышал музыку. Наверное, очень давно, когда я еще рисовал деревья и говорил, что это люди. Не знаю, верил ли кто-нибудь в то время моим словам, но я верил. И никто, конечно, не поверил бы, если б я проговорился, что слышу музыку. Мне казалось, что все слышат ее, и ничего удивительного тут нет. Поэтому я и молчал.
Я распахнул окно. Солнце подарило осеннему городу всю свою щедрую палитру. И земля, и воздух были наполнены красками, спокойными, умными, мыслящими красками, которые одним только олимпийским спокойствием своим как бы хотели сказать, что они все знают. Знают причину и цель, знают, для чего и почему существуют. Надо только заговорить с ними, и они все скажут.
Сегодня я собирался поговорить с красками. Возможно, они и не скажут мне всего — смешно, конечно, рассчитывать на такую откровенность, но, понимаете, когда кто-то молчит, непременно хочется вызвать его на разговор.
После той памятной встречи с самим собой я еще ничего не сделал. Правду сказать, я и не надеялся тут же выдать «художественное воплощение». Нет, для меня сейчас гораздо важнее найти равновесие, уверенность, что я все-таки смогу жить.
И почему бы мне не жить?
Споря с собой, утверждая и отрицая, плача и смеясь, я должен жить. По-видимому, не так уж оригинальна и глубока эта формула, но у меня сейчас нет другой. А может быть, мне и не нужна другая.
Самое плохое не это. Самое плохое, что не могу работать.
В ту ночь мне вспомнился разговор с Навицкасом: начни с того, кого любишь. Сказать по правде, я и тогда ведь не очень противился этой мысли. Но как я мог активно принять ее и с кого должен был начать, если любил одного себя? В то время я много имел и был беден.
Начни с того, кого любишь.
Горящими глазами озирался я вокруг, шарил трясущимися руками — и ничего не находил. Кажется, я уже говорил, что «рисовать» — значит «любить». Звучит несколько претенциозно, не правда ли?
А любить мне было некого.
С людьми не посчастливилось, к вещам никогда любви не испытывал.
И вот я поймал себя на том, что все упорнее думаю о Юле. Но Юле была уже далеко. Большими шагами, смешно приподнимаясь на цыпочки, по-детски подпрыгивая и наивно удивляясь, она все шла и шла.
Со священным трепетом приступил я несколько дней назад к портрету Юле. Я знал ее наизусть, мог с закрытыми глазами нарисовать Юле в любой позе — и все-таки у меня дрожали руки. Понимаете, меня охватила трепетная радость великого открытия, казалось, я прикасаюсь к чему-то несказанно чистому, еще никем не тронутому. Ну, как бы это выразить? Похоже на то, как ранним зимним утром, после снегопада, останавливаешься изумленный в дверях, и на мгновение кажется, что сердце выпрыгнет из груди и покатится, счастливое, по белой, нереальной, впервые в мире открытой плоскости.
И вдруг приходят разочарование и горькая досада, как только со всей ясностью почувствуешь, что всего этого не будет, что сердце никогда не вырвется из грудной клетки и не покатится по белой равнине, и ничего не будет — ни радости слияния, ни счастья великого открытия.
Все пошло прахом, когда я начал искать колорит. Чего только ни пробовал, как ни бился, правды не было.
Тогда я подумал, что на земле, должно быть, просто нету красок Юле. Понимаете, они еще не открыты. Либо я вообще не знаю Юле, хоть и помню ее наизусть.
Сегодня утром я решил поохотиться за цветом и занялся своим этюдником. Дочиста выскреб палитру, в которую глубоко въелись темные, злые краски. Только не ищите за этим какого-то сокровенного смысла — они остались еще с тех времен, когда я писал «Триптих чисел» и «Первый шаг». Потом выдавил из тюбиков на чистую палитру целую радугу новых красок — свернувшись клубочком, они прилегли отдохнуть, но я видел, что они с нетерпением ждут, когда смогут потягаться с настоящими, живыми красками.
У двери кто-то позвонил. Я открыл, и вошла Юле с небольшим чемоданчиком.
Я почувствовал, что отчаянно краснею.
— Доброе утро, Ромас! — Юле старалась выглядеть веселой и беззаботной. — Я знала, что в это время тебя легче всего застать дома. Я зашла взять фотографию матери и свои книги.
— Хорошо, что зашла, — сказал я — Все на своем месте. А как ты, Юле?
—: О, я работаю у станка. Получила новый узор, очень интересный.. Представляешь, стилизованный народный орнамент... Я уже выткала — как отсюда и до... до той бензоколонки, помнишь, где мы заправлялись бензином и ты пожал руку старику? Я даже видела девушку в платье, которое сама выткала. А потом их будет еще больше. В один прекрасный день все девушки наденут платья моей работы...
— Ну, это уж ты, пожалуй, слишком... Было бы ужасно неинтересно. А как твоя консерватория?
— Не сбежит. Поработаю год, одену всех девушек, а будущей осенью наверняка поступлю. Мне ведь еще только девятнадцать.
Хорошо, когда еще только девятнадцать.
— Ты запомнила того человека у бензоколонки? Он тогда сказал: «Все путешествия хороши». Может быть, они и хороши, да не всегда счастливо кончаются.
— Над чем работаешь сейчас? — Юле перевела разговор на другое и с любопытством стала приглядываться к холсту на мольберте. К счастью, убирая комнату, я поставил начатый портрет лицом к стенке.
— Ни над чем. Еще только хочу работать.
— Это хорошо. Я тоже хочу работать. Поэтому рано встаю.
— Видно, и мне теперь придется вставать пораньше. А ты еще делаешь зарядку по утрам?
— Нет. Мы живем втроем, а комнатка маленькая. В цехе каждый день производственная гимнастика.
— Хорошо.
Мы замолчали. Я склонился над этюдником, а Юле встала на цыпочки, чтобы снять фотографию матери. Как раз у той самой стены и был мольберт. Могу ручаться, что она глянула на холст, потому что стояла теперь странно растерянная, не зная, как ей быть.
— Ну. я пошла, — сказала Юле, —а то еще опоздаю.
Я перекинул этюдник через плечо:
— Провожу немного. Мне спешить некуда.
Вышли на улицу.
Разговор не клеился. Я спросил:
— И много ты зарабатываешь?
— Хватает. К тому же я бережливая. Ты ведь знаешь.
Мы снова замолчали. Я хотел попрощаться, да все как-то не получалось. Мне казалось, будто и Юле хочет что-то сказать, да не может решиться.
— Ну вот я и пришла, — вздохнула она.
За оградой я увидел красный кирпичный корпус. А дальше был еще один, и еще. По эту сторону ограды желтел крохотный скверик, грустно доцветал осенний газон. Девушки, что пришли пораньше, стояли группками, пожилые женщины теснились на скамейках. Из столовой, прижавшейся к забору на другом конце сквера, вышло несколько мужчин, на ходу дожевывая последний кусок. Мужчины никогда не успевают позавтракать дома. Теперь они жадно затягивались первой сигареткой. Руки у всех отдыхали. У девушек — скрещенные на груди, у мужчин — в карманах брюк.
Девушка в пестрой юбке наклонилась и что-то сказала на ухо Юле, та густо покраснела. Мне почему-то показалось, что речь шла обо мне. А может быть, и не обо мне.
Ворота раскрылись, и все пришло в движение.
— Всего доброго! — крикнул я Юле.
Она стояла неподалеку и кончиком туфли выковыривала камешек. Наконец она решилась и, глядя куда-то в сторону, спросила:
— Ромас, можно я вечером посижу часок за твоим пианино? Понимаешь, у нас в клубе не подойти к инструменту.
— Приходи в любое время. Ты ведь знаешь, куда мы кладем ключ.
— Ой, вот спасибо! — и убежала.
Я сел в опустевшем сквере и сказал себе: «Ромас, мир сотворен не так уж глупо. К тому же ты еще можешь изменить его». Потом я долго думал, что же все-таки могла сказать Юле девушка в пестрой юбке. Я сидел и видел, как они стоят — одна наклонившись, другая стройная, как сосна, которая смеялась. Я вытащил из кармана блокнот и набросал карандашом композицию. Долго смотрел на рисунок, но все равно не слышал, что же шепчет на ухо Юле девушка в пестрой юбке. Я подумал, что, может быть, другие девушки, которые стояли поблизости, уловили хоть слово, и пририсовал еще три с любопытством прислушивающиеся фигуры. Но и эти то ли не знали, то ли не хотели сказать.
Тогда я огляделся — кого бы еще спросить?
К воротам подъехало несколько грузовиков. Шоферы вылезли, хлопнув дверками, собрались у одной из машин, что была новее других, и закурили. Парень в кожанке закинул ногу на крыло машины и рассказывал что-то веселое, все хохотали, запрокидывая головы, и, проглотив смех, затягивались сигаретным дымом.
Не думаю, чтобы эти парни могли мне что-нибудь сказать. Но как бы там ни было, пока ворота не закрылись, я успел схватить карандашом довольно живую композицию.
Потом заглянул в столовую, выпил стакан чаю и зарисовал скучающую буфетчицу. Она, наверное, очень много слышала и знала, но с какой стати она начнет мне все выкладывать?
Я долго не знал, чем заняться. Из маленькой будки вышел старик, провел ладонью по пышным усам, посмотрел на солнце и громко чихнул. Какое-то время мы разглядывали друг друга. Это был человек, который отворяет и затворяет ворота и знает больше всех.
— Можно я нарисую вас? — спросил я.
— Меня? — удивился старик. Он был явно польщен и поспешил согласиться, пока я, чего доброго, не передумал: — Милости просим. Вот только дежурю. Может, после работы?
— Нет, нет! Я не помешаю вам.
Старик поставил у ворот табуретку, сел и напыжился.
— Рассказали бы что-нибудь, — попросил я, желая, чтобы он почувствовал себя свободнее, и открыл этюдник. Отдохнувшие краски обрадовались солнечному свету и принялись состязаться с ним.
— Чего уж тут рассказывать — трудимся, — отозвался старик. — Тридцать годов держусь при этом красном кирпичике. Теперь его корпусом зовут. И чего я только не повидал! Ежели так, по-серьезному, рассказывать, то и с чего начать, не знаю. Погоди-ка, сынок, телефон...
Он просунул руку в открытое оконце и взял трубку.
Мне понравилась фраза — «держусь при красном кирпичике». Надо бы запомнить.
— А теперь вот у заслонки сижу...
— У какой заслонки?
— У запруды бывает вроде бы вьюшка такая. Потянешь — вода и течет. Задвинешь — останавливается река. Погоди, скоро обед, я нарочно придержу. На минутку, только показать тебе, какая она, река-то, сильная. Так и рябит в глазах, так и кипит-бурлит!
Старик оживился и, то отзываясь на телефонные звонки, то открывая и снова закрывая свою «заслонку», говорил и говорил. Я уже не слушал, только коротко поддакивал: «да-да» или выражал удивление, должно быть, не всегда к месту. Меня захватила работа. Я все думал о реке, которая, что ни день, течет через эти ворота. И каждая-каждая капля ее живет, работает, радуется и страдает, и каждая счастлива счастьем всей реки. Черт подери, над этим стоит подумать.
И Юле была со всеми: понимаете, она была и каплей и рекой. А я стоял на берегу, но мне очень хотелось плыть. У меня слегка кружилась голова, я еще не разобрался толком в смысле и направлении потока. Ах, разве не все равно! Река знает больше, чем капля.
И тут я не столько понял, сколько почувствовал, почему вдруг не получился портрет Юле: ее нельзя писать одну. Должна быть река — и не позади и не рядом, а в ней самой. Нужны такие краски, бесконечное множество красок, чтобы в портрете человека бурлила толпа, а человек все-таки не был толпой.
Я зажмурился, чтобы подольше удержать возникшее передо мной видение. Удивительно озарились лицо Юле и руки, перебирающие и гладящие широкую реку разноцветных нитей, словно струны невиданного музыкального инструмента. Какое-то мгновение я отчетливо слышал музыку. Тот самый мотив, что слышал раньше, просыпаясь.
Я вздохнул — так глубоко-глубоко, что, казалось, разорвется грудь. И в самом деле, там. внутри, что-то лопнуло и долго, невыносимо долго падало в бесконечность, которая теперь уже не стискивала меня, как тесный стальной панцирь.
И в тот же миг я понял, что теперь-то напишу портрет Юле. Обязательно напишу. Если понадобится, открою новые краски, но остановлю видение. Я сделаю все, только не оставляйте больше меня одного в этой бесконечности.
........................................................................................................................................
Я сидел в отцовском кабинете и читал, когда пришла Юле. Она скинула легкое осеннее пальтишко, потерла руки и села к пианино. Я оставил дверь комнаты открытой, чтобы слышать музыку.
Полил первый холодный и долгий осенний дождь, и Юле все не могла уйти. Я просунул голову в дверь, посмотреть, почему Юле не играет. Она спала, свернувшись клубочком на диване, и раскрытая книга лежала рядом. Я нашел одеяло, осторожно укрыл Юле и погасил свет в ее комнате.
Потом достал из стола черную тетрадь, открыл чистую страницу и написал:
«Отец, мне кажется, что теперь я могу разговаривать с тобой...»
А дождь все лил, смывая с улиц грязь, пыль и мусор. Теперь я наверняка знал, что неподалеку течет большая река, которая примет все и все равно останется чистой.
А земля была такая умная, что не противилась.
Авторизованный перевод с литовского Ф. Д е к т о р а
Вильнюс, март — апрель 1961 г.
Юстнинас Марцинкявичюс
СОСНА, КОТОРАЯ СМЕЯЛАСЬ
Зав. редакцией В. Ильинков
Редактор М. Черкасова
Художественный редактор Ю. Васильев
Технический редактор Л. Платонова













Поділитися