Природа в художественном мире О. Мандельштама
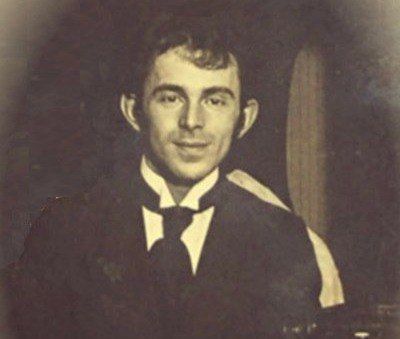
А.С. Карпов
Процесс все усиливающегося отчуждения человека (цивилизации) от природы характерен для XX века. Не было - и нет - недостатка ни в громко выражаемых восторгах, ни в горьких сожалениях по поводу сокрушительных побед на фронтах битв с природой — побед, неминуемо оборачивающихся жестокими поражениями.
Отношения человека и природы, осмысление и оценка их обусловлены прежде всего временем: слова о том, что природа не храм, а мастерская, актуализируются всякий раз, когда настойчивее других утверждается идея решительного (и непременно - ускоренными темпами) преобразования мира. Но сказав об этом, заметим, что одновременно с Маяковским (фигура в этом смысле почти знаковая), назвавшим природу всего лишь «неусовершенствованной вещью», в русской поэзии существовал Пастернак, для которого, по словам Ахматовой, природа «всю жизнь была его единственной равноправной Музой, его тайной собеседницей, его Невестой и Возлюбленной, его Женой и Вдовой...». И еще: отношение художника к природе не остается неизменным по мере его творческого развития. Пожалуй, один из наиболее ярких примеров тому - Н. Заболоцкий, который от уверенности в необходимости преобразования природы пришел к пониманию того, как важно для человека суметь усвоить ее «бессвязные и тайные уроки».
Закономерно при этом все более широкое распространение в русской поэзии XX в. урбанистических мотивов. Очевидно достаточно назвать здесь лишь одно имя - В. Брюсова. С вызовом сказано им в письме И. Бунину 28 марта
В процессе депоэтизации природы приняли участие и символисты, но еще более - акмеисты и, в особенности, футуристы: их поэзия была взращена городом, определявшим для них принципы мировидения.
В этом ряду стоит и имя О. Мандельштама. Камень, которому отведено основополагающее место в первой книге стихов поэта, выступает в качестве строительного материала, а сам поэт — не восторженный наблюдатель, стремящийся запечатлеть красоту окружающего мира, но строитель, зодчий. «Владимир Соловьев испытывал особый пророческий ужас перед седыми финскими валунами. Немое красноречие гранитной глыбы волновало его, как злое колдовство», — писал Мандельштам в программной статье «Утро акмеизма» (1912). Этому восприятию он противопоставлял свое: камень, по мнению поэта-акмеиста, «как бы возжаждал иного бытия», зазвучал. Роль города и прежде всего его архитектуры в поэзии Мандельштама весьма полно охарактеризованы в научной литературе. Опуская эту тему, заметим лишь, что здесь следует вести речь не о сфере изображения или поэтического осмысления, но — о выдвигаемой поэтом эстетической концепции мира: жизни, человека. И это в особенности справедливо по отношению к стихам, собранным в «Камне» (1913). Как верно отмечено Л. Гинзбург, «архитектурность раннего Мандельштама следует понимать широко. Он вообще мыслил действительность архитектонически, в виде законченных структур, — и это от бытовых явлений до больших фактов культуры.
Вспоминается имя не только Тютчева, к которому прямо отсылает читателя автор «Утра акмеизма», но и Соловьева, для которого «камень (растение, животное) не только существует, но и сознает свою жизнь в ее фактических состояниях». Вот одно из несомненных оснований для попытки выйти «к сильному и стройному мироощущению». Но такой выход лишь намечается: составляющие упомянутой целостности не выглядят равнозначными. В стихах «Камня» приметам, относящимся к природной сфере, отведена роль отнюдь не радующих душу деталей: «В столице северной томится пыльный тополь», «Мне холодно. Прозрачная весна В зеленый пух Петрополь одевает, Но, как медуза, невская волна Мне отвращенье легкое внушает». И даже - «Я так же беден, как природа» или еще - «Я не поклонник радости предвзятой, Подчас природа серое пятно».
Впрочем, подобное сравнение, разумеется, не может восприниматься как буквальное: природное здесь служит самохарактеристике и уже поэтому неминуемо обретает особую значительность, претендуя на роль одной из первооснов поэтического-творчества. Как программная в этом смысле прочитывается строфа:
Природа - тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.
Выраженная первой строкою мысль получит развитие при взаимоперетекании смыслов - словами об «образах гражданской мощи», ощутимых в «прозрачном воздухе», и другими. Она (идея «природы - Рима») будет утверждаться и в других стихотворениях: «Обиженно уходят на холмы...», «О временах простых и грубых...». И восхищение «твердыней», в которой реализован «тайный план» гениальных зодчих, находит великолепное поэтическое воплощение благодаря аналогичному образному ряду: «Стихийный лабиринт, непостижимый лес, Души готической рассудочная пропасть, Египетская мощь и христианства робость, С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь - отвес». Не раз встречающееся в стихах «Камня» обращение к живущему «среди веков» Риму («дивный град!» - сказано о нем) всякий раз влечет за собой слова не только о Форуме или Капитолии, о Цезаре и Августе - «С веселым ржанием пасутся табуны, И римской ржавчиной окрасилась долина...».
Так обнаруживает себя онтологическое содержание жизни, обычно затеняемое суетными заботами, которыми наполнена повседневная человеческая жизнь.
Это важно подчеркнуть: природное (равно как и общественное) - основополагающее начало человеческого бытия и потому уже занимает прочное место в сознании поэта. В «Утре акмеизма» он сказал о «физиологически-гениальном средневековье», позднее отметил, как «уважал» погоду» боготворимый им Дант, а высшее достоинство поэзии Пастернака, определяемой им как «прямое толкованье (глухарь на току, соловей по весне)», видел в том, что стихи поэта «прямое следствие особого физиологического устройства горла, такая же родовая примета, как оперенье, как птичий хохолок». Место и роль природного начала в творчестве поэта не остаются неизменными, и обусловлено это его собственной творческой эволюцией, но еще - исторически изменяющимся мировоззрением общества. Что касается первого, то здесь раньше всего следует говорить о способности поэта эстетически осваивать жизнь во всей ее целостности и полноте. Н. Струве, анализируя стихотворение «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..», обращает внимание на «некую полноту смысла» в нем, ощущаемую - и это действительно так - благодаря встречающимся здесь метафорам. Вот одна из них: «...набухание времени одновременно веселое, роковое и страшное...».
Во второй книге стихов Мандельштама собраны стихи, свидетельствующие об изменениях во взаимоотношениях поэта и мира. И дело отнюдь не сводится к проблемно-тематическому уровню - тут важнее стремление поэта взглянуть на мир непредвзятым, свободным взглядом: «От монастырских косогоров Широкий убегает луг...», «Прозрачна даль. Немного винограда. И неизменно дует ветер свежий». Умиротворенности и в этом случае нет места - умирающий Петрополь в стихах, написанных еще в
Природное начало неизменно присутствует в стихах как знак вечного. Период, итоги которому подводятся в стихах, собранных в книге «Tristia», ознаменован выходом поэта к осмыслению философии эпохи, манящей и пугающей одновременно: «В хрустальном омуте какая крутизна! За нас сиенские предстательствуют горы...». «Солнце черное» встретится в открывающем книгу стихотворении «Как этих покрывал и этого убора...», повторится в стихотворении «Эта ночь непоправима...», а в написанном позже стихотворении «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...» «вчерашнее солнце на черных носилках несут». «Слепая ласточка», появившись в стихотворении «когда Психея-жизнь спускается к теням...», станет центральным образом в стихотворении «Ласточка». Этот образный ряд может быть продолжен: «Как быстро тучи пробегают Неосвященною грядой, И хлопья черных роз летают Под этой ветряной луной», «Словно темную воду, я пью помутившийся воздух, Время вспахано плугом, и роза землею была» - строки эти, думается, не нуждаются в комментариях.
«Век мой, зверь мой» - будет сказано немногим позже: слова эти воспринимаются как ключевые для понимания не только позиции, но и поэтики Мандельштама, которая характеризуется теперь определенной жесткостью, резкостью. «Природа своего не узнает лица» - эти слова из стихотворения «Старый Крым» с наибольшей отчетливостью дают представление о происходящей в поэзии Мандельштама своеобразной образной перестройке. О характере ее позволяют судить уже начальные строки упомянутого стихотворения, где слова «холодная весна» предшествуют словам «голодный Старый Крым», а дым от очага «такой же» и вместе с тем иной, нежели прежде - «серенький, кусающийся». Даже деревья, как всегда по весне «почками набухшие на малость», воспринимаются «как пришлые», а миндаль украшен «вчерашней глупостью».
Время, о котором идет здесь речь, вызывает у поэта чувство все усиливающейся отчужденности: доказывать это давно уже нет нужды.
Дисгармоничность становится едва ли не определяющей чертой его поэтики, обусловливая тональность, образный строй стихов. Даже роза - традиционно вызывающая чувство восхищения, восторга, предстает у Мандельштама в неожиданном свете: «...Кровью набухнув венозной, Предзимние розы цветут». И открывающаяся взору картина отнюдь не радостна: «Небо, как палица, грозное, земля, словно плешина, рыжая...», «В черной оспе блаженствуют кольца бульваров...», « Боже, как жирны и синеглазы Стрекозы смерти, как лазурь черна». С обнаженной резкостью принципы, лежащие в основании образной системы, открываются в стихотворении «Преодолев затверженность природы...»:
Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон.
В земной коре юродствуют породы,
И как руда из груди рвется стон.
«Закон», который постигнут поэтом, принадлежит не природе: он продиктован рвущимся из груди стоном. Уместно - по контрасту - напомнить об иных принципах, определяющих отношение поэта к миру природы, характерных для Пастернака, признававшегося на склоне лет:
Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.
Мандельштаму такое - молитвенное! - отношение к «тайнику вселенной» не было свойственно - гармонии в окружающем его мире он не видел да и не искал. «Когда подумаешь, чем связан с миром, То сам себе не веришь: ерунда!». Не «сокровенную дрожь» ощущает поэт, а «холод пространства бесполого», ощущает «без страху, что будет и будет гроза». С. Рассадин, обращаясь к стихотворению Мандельштама «Ламарк», задерживает внимание на строках «И от нас природа отступила - Так, как будто мы ей не нужны», а далее следуют слова: «И подъемный мост она забыла , Опоздала опустить...». Так обнаруживается у поэта «ужас покинутости «на том берегу», «знак зияния», разросшийся до апокалиптических размеров».
У Мандельштама человек соотносится с природой не в родовом значении, а в конкретности своего существования. Как это происходит, например, в стихотворении , которое звучит признанием в любви к родному городу: «Узнавай же скорее октябрьский денек, Где к зловещему дегтю подмешан желток». Выразительность образов впрямую порождена душевным состоянием поэта, на долю которого выпало страшное время. Определение это принадлежит самому Мандельштаму, сказавшему: «Я трамвайная вишенка страшной поры, И не знаю, зачем я живу» — и объяснившему: «В Москве черемухи да телефоны, И казнями там имениты дни». Пожалуй, никто в тогдашней поэзии не сказал так об эпохе, которая увидена взором современника и вписана в широкую - бытийную! - раму.
В полной мере это обнаружится в стихах, составивших «Воронежские тетради». Посетившая ссыльного поэта Ахматова удивлялась: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен». Действительно, здесь он обретает даже для него прежде неслыханную творческую свободу. Окружающая действительность становилась по отношению к нему все более жестокой, и ощущение это выражено в «Воронежских тетрадях» с огромной силой. Но не менее сильно выразилось здесь чувство радостного приятия мира, существующего от века и не подвластного злой воле «кремлевского горца» или окружающего его «сброда тонкошеих вождей».
Открывается упомянутый цикл стихотворением «Чернозем» — вынесенное в название слово обретает для поэта особую значимость, сублимируя в образе «мотив «пахоты», как культурного возделывания слова и времени».
Переуважена, перечерна, вся в холе
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор, —
Комочки влажные моей земли и воли...
«Моя земля» сказано здесь, а вслед за тем появляется столь важное - и неожиданное в устах ссыльного поэта - слово «воля». Здесь в полной мере обнаруживает себя система ценностей, которой обладал Мандельштам. Представление о ней могут дать слова: «Я соглашался с равенством равнин, И неба круг мне был недугом». Из-под пера воронежского узника могли возникать дерзкие слова: «Заблудился я в небе - что делать? Тот, кому оно близко, — ответь!»
В небе, а не в «переулках лающих» или «улицах перекошенных».
«Я должен жить, хотя я дважды умер, А город от воды ополоумел» - в этих строках, которыми начинается одно из открывающих цикл стихотворений, равно важна каждая мысль: мысль о гибельности заточения, убежденность в неисчерпаемости жизни и удивление перед ее весенней - все обновляющей - силой. Лишенный «морей разбега и разлета», поэт был в состоянии преодолевать замкнутость пространства: ему открывались теперь неведомые ранее просторы, «величие равнин». И это отнюдь не метафора, когда речь идет о поэте, ощущающем, как «...Ветер служит даром на заводах, И далеко убегает гать», вглядывающемся в открывающиеся за окном дома дали: «Чернопахотная ночь степных закраин В мелкобисерных иззябла огоньках».
Собственная судьба вписывается теперь для Мандельштама в беспредельно широкий - очерчиваемый границами всего мира - круг. «Где я? Что со мной дурного? Степь беззимняя гола...» - здесь равно важны обе строки. И в другом стихотворении душевному состоянию поэта оказывается сродни окружающий его мир: «Что делать нам с убитостью равнин, С протяжным голодом их чуда?» Стоит задержать внимание на последнем слове: мир природы остается для Мандельштама безмерно богатым - здесь находит поэт силу, способную поддержать его. Как «подарок запоздалый» воспринимает зиму, поражается пробуждающейся по весне нежной клейкой зеленью («Не слишком ли великолепно От гремучего парка глазам?»).
Нужно было пройти через самые суровые испытания, сполна ощутить на себе жестокость выпавшей на его долю эпохи, чтобы в итоге придти - как это ни парадоксально - к ощущению своего кровного родства с природным миром. И тогда - сказать: «...В голосе моем после удушья Звучит земля - последнее оружье - Сухая влажность черноземных га!»
Л-ра: Филологические науки. – 2001. – № 1. – С. 22-29.
Произведения
Критика
- Мифологические антропонимы в поэзии Мандельштама
- Персонажи стихотворений раннего Мандельштама и их исторические прототипы в свете семантической поэтики
- Природа в художественном мире О. Мандельштама













Поділитися