Гайто Газданов. Ночные дороги
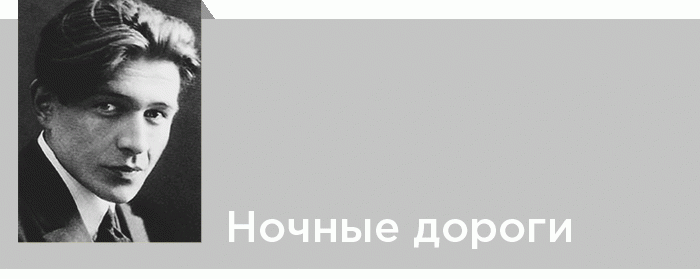
(Отрывок)
Посвящается моей жене
Несколько дней тому назад во время работы, глубокой ночью, на совершенно безлюдной в эти часы площади св. Августина, я увидел маленькую тележку, типа тех, в которых обычно ездят инвалиды. Это была трехколесная тележка, устроенная как передвижное кресло; впереди торчало нечто вроде руля, который нужно было раскачивать, чтобы привести в движение цепь, соединенную с задними колесами. Тележка с удивительной медленностью, как во сне, обогнула круг светящихся многоугольников и стала подниматься по бульвару Османн. Я приблизился, чтобы лучше ее рассмотреть; в ней сидела закутанная необыкновенно маленькая старушка; видно было только ссохшееся, темное лицо, уже почти нечеловеческое, и худенькая рука такого же цвета, с трудом двигавшая руль. Я видел уже неоднократно людей, похожих на нее, но всегда днем. Куда могла ехать ночью эта старушка, почему она оказалась здесь, какая могла быть причина этого ночного переезда, кто и где мог ее ждать?
Я смотрел ей вслед, почти задыхаясь от сожаления, сознания совершенной непоправимости и острого любопытства, похожего на физическое ощущение жажды. Я, конечно, не узнал о ней решительно ничего. Но вид этого удаляющегося инвалидного кресла и медленный его скрип, отчетливо слышный в неподвижном и холодном воздухе этой ночи, вдруг пробудил во мне то ненасытное стремление непременно узнать и попытаться понять многие чужие мне жизни, которое в последние годы почти не оставляло меня. Оно всегда было бесплодно, так как у меня не было времени, чтобы посвятить себя этому. Но сожаление, которое я испытывал от сознания этой невозможности, проходит через всю мою жизнь. Позже, когда я думал об этом, мне начинало казаться, что это любопытство было, в сущности, непонятным влечением, потому что оно упиралось в почти непреодолимые препятствия, происходившие в одинаковой степени от материальных условий и от природных недостатков моего ума и еще оттого, что всякому сколько-нибудь отвлеченному постижению мне мешало чувственное и бурное ощущение собственного существования. Кроме того, я упорно не мог понять страстей или увлечений, которые мне лично были чужды; мне, например, приходилось каждый раз делать над собой большое усилие, чтобы не считать всякого человека, с беззащитной и слепой страстью проигрывающего или пропивающего все свои деньги, просто глупцом, не заслуживающим ни сочувствия, ни сожаления, - потому что, в силу случайности, я не выносил алкоголя и смертельно скучал за картами. Так же я не понимал донжуанов, переходящих всю жизнь из одних объятий в другие, - но это по другой причине, которой я долго не подозревал, пока у меня не хватило мужества продумать это до конца, и тогда я убедился, что это была зависть, тем более удивительная, что во всем остальном я был совершенно лишен этого чувства. Возможно, что и в других случаях, если бы произошло какое-то неуловимое изменение, оказалось бы, что те страсти, которых я не понимал, тоже стали бы мне доступны, и я также подвергся бы их разрушительному действию, и на меня с таким же сожалением смотрели бы другие, чуждые этим страстям люди. И то, что я их не испытывал, было, быть может, всего лишь проявлением инстинкта самосохранения, более сильного во мне, по-видимому, чем в тех моих знакомых, которые проигрывали свои жалкие заработки на скачках или пропивали их в бесчисленных кафе.
Но бескорыстному моему любопытству ко всему, что окружало меня и что мне с дикарской настойчивостью хотелось понять до конца, мешал, помимо всего остального, недостаток свободного времени, происходивший в свою очередь оттого, что я всегда жил в глубокой нищете и заботы о пропитании поглощали все мое внимание. Однако это же обстоятельство дало мне относительное богатство поверхностных впечатлений, какого у меня не было бы, если бы моя жизнь протекала в иных условиях. У меня не было предвзятого отношения к тому, что я видел, я старался избегать обобщений и выводов: но, помимо моего желания, вышло так, что два чувства овладевают мною сильнее всего, когда я думаю об этом - презрение и жалость. Сейчас, вспоминая этот печальный опыт, я полагаю, что я, может быть, ошибался и эти чувства были напрасны. Но их существование в течение долгих лет не могло быть ничем преодолено, и оно теперь так же непоправимо, как непоправима смерть, и я не мог бы от них отказаться; это было бы такой же душевной трусостью, как если бы я отказался от сознания того, что глубоко во мне жила несомненная и непонятная жажда убийства, полное презрение к чужой собственности и готовность к измене и разврату. И привычка оперировать воображаемыми, никогда не происходившими, по-видимому, в силу множества случайностей - вещами, сделала для меня эти возможности более реальными, чем если бы они происходили в действительности; и все они обладали особенной соблазнительностью, несвойственной другим вещам. Нередко, возвращаясь домой после ночной работы по мертвым парижским улицам, я подробно представлял себе убийство, все, что ему предшествовало, все разговоры, оттенки интонаций, выражение глаз - и действующими лицами этих воображаемых диалогов могли оказаться мои случайные знакомые, или почему-либо запомнившиеся прохожие, или, наконец, я сам в качестве убийцы. В конце таких размышлений я приходил обычно к одному и тому же полуощущению-полувыводу, это была смесь досады и сожаления по поводу того, что на мою долю выпал такой неутешительный и ненужный опыт; и что в силу нелепой случайности мне пришлось стать шофером такси. Все или почти все, что было прекрасного в мире, стало для меня точно наглухо закрыто - и я остался один, с упорным желанием не быть все же захлестнутым той бесконечной и безотрадной человеческой мерзостью, в ежедневном соприкосновении с которой состояла моя работа. Она была почти сплошной, в ней редко было место чему-нибудь положительному, и никакая гражданская война не могла сравниться по своей отвратительности и отсутствию чего-нибудь хорошего с этим мирным, в конце концов, существованием. Конечно, это объяснялось еще и тем, что население ночного Парижа резко отличалось от дневного и состояло из нескольких категорий людей, по своей природе и профессии чаще всего уже заранее обреченных. Но кроме того, в отношении этих людей к шоферу всегда отсутствовали сдерживающие причины - не все ли равно, что подумает обо мне человек, которого я больше никогда не увижу и который никому из моих знакомых не может об этом рассказать? Таким образом, я видел моих случайных клиентов такими, какими они были в действительности, а не такими, какими они хотели казаться, - и это соприкосновение с ними, почти всякий раз, показывало их с дурной стороны. При самом беспристрастном отношении ко всем, я не мог не заметить, что разница между ними была всегда невелика, и в этом оскорбительном уравнении женщина в бальном туалете, живущая на Avenue Henri Martin, немногим отличалась от ее менее удачливой сестры, ходившей по тротуару, как часовой, от одного угла до другого; и люди почтенного вида на Passay и Auteuil так же униженно торговались с шофером, как выпивший рабочий с Rue de Belleville; и доверять никому из них было нельзя, я в этом неоднократно убеждался.
Я помню, как в начале шоферской работы я остановился однажды у тротуара, привлеченный стонами довольно приличной дамы лет тридцати пяти с распухшим лицом, она стояла, прислонившись к тротуарной тумбе, стонала и делала мне знаки; когда я подъехал, она попросила меня прерывающимся голосом отвезти ее в госпиталь; у нее была сломана нога. Я поднял ее и уложил в автомобиль; но когда мы приехали, она отказалась мне платить и заявила вышедшему человеку в белом халате, что я своим автомобилем сбил ее и что, падая, она сломала ногу. И я не только не получил денег, но еще и рисковал быть обвиненным в том, что называется невольным убийством. К счастью, человек в белом халате отнесся к ее словам скептически, и я поспешил уехать. И впоследствии, когда мне делали знаки люди, стоящие над чьим-нибудь распростертым на тротуаре телом, я только сильнее нажимал на акселератор и проезжал, никогда не останавливаясь. Человек в прекрасном костюме, вышедший из гостиницы Клэридж, которого я отвез на Лионский вокзал, дал мне сто франков, у меня не было сдачи; он сказал, что разменяет их внутри, ушел - и больше не вернулся; это был почтенный, седой человек с хорошей сигарой, напоминавшей по виду директора банка, и очень возможно, что действительно директор банка.
Однажды, после очередной клиентки, в два часа ночи, я осветил автомобиль и увидел, что на сиденье лежит женская гребенка с вправленными в нее бриллиантами, по всей вероятности фальшивыми, но вид у нее был, во всяком случае, роскошный; мне было лень слезать, я решил, что возьму эту гребенку позже. В это время меня остановила дама - это было на одной из авеню возле Champs de Mars - в собольем sortie de bal {Женская вечерняя накидка (фр.).}; она поехала на авеню Foch; после ее ухода я вспомнил о гребенке и посмотрел через плечо. Гребенки не было, дама в sortie de bal украла ее так же, как это сделала бы горничная или проститутка.
Я думал об этом и о многих других вещах почти всегда в одни и те же утренние часы. Зимой было еще темно, летом светло в это время и никого уже не было на улицах; очень редко встречались рабочие - безмолвные фигуры, которые проходили и исчезали. Я почти не смотрел на них, так как знал наизусть их внешний облик, как знал кварталы, где они живут, и другие, где они никогда не бывают. Париж разделен на несколько неподвижных зон; я помню, что один из старых рабочих - я был вместе с ним на бумажной фабрике возле бульвара de
Я помню, что одно время меня особенно интересовал маленький, невзрачный человек с усиками, довольно чисто одетый, похожий по виду на рабочего и которого я видел примерно каждую неделю или каждые две недели, около двух часов ночи, всегда в одном и том же месте на Avenue de Versailles, на углу, напротив моста Гренель. Он обычно стоял на мостовой, возле тротуара, грозил кому-то кулаками и бормотал едва слышно ругательства. Я мог только разобрать, как он шептал: сволочь!.. сволочь!.. Я знал его много лет всегда в одни и те же часы, всегда на одном и том же месте. Я заговорил наконец с ним, и после долгих расспросов мне удалось выяснить его историю. Он был по профессии плотник, жил где-то возле Версаля, в двенадцати километрах от Парижа, и мог приезжать сюда поэтому только раз в неделю, в субботу. Шесть лет тому назад он вечером повздорил с хозяином кафе, которое находилось напротив, и хозяин ударил его по физиономии. Он ушел и с тех пор затаил против него смертельную ненависть. Каждую субботу он приезжал вечером в Париж; и так как он очень боялся этого ударившего его человека, то он ждал, пока закроется его кафе, пил, набираясь храбрости, в соседних "бистро" один стакан за другим, и когда, наконец, его враг закрывал свое заведение, тогда он приходил к этому месту, грозил незримому хозяину кулаком и шепотом бормотал ругательства; но он был так напуган, что никогда не осмеливался говорить полным голосом. Всю неделю, работая в Версале, он с нетерпением ждал субботы, потом одевался по-праздничному и ехал в Париж, чтобы ночью, на пустынной улице, произносить свои едва слышные оскорбления и грозить в направлении кафе. Он оставался на авеню Версаль до рассвета - и потом уходил по направлению к порт Сен-Клу, время от времени останавливаясь, оборачиваясь и помахивая маленьким, сухим кулаком. Я зашел потом в кафе, которое держал его обидчик, застал там пышную рыжую женщину за прилавком, которая пожаловалась на дела, как всегда. Я спросил ее, давно ли она держит это кафе, оказалось, что три года, она переехала сюда после смерти его прежнего владельца, который умер от апоплексического удара.
Около четырех часов утра я обычно ехал выпить стакан молока в большое кафе против одного из вокзалов, где знал всех решительно, начиная от хозяйки, старой дамы, с трудом жевавшей сандвич вставными зубами, до маленькой пожилой женщины в черном, которая не расставалась с большой клеенчатой сумкой для провизии, она постоянно таскала ее с собой; ей было лет пятьдесят. Она обычно тихо сидела в углу, и я недоумевал, что она здесь делает в эти часы: она была всегда одна. Я спросил об этом у хозяйки: хозяйка ответила, что эта женщина работает, как другие. В первое время такие вещи удивляли меня, но потом я узнал, что даже очень пожилые и неряшливые женщины имеют свою клиентуру и нередко зарабатывают не хуже других. В эти же часы появлялась смертельно пьяная, худая старуха с беззубым ртом, которая входила в кафе и кричала: "Ни черта! - и потом, когда нужно было платить за стакан белого вина, которое она пила, она неизменно удивлялась и говорила гарсону: "Нет, ты перегибаешь". У меня создалось впечатление, что других слов она вообще не знала, во всяком случае, она никогда их не произносила. Когда она приближалась к кафе, кто-нибудь, оборачиваясь, говорил: "Вот идет Ничерта". Но однажды я застал ее в разговоре с каким-то мертвецки пьяным оборванцем, который крепко держался двумя руками за стойку и покачивался. Она говорила ему - такими неожиданными в ее устах - словами: "Я тебе клянусь, Роже, что это правда. Я тебя любила. Но когда ты в таком состоянии..." И потом, прервав этот монолог, она снова закричала: ни черта! Затем она исчезла в один прекрасный день, в последний раз прокричав - ни черта! - и больше никогда не появлялась; несколько месяцев спустя, заинтересовавшись ее отсутствием, я узнал, что она умерла.
Раза два в неделю в это кафе являлся человек в берете, с трубкой, которого называли м-р Мартини, потому что он всегда заказывал мартини, это происходило обычно в одиннадцатом часу вечера. Но в два часа ночи он был уже совершенно пьян, поил всех, кто хотел, и в три часа, истратив деньги обычно около двухсот франков, - он начинал просить хозяйку отпустить ему еще один мартини в кредит. Тогда его обычно выводили из кафе. Он возвращался, его снова выводили, и потом гарсоны просто не пускали его. Он возмущался, пожимал покатыми плечами и говорил:
- Я нахожу, что это смешно. Смешно. Смешно. Все, что я могу сказать.
Он был преподавателем греческого, латинского, немецкого, испанского и английского языков, жил за городом, у него была жена и шесть душ детей. В два часа ночи он излагал философские теории своим слушателям, обычно сутенерам или бродягам, и ожесточенно с ними спорил; они смеялись над ним, помню, что они особенно хохотали, когда он наизусть читал им шиллеровскую "Перчатку" по-немецки, их забавляло, конечно, не содержание, о котором они не могли догадаться, а то, как смешно звучит немецкий язык. Я несколько раз отводил его в сторону и предлагал ему ехать домой, но он неизменно отказывался, и все мои доводы не оказывали на него никакого действия; он был, в сущности, доволен собой и, к моему удивлению, очень горд, что у него шесть человек детей. Однажды, когда он был еще наполовину трезв, у меня был с ним разговор; он упрекал меня в буржуазной морали, и я, рассердившись, закричал ему:
- Разве вы не понимаете, черт возьми, что вы кончите больничной койкой и белой горячкой и ничто вас от этого уже не может удержать?
- Вы не постигаете сущности галльской философии, - отвечал он.
- Что? - сказал я с изумлением.
- Да, - повторил он, набивая трубку, - жизнь дана для удовольствия.
Только тогда я заметил, что он пьянее, чем мне показалось сначала; оказалось, что в этот день он явился часом раньше, чем всегда, чего я не мог учесть.
С годами его сопротивляемость алкоголю уменьшилась, так же, как его ресурсы, его вообще перестали пускать в кафе; и в последний раз, когда я его видел, гарсоны и сутенеры стравливали его с каким-то бродягой, стремясь вызвать между ними драку, потом их толкнули обоих, они упали, и м-р Мартини покатился по тротуару, затем на мостовую, где и остался лежать некоторое время, - под зимним дождем, в жидкой ледяной грязи.
- Это, если мне не изменяет память, вы называете галльской философией, - сказал я, поднимая его.
- Смешно. Смешно. Очень смешно - все, что я могу сказать, - повторил он, как попугай.
Я усадил его за столик.
- У него нет денег, - сказал мне гарсон.
- Если бы только это! - ответил я.
М-р Мартини вдруг протрезвился.
- В каждом случае алкоголизма есть какое-то основание, - сказал он неожиданно.
- Может быть, может быть, - рассеянно ответил я. - Но вы, например, отчего вы пьете?
- От огорчения, - сказал он. - Моя жена презирает меня, она научила моих детей презирать меня, и единственный смысл моего существования для них это, что я даю им деньги. Я не могу этого вынести и вечером ухожу из дому. Я знаю, что все потеряно.
Я смотрел на его залитый грязью костюм, ссадины на лице, сиротливые, маленькие глаза под беретом.
- Я думаю, что уже ничего нельзя сделать, - сказал я.
Я знал в этом кафе всех женщин, проводивших там долгие часы. Среди них бывали самые разнообразные типы, но они сохраняли свою индивидуальность только в начале карьеры, затем, через несколько месяцев, усвоив профессию, становились совершенно похожими на всех других. Большинство было из горничных, - но бывали исключения - продавщицы, стенографистки, довольно редко кухарки и даже одна бывшая владелица небольшого гастрономического магазина, историю которой знали все: она застраховала его на крупную сумму, потом подожгла, и так неловко, что страховое общество отказалось ей заплатить; в результате магазин сгорел, а денег она не получила. И тогда они с мужем решили, что она будет пока что работать именно таким образом, а потом они опять что-нибудь откроют. Это была довольно красивая женщина лет тридцати; но ремесло это настолько захватило ее, что уже через год разговоры о том, что она опять откроет магазин, совершенно прекратились, тем более что она нашла постоянного клиента, почтенного и обеспеченного человека, который делал ей подарки и считал своей второй женой; он выходил с ней в субботу и в среду вечером, два раза в неделю, и потому в эти дни она не работала. Моей постоянной соседкой по стойке была Сюзанна, маленькая и густо раскрашенная белокурая женщина, очень склонная к особенно роскошным платьям, браслетам и кольцам; один передний зуб в верхней челюсти она сделала себе золотым, и это так нравилось ей, что она поминутно смотрелась в свое маленькое зеркальце, по-собачьи поднимая верхнюю губу.
- Красиво все-таки, - сказала она однажды, обратившись ко мне, - не правда ли?
- Я нахожу, что глупее не бывает, - сказал я.
С тех пор она стала относиться ко мне с некоторой враждебностью и изредка задевала меня. Особенное ее презрение выказывало то, что я пил всегда молоко.
- Ты все молоко пьешь, - сказала она мне дня через три, - не хочешь ли моего?
Она очень любила перемены, иногда пропадала на несколько ночей - это значило, что она работала в другом районе, потом, однажды, исчезла на целый месяц, и когда я спросил гарсона, не знает ли он, что с ней стало, он ответил, что она устроилась на постоянное место. Он сказал иначе, именно, что у нее теперь постоянное положение, - и оказалось, что она поступила в самый большой публичный дом Монпарнаса. Но она и там не удержалась, ей нигде не сиделось. Она была еще очень молода, ей было двадцать два или двадцать три года.
За кассой, каждую ночь, с восьми часов вечера до шести часов утра, сидела сама хозяйка этого кафе, которое стоило несколько миллионов. В течение тридцати лет она спала днем и работала ночью; днем ее заменял муж, почтенный старик в хорошем костюме. У них не было детей, не было даже, кажется, близких родственников, и всю свою жизнь они посвятили этому кафе, как другие посвящают ее благотворительности, или служению Богу, или государственной карьере; никуда не ездили, никогда не отдыхали. Впрочем, однажды хозяйка не работала около двух месяцев - у нее была язва желудка, она пролежала это время в кровати. У нее давно было очень крупное состояние, но оставить работу она не могла. По внешнему виду она походила на любезную ведьму. Я разговаривал с ней несколько раз, и она рассердилась на меня однажды, когда я ей сказал, что ее жизнь, в сущности, так же загублена, как жизнь м-р Мартини. "Как вы можете меня сравнивать с этим алкоголиком?" - и я вспомнил, с некоторым опозданием, что людей, способных понимать сколько-нибудь беспристрастное суждение, особенно касающееся их лично, существует ничтожнейшее меньшинство, может быть, один на сто. Самой мадам Дюваль ее жизнь казалась законченной и полной определенного смысла - ив какой-то степени это было верно, она была действительно законченной и даже совершенной по своей полной бесполезности. Теперь предпринимать что бы то ни было было уже слишком поздно. Но она никогда не согласилась бы с этим. "Вот, мадам, когда вы умрете..." - хотел я сказать, но удержался, решив, что из-за отвлеченного, в сущности, вопроса не стоит портить с ней отношений. И я сказал, что, может быть, я ошибаюсь и что мне так кажется потому, что сам я чувствовал бы себя неспособным к такому тридцатилетнему подвигу. Она смягчилась и ответила, что, конечно, далеко не всякий может это сделать, но что зато она теперь уверена в одном: конец своей жизни она проживет спокойно - так, как будто теперешний ее возраст, ее последние шестьдесят три года были не концом, а началом ее жизни. Я мог ей многое возразить и на это, но промолчал.
Позднее я понял, что она ни в какой степени не была исключением, ее пример был чрезвычайно характерен; я знал миллионеров с грязными руками, трудившихся по шестнадцати часов в день, старых шоферов, у которых были доходные дома и земли и которые, несмотря на одышку, изжогу, геморрой и вообще почти отчаянное состояние здоровья, - все же продолжали работать из-за лишних тридцати франков в день; и если бы их чистый заработок опустился до двух франков, они все равно работали бы до тех пор, пока в один прекрасный день не могли бы встать с кровати, и это был бы их кратковременный отдых перед смертью. Один из гарсонов этого кафе был тоже замечателен: это был счастливый человек. Я узнал это однажды, во время короткого философского разговора, который начал какой-то пожилой мужчина неопределенного вида, кажется, бывший шофер. Он заговорил о лотерее и сказал, что она похожа на солнце; как солнце вращается вокруг земли, так крутится колесо лотереи.
- Солнце не вращается вокруг земли, - сказал я ему, - это не точно; и лотерея не похожа на солнце.
- Солнце не вращается вокруг земли? - спросил он иронически. - А кто тебе это сказал?
Он говорил совершенно серьезно; тогда я его спросил, грамотен ли он вообще, и он обиделся на меня и все пытался узнать, откуда у меня могут быть более достоверные сведения о небесной механике. Авторитета ученых он не признавал и уверял, что они знают не больше нас. Тут в разговор вмешался гарсон, который сказал, что все это не важно, а важно, чтобы человек был счастлив.
- Я никогда таких людей не видел, - сказал я.
И тогда он с некоторой торжественностью в голосе ответил, что мне, наконец, предоставляется эта возможность, потому что в данную минуту я вижу счастливого человека.
- Как? - сказал я с изумлением. - Вы считаете себя совершенно счастливым человеком?
Он объяснил мне, что это именно так: оказывается, у него всегда была мечта - работать и зарабатывать на жизнь - и она осуществлена: он совершенно счастлив. Я внимательно на него посмотрел: он стоял в своем синем переднике, с засученными рукавами, за влажной цинковой стойкой; сбоку слышался голос Мартини, - смешно, смешно, смешно, - справа кто-то хрипло говорил: "Я тебе говорю, что это мой брат, понимаешь?" Рядом с моим собеседником, который был убежден во вращении солнца вокруг земли, толстая женщина - белки ее глаз были покрыты густой сетью красных жилок - объясняла своему покровителю, что она не может работать в этом районе. "Не нахожу и не нахожу". И в центре всего этого стоял гарсон Мишель; и желтое его лицо было действительно счастливо. "Ну, милый мой, поздравляю", - сказал я ему.
И уже уехав оттуда, я все вспоминал его слова: "У меня всегда была одна мечта, всегда: зарабатывать на жизнь". Это было еще более печально, пожалуй, чем Мартини, или мадам Дюваль, или толстая Марсель, которая не находила клиентов на Монпарнасе; и ее дела были действительно плохи, пока какой-то догадливый человек не сказал ей, что ее красота несомненно будет оценена в другом районе, с менее рафинированной клиентурой, именно на Центральном рынке; и она действительно стала работать там; через полгода я видел ее в одном кафе Бульвара Севастополь, она еще больше раздобрела и была гораздо лучше одета. Я рассказал о счастливом гарсоне одному из моих алкогольных собеседников, которого прозвище было Платон - за склонность к философии: это был еще не старый человек, проводивший каждую ночь в этом кафе, у стойки, за очередным стаканом белого вина. Подобно Мартини, он окончил университет, жил одно время в Англии, был женат на красавице, был отцом прекрасного мальчика и обеспеченным человеком; я не знаю, как и почему все это очень быстро отошло в прошлое, но он оставил семью, родственники от него отказались, и он остался один. Это был милый и вежливый человек; он был довольно образован, он знал два иностранных языка, литературу и в свое время готовил даже философскую тезу, не помню точно какую, чуть ли не о Беме; и только в последнее время память его стала сдавать и губительные последствия алкоголя начали сказываться на нем достаточно явственно - чего не было в первые годы нашего знакомства. Жил он на очень незначительную сумму денег, которые ему тайком давала его мать, - и этого хватало только на один сандвич в день и белое вино.
- А ваша квартира? - спросил я как-то.
Он пожал плечами и ответил, что он за нее вообще не платит и что, когда хозяин пригрозил ему репрессиями, Платон ответил, что если тот что-нибудь против него предпримет, то он подожжет шнурок от патрона с динамитом и взорвет дом и таким образом, в некотором роде, пойдет навстречу требованиям хозяина, - который жил там же, - потому что после этого ему уже никогда не придется заботиться о какой бы то ни было квартирной плате какого бы то ни было из своих жильцов. Платон рассказывал это тихим голосом, совершенно спокойно, но с такой непоколебимой искренностью и уверенностью, что я ни на минуту не усомнился в его готовности это сделать. Самым странным, однако, мне казалось, что Платон имел архаические, но очень твердые убеждения государственного порядка, все должно было основываться, по его словам, на трех принципах: религия, семейный очаг, король. "А алкоголизм?" - спросил я, не удержавшись. Он совершенно спокойно ответил, что это второстепенная и даже необязательная подробность. "Вот вы, например, не пьете, - сказал он, но это мне не мешает вас рассматривать как нормального человека; конечно, жаль, что вы не француз, но это не ваша вина". К счастливому гарсону он отнесся скептически и сказал, что к таким примитивным существам неприложимы наши представления о счастье; но он допускал, что по-своему гарсон мог быть счастлив, - как собака, или птица, или обезьяна, или носорог, - под утро Платон начинал говорить вещи несуразные; это был удивительный по своему неожиданному спокойствию бред, но понятия его путались, он сравнивал Гамлета с Пуанкаре и Вертера с тогдашним министром финансов, который был толстым стариком, идеально далеким от какого бы то ни было сходства с Вертером, в каком бы то ни было отношении. Я знал наружность этого министра, потому что как-то стоял со своим автомобилем в очереди у Сената, в котором происходило ночное заседание, и все мои товарищи надеялись, что будут развозить сенаторов; был уже пятый час утра. Но в последнюю минуту во двор Сената въехало несколько автобусов, на которых сенаторы отбыли домой. Когда последний автобус с надписью "цена проезда 3 франка" уже отходил, из двора Сената вышел министр финансов и, увидя отходящий автобус, побежал за ним сколько было сил; я не мог удержаться от смеха, но мои товарищи ругали его последними словами за скупость. С той ночи я хорошо запомнил - я видел его тогда совсем вблизи - его фигуру, живот, одышку, расстегнутую шубу, в которой он был тогда, и беспокойно-тупое выражение его лица.
Я разговаривал с Платоном о счастливом гарсоне в ночь с субботы на воскресенье. Это бывала самая беспокойная ночь в неделю; в кафе появлялись совершенно неожиданные посетители, большинство было пьяных. Унылый старик, с седыми усами, пел срывающимся голосом бретонские песни; двое бродяг спорили по поводу какого-то прошлогоднего, насколько я понял, инцидента; одна из постоянных посетительниц кафе, женщина удивительной некрасивости, с плоским, лягушечьим лицом, но считавшаяся хорошей работницей, говорила, приблизившись вплотную к пятидесятилетнему человеку с почетным легионом, - ее кто-то напоил в эту ночь: "Ты должен же меня понять, ты должен же меня понять", - и слушавший ее совершенно посторонний мужчина, особенного типа энергичного пьяницы, наконец, не выдержал и сказал: "Нечего тут понимать, ты просто стерва и больше ничего". Какой-то худощавый пожилой человек с выражением неподдельной тревоги в глазах пробился сквозь толпу и стал просить мадам Дюваль, чтобы она разрешила ему вскарабкаться наверх, по одной из колонн кафе, - только до потолка и обратно, - вы видите, мадам, я совершенно корректен. Только один раз, мадам, только раз... - и плотный метрдотель вывел его из кафе и предложил ему, уже на улице, попробовать влезть на фонарный столб. Снаружи, вдоль запотевших стекол кафе, время от времени, проходили два полицейских, - как тень отца Гамлета, - сказал я Платону. Потом в туманном и холодном рассвете субботние посетители кафе исчезали; мутно горели фонари над тротуарами, на поворотах скользкой мостовой шуршали шины редких автомобилей.
- Каждое утро я благодарю Господа, - сказал Платон, с которым мы вышли из кафе, - за то, что он создал мир, в котором мы живем.
- И вы уверены, что Он действительно хорошо сделал?
- Я убежден в этом совершенно, как бы я ни был несчастен и пьян, сказал он со своим всегдашним спокойствием.
Я проводил его до угла Avenue de Maine, по дороге он говорил о Тулуз-Лотреке и Жерар де Нерваль, и я сразу представил себе ужасную смерть Нерваля, маленькую и тихую уличку возле Шатлэ, и висящее его тело, и эту, явно выдуманную чьей-то чудовищной фантазией, черную шляпу на голове повешенного.
Я имел возможность проводить иногда несколько часов этом кафе, потому что ставил автомобиль у вокзала, в ожидании первого поезда, который приходил в половине шестого утра; и от двух часов ночи до этого поезда, когда другие шоферы играли в карты или спали в машинах, я предпочитал уходить в кафе или гулять, если была хорошая погода, только это вынужденное бездействие дало мне возможность гаже познакомиться со всеми клиентами этого кафе. Оно было почти всегда вознаграждено; каждую ночь я уходил оттуда все более и более отравленным - и мне понадобилось все-таки несколько лет для того, чтобы впервые подумать о всех этих ночных жителях как о живой человеческой падали, - раньше я был лучшего мнения о людях и несомненно сохранил бы много идиллических представлений, которые теперь навсегда недоступны для меня, как если бы зловонный яд выжег во мне ту часть души, которая была предназначена для них. И эта мрачная поэзия человеческого падения, в которой я раньше находил своеобразное и трагическое очарование, перестала для меня существовать, и я полагаю теперь, что ее возникновение было основано на незнании и ошибке, которая оказалась такой непоправимой для Жерара де Нерваль, упомянутого Платоном на нашем утреннем разговоре. И люди, создавшие ее, и которых тянуло туда, как их тянет смерть, лишены даже того утешения, что, умирая, они видели вещи такими, какими они были действительно и какими они их описали; их заблуждение было столь же несомненно, сколь несомненно было, что влюбленный в бывшую владелицу гастрономического магазина почтенный человек, с которым она выходила по средам и субботам, был неправ, считая ее своей второй женой.
И, может быть, следовало позавидовать двум клиентам Сюзанны, которых я однажды видел; оба были хорошо одеты и, по-видимому, состоятельны, и оба вошли в кафе, одинаково улыбаясь и одинаково опираясь на белые палки; они были слепые. Сюзанна подсела к ним, и я со стороны смотрел на них троих и представлял себе, как должен для них из темноты звучать голос и смех Сюзанны. Затем они ушли втроем в гостиницу, расположенную напротив, и Сюзанна их бережно, - потому что это были клиенты, - переводила через площадь. Через час они вернулись; слепые еще остались сидеть за столиком, а Сюзанна подошла к стойке и стала рядом со мной.
- Все молоко? - спросила она.
- Они не могли оценить твою красоту, - сказал я, не отвечая, - и подумать, что они даже твоего золотого зуба не видели.
- Это верно, - ответила она и вдруг с неожиданным и детским любопытством в глазах сказала, что они ее, конечно, не могли видеть, но зато ощупали всю и что ей было щекотно. Проходя мимо них, я остановился на секунду; на их розовых лицах была та беззащитная и особенная улыбка, которая характерна только для слепых.
Как и в прежние периоды моей жизни, в Париже мне удавалось лишь изредка и на короткое время увидеть то, в чем я был вынужден жить, со стороны, так, как если бы я сам не участвовал в этих событиях. Это было, как воспоминания о некоторых пейзажах, результатом какого-то зрительного постижения, которое потом уже навсегда оставалось в моей памяти; и как воспоминание о запахе, оно было окружено целым миром других вещей, сопутствовавших его появлению. Оно возникало обычно, не выходя из длинного ряда предыдущих видений, только прибавляясь к нему, и отсюда появлялась возможность сравнения различных и последовательных жизней, которые мне пришлось вести и которые казались мне далекими и печальными, независимо от того, происходило ли это теперь или много лет тому назад. И тогда трагическая нелепость моего существования представала передо мной с такой очевидностью, что только в эти минуты я отчетливо понимал вещи, о которых человек не должен никогда думать, потому что за ними идет отчаяние, сумасшедший дом или смерть. Но, как это ни странно, за такими мыслями никогда не следовала идея самоубийства, которой я был совершенно чужд, всегда, даже в самые страшные моменты моей жизни; и я знал, что ее не нужно было смешивать с тем постоянным и жгучим желанием каждый раз, когда из туннеля к платформе подходил поезд метро, - отделиться на секунду от твердого, каменного края перрона и броситься под поезд, таким же движением, каким с трамплина купальни я бросался в воду. Но вот прошли тысячи поездов, и каждый раз, когда я спускаюсь на платформу метро, я испытываю нелепое желание улыбнуться и сказать самому себе - здравствуйте, в интонации которого были бы одновременно и насмешка и уверенность в том, что все остальные поезда метрополитена так же пройдут мимо меня, как предыдущие. Это чувство - тянет сделать одно и на этот раз действительно последнее движение - я знал давно; оно же охватывало меня, когда я ехал на автомобиле вдоль хрупких перил моста через Сену и думал; еще немного нажать на акселератор, резко повернуть руль - и все кончено. И я поворачивал руль на несколько дюймов и тотчас же выправлял его, и автомобиль, дернувшись в сторону перил, выпрямлялся и продолжал свой прежний безопасный путь. А в тот раз - знойную и черную ночь в Константинополе, - когда мне грозила действительная опасность падения с шестого этажа, этого чувства у меня не было, а было непреодолимое желание спастись во что бы то ни стало. Я попал тогда в отчаянное положение. Был громадный пожар в азиатской стороне города, и из моего окна на четвертом этаже я видел только густое, красное зарево; дом, в котором я жил, находился на Пера, в центре европейского квартала. Я решил подняться на крышу и довольно легко добрался туда с глухой каменной площадки, окруженной с четырех сторон стенками, высота которых доходила мне до уровня глаз. Я выбрался оттуда на черепичную, почти плоскую крышу и пошел по ней в том направлении, откуда, по моим расчетам, должен был быть хорошо виден пожар. Зарево действительно стало несколько ярче, и в нем стал проступать черный фон, но все-таки даже самого пламени нельзя было увидеть. Постояв минут десять, я пошел обратно. Была совершенно туманная ночь, не было ни звезд, ни луны, я шел наугад и не думал, что могу ошибиться. Наконец я дошел до края площадки и стал спускаться, спиной вперед. Когда край крыши был на уровне моих глаз, я вытянул носки ног; но пола под ними не было. Это меня удивило, я опустился ниже, потом, наконец, повис на вытянутых руках, держась пальцами за черепицу, но пола опять не достал. Тогда я повернул с усилием голову вбок и посмотрел вниз: очень далеко, в страшной, как мне показалось, глубине тускло горел фонарь над мостовой; а я висел над задней, глухой и совершенно ровной стеной дома, над шестиэтажной пропастью. Рубашка на мне с неправдоподобной быстротой стала влажной. Я держался за черепицу мне сразу показалось, что она скользит и сползает, - одними пальцами и не мог рассчитывать ни на чью помощь. В первую секунду я испытал необыкновенный ужас. Затем я стал подниматься наверх. Перед этим в Греции, с одним из моих товарищей, я тренировался, чтобы поступить в цирк акробатом, и то, что для среднего человека было бы невозможным, мне было сравнительно нетрудно. Прижимаясь к стене лицом и грудью, я подтянул тело наверх, захватил черепицу уже на сгиб сначала правой, затем левой кисти, потом медленно, без того ритмического и почти необходимого толчка, который делается в гимнастических упражнениях, но которым здесь я не мог рисковать, так как секундная потеря равновесия грозила мне падением, я поднял локоть правой руки и сразу поднялся на несколько сантиметров - все остальное было уже легко; но я еще отполз по крыше некоторое расстояние, чтобы удалиться от края. Потом я без труда нашел площадку и спустился к себе в комнату: из зеркала на меня глядело мое лицо, искаженное, запачканное известкой, с совершенно чужими глазами. Это все было много лет тому назад, но я помню этот взгляд сверху на тусклый фонарь, над неровными камнями мостовой - один из тех вечных пейзажей утопающего в глубокой ночи города, которые потом я столько раз видел в Париже. И в минуты редких и внезапных просветлений мне начинало казаться совершенно необъяснимым, почему я ночью проезжаю на автомобиле по этому громадному и чужому городу, который должен был бы пролететь и скрыться, как поезд, но который я все не мог проехать, - точно спишь, и силишься, и не можешь проснуться. Это было почти такое же мучительное ощущение, как невозможность избавиться от груза воспоминаний; в противоположность большинству моих знакомых, я почти ничего не забывал из того, что видел и чувствовал; и множество вещей и людей, из которых теперь уже некоторых давно не было в живых, загромождали мои представления. Я запоминал навсегда однажды увиденное лицо женщины, помнил свои ощущения и мысли чуть ли не за каждый день на протяжении многих лет, и единственное, что я забывал с легкостью, были математические формулы, содержание некоторых, давно прочитанных книг и учебников. Но людей я помнил всех и всегда, хотя громадное большинство их не играло в моей жизни важной роли.
Произведения
Критика
- «Держался он вызывающе...» (Г. Газданов — литературный критик)
- История одного совпадения
- «Рождению мира предшествует любовь...» (Заметки о романе «Полет»)













Поділитися