Мысль художника (О повестях Эм. Казакевича)
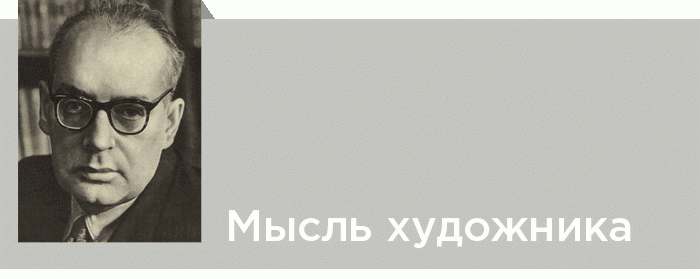
В. Сурвилло
В чем сила воздействия на читателя маленькой «Звезды» Казакевича? Перечнем возможных ответов на этот вопрос начиналась одна из первых статей о ней. Поставлены ли в повести проблемы, до нее не выдвигавшиеся? Таких небывалых проблем нет. Было ли в судьбах героев нечто неслыханное, прежде неведомое? И этого нельзя сказать. Может, в характерах есть исключительное, незнакомое ранее? Нет и этого. Простота повествования? Мало ли повестей, написанных не менее просто, но оставляющих равнодушным читателя. Привычные в критическом обиходе ответы, для других случаев вполне пригодные, на этот раз, как убедительно показал критик, оказались неудовлетворительными.
Недостаток всех этих ответов — в их однозначности. В «Звезде» проблемы словно бы, верно, и не новы, но освещены они и решены совершенно своеобразно. Судеб таких многое множество, но раскрывается в них свое, неповторимое. И в совсем обычных характерах проявляется такое, с чем знакомиться еще не доводилось. Простота? Сказать, что повесть написана удивительно просто, — ничего не сказать. Надо обязательно добавить, чтобы сказать правду: и удивительно сложно.
В цельном единстве образа выразилось простое и сложное чувство народа: небывалая прежде, небывалой победой вызванная гордость своей силой — и тяжелое горе, принесенное неслыханными утратами.
Первые страницы «Звезды»: командир дивизии хочет и не хочет встречи с противником. Он не хочет самому себе признаться, что мечтает о приостановке наступления. Не хочет признаться, так как это противоречит страстному желанию всей страны. И как только он получает сведения о противнике, тотчас отдает приказ о сближении с ним. Встречи с противником желает и не желает и Травкин. Не желает, а скачет во весь опор, хотя нет никакого приказа, на поиски исчезнувшего противника. Оттого и отыскивали в повести, даже в этой повести, получившей всенародное признание и вызвавшей горячую любовь, черты фатальной обреченности. И чем дальше идти в повесть, тем чаще возникают возможности для такого рода разысканий. Всего только и нужно для этого, что выдернуть ту или иную пригодную для цели нить — ту, например, что Травкин, перед тем как идти в тыл врага, испытывал бездну сомнений и неуверенности. Или ту, что у его товарищей сжимались сердца от жалости и тревоги за него. При этом, правда, следовало пропустить строки о том, как негодовал на эту тревогу и жалость Травкин, как думал про себя: «Подождите, друзья, еще вас переживу». И не следовало при этом обращать внимание на его ликование: «Пройти такой передний край, а затем начиненные немцами леса и потом связаться по радио и передать своим об этих немцах, — нет, так стоит жить!» Но выборочное чтение вообще не редкость в критике, а по отношению к произведениям Казакевича оно применялось очень часто. И не только для надобностей осуждения.
В самых доброжелательных статьях можно неожиданно обнаружить странную убыль в содержании повести, возникающую при вполне положительной оценке произведения. В «Истории русской советской литературы» напечатано: «Даже ограниченность времени действия повести — всего четыре дня — имеет существенное значение в реализации замысла: ведь это четыре дня войны! Малое как органическая часть великого — вот, пожалуй, в чем состоит идейно-художественная концепция повести, выраженная и в ее сюжете и во всех элементах повествования». Для этой концепции понадобилось изъять три четверти повествования: четыре дня герои повести находились в тылу противника, а время действия повести — несколько месяцев, и рассказано о них в одиннадцати главах повести, а не в двух, принятых во внимание. Ошибка вовсе не арифметическая только. Нельзя понять того, что произошло в четыре дня, если не постичь всего, что произошло за предшествующие месяцы.
А что произошло?
«Погоняя лошадь, всматривался Травкин в безмолвную даль древних лесов. Ветер свирепо дул ему в лицо, а кони казались птицами. Запад озарился кровавым закатом, и, как бы догоняя этот закат, неслись на запад всадники».
Это разведчики мчатся на поиски исчезнувшего противника. Строки эти часто цитировались. На них обратили внимание, как на пример высокого романтического стиля. Не обратили, однако, внимания, на какой лошади скакал Травкин. Между тем автор трижды на протяжении повести привлекает к ней внимание читателя. Она с отметиной: это была гнедая лошадь с белым пятном на лбу. Когда Травкин возвращался, чтобы доложить о найденном противнике, он «стегнул большую гнедую лошадь с белым пятном на лбу».
Откуда она у Травкина?
Перед тем как отправиться на поиск, разведчики останавливались на отдых в западноукраинской деревне, в избе старухи. Старуха была странная. У нее один сын ушел в бандиты, а другой был партизаном. Старуха, мать партизана, гостеприимно приняла и накормила разведчиков. Она же, мать бандита, угрюмо молчала при попытках солдат заговорить с ней. Когда Травкин попросил у крестьян дать на день лошадей разведчикам, они охотно согласились. Отдала лошадь и старуха. Ее лошадь и была с белой отметиной. Лошадей разведчики согласно уговору отослали обратно, но не всех сразу. Двух Травкин задержал еще на день, потом отправил и их с сержантом Мамочкнным. Травкин не подозревал, что Мамочкин в деревню их не доставил. Он сдал их внаем одному хуторянину, с которого потом аккуратно взимал обильную дань продуктами. Перед самым уходом в тыл противника Мамочкин в последний раз был у хуторянина. Он и тогда обратил внимание на большую гнедую кобылу с белым пятном на лбу. Снова напоминание: эта лошадь принадлежала той странной старухе.
История, поучительная для тех, кто прошел вопреки воле автора мимо «некрасивого дела», как оно названо в повести. По-видимому, они сочли его пустяком, помехой для восприятия романтики. Всплывает это «дело» в последний раз в последний из четырех дней, о которых будто только и рассказывает повесть.
Пришли те четыре дня.
«Надев маскировочный халат, крепко завязав все шнурки — у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, разведчик отрешается от житейской суеты, от великого и от малого. Разведчик уже не принадлежит ни самому себе, ни своим начальникам, ни своим воспоминаниям. Он подвязывает к поясу гранату и нож, кладет за пазуху пистолет. Так он отказывается от всех человеческих установлений, ставит себя вне закона, полагаясь отныне только на себя. Он отдает старшине все свои документы, письма, фотографии, ордена и медали, парторгу — свой партийный или комсомольский билет. Так он отказывается от своего прошлого и будущего, храня все это только в сердце своем.
Он не имеет имени, как лесная птица. Он вполне мог бы отказаться и от членораздельной речи, ограничившись птичьим свистом для подачи сигналов товарищам. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств — духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга вынашивающим одну мысль: свою задачу.
Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц только двое: человек и смерть.
Цитировались часто и эти строки. Они также приводились как образец романтического стиля.
Что, если взглянуть на них со стороны их философского содержания? Тогда придется установить: с той точки зрения, какая здесь предложена, человек просматривается как существо асоциальное, стоящее вне всяких человеческих норм, как человек по ту сторону добра и зла, — словом, как человек философии ницшеанской. Человек, не имеющий человеческого имени, не нуждающийся в человеческой речи, безраздельно слитый с природой, биологический; антропологический человек в чистом виде. Лесной дух, леший — это будет сказано и раз и два.
Правда, есть в этом описании и такая строчка: храня прошлое в сердце своем. Но эта строчка, если ее, единственную среди многих, не потерять, вступает в противоречие со всеми остальными, с тем, например, утверждением, что человек не подвластен даже своим воспоминаниям. Как примирить это противоречие?
Его не надо примирять. Оно должно работать:
Слишком часто злоупотребляла критика такими объяснениями встреченных — кажущихся или действительных — противоречий: писатель не видит, не понимает, недопонимает. А если - видит?
В данном случае умысел несомненен. Таков замысел — воспользоваться особенностями реальной, конкретной ситуации, чтобы направить мысль читателя в сторону враждебной философии.
Замысел опасный: нельзя оставить эту философию позади героев в неприкосновенности, не разрушенной ими. Она угнездится. Уже и так усматривали мистический смысл в словах о древней игре со смертью. А как ее разрушить, опровергнуть? Советские разведчики в дальнейшем повествовании будут действовать с исключительным мужеством. Но мужества не лишены и вражеские разведчики. Советские разведчики выполнят задание, не пощадят себя, чтобы выполнить долг. Но долг выполняют и вражеские разведчики. Как-то было высказано мнение, что Казакевич в «Звезде» «не нуждается... в столкновении двух идеологий». Нет, нужда в таком столкновении самая насущная.
Это столкновение происходит.
На второй день страшной «игры со смертью», уже после того, как разведчики передали по радио первые важные сообщения и испытали вопреки подстерегающей на каждом шагу смерти торжествующую радость жизни — «нет, так стоит жить!», — они захватили «языка». Немец дал ценные сведения. Все, что от него можно было добыть, добыто; ни взять его с собой, ни оставить его здесь живым разведчики не могут. Немец понял, что пришел его смертный час. Задрожав, он взмолился: он рабочий и сын рабочего, он показал свои руки и, умоляя поверить ему, взывал — не к лесному духу, не к тому, кто отрекся от прошлого и будущего, нет, он взывал к коммунисту, он бередил хранимое в сердце советского человека. Он сказал: «Господин коммунист, товарищ, я рабочий». Он был наборщиком из Лейпцига.
Травкин, с детства воспитанный в любви и уважении к рабочему человеку, поставлен перед тяжким испытанием: внять мольбе, внять тому, что хранится в сердце? Или отвергнуть мольбу, отвергнуть социальные чувства? В такой неожиданной и острой форме происходит столкновение двух идеологий: той, которая проступила в описании сборов в поход и освобождала от всех человеческих установлений, и той, в которой взращен советский человек.
В числе разведчиков был Аниканов. Травкин относился к нему с особым уважением, он был его надежной опорой. Человек-громадина, философ и жизнезнавец — так называет его автор.
«Вот он показывает свои, мозолистые руки и говорит: я, дескать, рабочий, — задумчиво сказал Аниканов. — Значит, знает, что у нас уважают рабочего человека, знает, с кем воюет, и воюет же все-таки...»
Немец прочитал в глазах Травкина жалость и непреклонность. Он зарыдал, «увидев смерть в образе этого юного красавца лешего, с большими жалостливыми и непреклонными глазами».
Непреклонность требовала кары, жалость была оттого, что смерти обрекался рабочий человек. И в жалости и в непреклонности социальное чувство, их вызвавшее, едино. Непререкаемость человеческих установлений, власть моральных норм не была поколеблена. Сокрушительный удар был нанесен идеологии асоциальности.
Еще более неожиданным и не менее драматичным был другой эпизод.
Это произошло на четвертый день пребывания разведчиков в тылу врага, в последний час их жизни. Задание было полностью выполнено. «Звезда» передала «Земле» все сведения. Немцы уже обречены, все они, «жрущие, горланящие, загадившие окружающие леса, все эти Гилле, Мюлленкампы, Гаргайсы, все эти карьеристы и каратели, вешатели и убийцы — идут по лесным дорогам прямо к своей гибели, и смерть опускает уже на все эти пятнадцать тысяч голов свою карающую руку».
Разведчики возвращаются. Они идут, обессиленные, шатаясь, как пьяные. Внезапно прозвучал хриплый голос Мамочкина. Бия себя в грудь, он сказал: «Я тех двух лошадей не довел в деревню, а внаем сдал, за продукты...»
Травкин молчит. Но когда слышит: «Простите, товарищ лейтенант. Если приду здоровым...» — он обрывает Мамочкина и произносит безжалостный приговор своему товарищу: «Придешь здоровым — пойдешь в штрафную роту».
Преступление Мамочкина отвратительно не только корыстными побуждениями, но и своими последствиями, своим политическим и социальным смыслом: оно не могло не поддержать мать бандита против матери партизана, не могло не посеять недоверия крестьян к своим освободителям. Все так. И все же... какая еще нужна штрафная рота в дополнение к тому, что переживает и совершает Мамочкин в эти дни и часы рядом с Травкиным... «Травкин же в минуту, хуже которой не бывает, угрожает Мамочкину именно штрафной ротой. Травкин здесь оказывается во власти каких-то абстрактных представлений и о долге, и о его «искуплении». Так говорит критик.
А что переживает Мамочкин — не в эти дни, а в это мгновение, как только слова неумолимого приговора прозвучали? С ним происходит непонятное:
«— И пойду! С удовольствием пойду! И я знал, что вы так скажете! Знал, что вы все равно так скажете! — восторженно вскричал Мамочкин. И он сжал руку Травкина в почти истерическом припадке непонятной благодарности и самозабвенной любви».
Здесь, как это часто бывает, о непонятности сказано, чтобы заставить задуматься, понять, дан и ключ для понимания. Этот ключ — «все равно», особо выделенное одинаковой фразой, без этих слов и с ними.
Все равно — несмотря на то, что над разведчиками нависла смертельная опасность и как никогда жизнь всех зависела от поведения каждого. Все равно — несмотря на то, что сказанная правда была вопиюще невыгодна и приговор мог оттолкнуть и — как знать — заронить мысль о предательстве. Все равно — несмотря на то, что люди здесь вне всяких установлений.
Правдивость Травкина, ненавидевшего ложь, его строгие моральные правила, его честность, бескорыстие, преданность долгу всегда восхищали самого Мамочкина, нечистого на руку человека. И то, что Травкин и теперь не поколебался сказать правду, то, что и здесь, на «другой планете» (из переживаний разведчиков до перехода переднего края: «Чем ближе к переднему краю, тем напряженнее и сдавленнее воздух, словно это атмосфера не Земли, а какой-то неизмеримо большей неведомой планеты»), здесь, в «мировом пространстве» («люди чувствовали себя словно затерянными в мировом пространстве»), Травкин верен земным законам, что для него остались незыблемыми нормы земной морали, — это и вызвало в Мамочкине восторг и прилив самозабвенной любви и благодарности.
В тылу у противника решалась не только боевая задача. Там решалась и философская проблема: социальное — это лишь одеяние, которое можно сбросить, сдать на хранение, или это человеческая сущность? Проблема коренная в идеологической борьбе.
Необычна и очень драматична философская роль сюжета следующей повести Казакевича — «Двое в степи». Не менее драматична, чем судьба повести.
Вот схематическое изложение ее сюжета: трагическая вина — смертный приговор — страх, безысходность, отчаяние — жизнь над бездной смерти, вживание в смерть — обретение свободы в приятии смерти.
Поразительное совпадение: это же изложение экзистенциалистской философии, ее сути, ее квинтэссенции. Как это могло произойти?
Если это произошло по замыслу, по плану, то это план засады. Высшим идеалом экзистенциализма является обретение подлинной свободы в свободном выборе смерти. Кульминацией повести является момент, когда герой испытывает небывалое чувство свободы в добровольном выборе смерти. Но если даже совпадение с экзистенциализмом здесь случайно, непреднамеренно, — спор с ним знаменателен. Именно в этом пункте и должна произойти решающая схватка двух мировоззрений, двух концепций жизни.
Что переживает Огарков после вынесения ему смертного приговора? На допросе он признал вину в том, что не доставил приказа об отступлении дивизии, которой угрожало окружение, признал, что содержание приказа ему было известно. Приговор он принял внешне спокойно. Это было спокойствие затуманенного сознания. Обрывки путаных мыслей лезли ему в голову, «чтобы прикрыть, затуманить главную и самую страшную мысль». Мысль о смерти? Нет, главная мысль билась еще до приговора. Не она главная, а главная какая-то другая. Потом, в арестантской землянке, снова: «Долго его мысли вертелись вокруг да около той, главной мысли, которая еще не то, что не доходила, а словно билась о его сознание, как волна о стеклянную перегородку». Производятся как бы анатомические срезы сознания, чтобы добраться до его центра. «Эта спасительная стеклянная перегородка выросла вокруг самого центра сознания в момент, когда были произнесены те слова». Слова приговора? Нет, те слова были произнесены до приговора. Здесь они не названы.
Еще и еще раз о главной мысли: перегородка «спасала от непосредственного взрыва боли, который неминуемо произошел бы при соприкосновении мягкой младенческой ткани сознания с бурлящей, горькой и смертельно-едкой волной главной мысли». И опять ни главная мысль, ни те слова не названы.
Перегородка обрушилась, когда вспомнилась мать. «Что будет с мамой, когда она узнает о своем сыне, — не о том, что он погиб, а о том, как он погиб, — вот что было важнее всего».
Важнее всего, важнее смерти — позор, бесчестие. В воспоминании о матери это открылось ему. Это и была та главная мысль. Когда ему сказали о смерти, он молчал; когда он понял, что у него отнимают честь, произошел взрыв. Он зарыдал и закричал неистово: «Пустите меня! Я должен им все сказать». Что он может сказать? Он скажет, что судили кого-то другого, что он, Сережа Огарков, «не кто-нибудь другой, не посторонний», он тот, кто готов все отдать всем. Все отдать всем — вот это он будет защищать, в этом его честь, это его сущность.
Пусть запросят его полк. Он стал перебирать фамилии тех, кого надо запросить — майора Габидуллина, Кузина, Дубового, Валю, — его однополчан, тех, кому он не доставил приказ и кого, быть может, нет в живых. Мысль о том, что они погибли, подкралась к нему незаметно, и только тогда он понял прежде прозвучавшие для него отвлеченно те слова, сказанные майором из оперативного отдела: «Мы потеряли эту дивизию».
Те слова и та главная мысль соединились, это ошеломило и сломило его: он, готовый все отдать всем, всех погубил. Тем самым он утратил честь, утратил свою сущность. Огаркову нечего сказать трибуналу. Наступила мертвая оцепенелость.
Когда Джурабаев, его суровый конвоир, сказал ему «иди», он послушно пошел. «Стреляйте же!» — крикнул он вне себя, когда затянувшееся ожидание смертельного выстрела в затылок стало невыносимым. Но Джурабаев вел его не на расстрел, он уводил его от немцев. Начались долгие поиски ушедшей вперед части.
Сколько разноречий было у критиков в толковании душевного состояния Огаркова В скитаниях по степи! Из сложных переживаний героя каждый выбирал то, что ему казалось наиболее пригодным для сокрушения повести.
Огарков хочет жить, жить во что бы то ни стало, — утверждал один. А в повести Огарков мечтал быть убитым вражеской пулей и видел в этом счастье.
Смертнические настроения, — констатировал другой. А Огарков, украдкой от Джурабаева выполнивший задание случайного командира, возвращался, восхищаясь и радуясь. Он возвращался к Джурабаеву — значит, к смерти. Но вело его вернувшееся на какое-то мгновение чувство, от которого он был отрешен, — чувство чести: он не мог обмануть доверия пославшего его командира. Он как бы хлебнул этого чувства пересохшим от жажды ртом.
«Его одиночество и порожденные этим одиночеством пассивность, обреченность, окрашивающие все его поступки...» Это Огарков в критической статье. А в повести Огарков ползет по изрытому воронками полю под обстрелом немецких минометов, выполняет боевое задание, получает благодарность и не может унять своей радости. Трижды отражены остервенелые атаки фашистов. «А все же мы их здорово били, — говорил он, - крепко повоевали ведь, правда? Бесстрашные мы люди — верно ведь?» Это рывок к утраченной сущности, возвращенное ненадолго чувство чести. Зов конвоира отрезвляет Огаркова, он останавливается как вкопанный, потом опускает голову и идет дальше отяжелевшим шагом.
Безысходно одиночество героя в критических статьях. А в повести, оказавшись в саперном батальоне, «этот высокий славный юноша всем здесь пришелся по душе своим открытым нравом и честной работой»: «Останемся с ними, а?» — умоляет юноша своего конвоира.
Конвоир лишь качает головой, и снова двое бредут по степи — молчаливый и угрюмый Огарков, молчаливый и грустный Джурабаев:
У Дона Джурабаев был убит.
Порывы Огаркова к жизни были рывками из отчаяния, из вживания в смерть, какое должно было бы быть его железным уделом согласно экзистенциалистской философии; следовательно, эти порывы были и ударами по этой философии. Но эти удары не могли быть решающими. Огарков всякий раз, когда ему представлялась возможность свободного выбора, выбирал не свободу от каких бы то ни было моральных норм, как надлежало бы по экзистенциалистскому учению, а выбирал подчинение моральным нормам. Это оттого, объяснит экзистенциалист, что он не мог выйти из-под иллюзорной зависимости от общества, порвать с иллюзией закономерности, живым воплощением которой был Джурабаев: его присутствие мешало Огаркову постичь ту истину, что человек не зависит ни от чего. Но вот Джурабаева не стало. Теперь торжество экзистенциализму обеспечено: Огарков порвет с внутренним рабством, станет свободным в выборе, выберет смерть и в этом выборе обретет подлинную свободу и счастье. Так по экзистенциализму.
Огарков, предоставленный самому себе, свободный в выборе, действительно выбрал смерть и тогда действительно почувствовал никогда не испытанное им безграничное чувство свободы. Экзистенциализм торжествует? Преждевременное торжество!
Прежде всего кто такой Джурабаев для Огаркова? Сначала он суровый и неусыпный страж при осужденном на казнь военном преступнике. Затем этот справедливый и добрый человек, объявленный критикой — в отрыве от текста повести — «психологически неподвижной экзотической маской», стал его товарищем, проникся к нему любовью. Полюбил и Огарков. Когда Джурабаев погиб, Огарков сочувствовал, что утратил опору. Джурабаев был свидетелем его мужества, честности и верности воинскому долгу, и, если бы он довел осужденного до штаба, его свидетельство было бы лучшей защитой Огаркова перед трибуналом, приговор которого еще не был утвержден. Джурабаев был простым и честным человеком, а не фатальной силой, каким рисовала его вопреки автору критика. Не фатальная сила, а друг, уже это одно разрушало экзистенциалистские притязания на него.
Писатель продолжает анализировать работу человеческого сознания — это тот главный метод, каким Казакевич пользуется для воплощения образной идеи. Вскоре после того, как Огарков похоронил Джурабаева и почувствовал себя человеком, лишенным жизненной опоры и какой-либо видимой цели, он случайно нащупал в кармане своей гимнастерки приговор. Он прочитал его «внимательно и подробно, почти по складам». Теперь иное чувство овладело им: Джурабаева нет, он, Огарков, свободен. «Горькая, но буйная радость охватила Огаркова». Он скомкал приговор и отшвырнул его. В этот момент он услышал обращенный к нему хриплый голос пьяного дезертира: большой краснолицый человек с пьяной ухмылкой простирал к Огаркову руки, «словно жаждал обнять и облобызать его, быть с ним вместе».
Быть с ним вместе... С минуту Огарков и тот человек внимательно смотрели в глаза друг другу. Потом Огарков подобрал с земли смятый приговор и, не оглядываясь, ушел.
Советские войска уже переправились за Дон. Мост был взорван. Он решил переправиться через реку вплавь. Женщина отдала ему свою лодку.
И вот тогда, когда он плыл к людям, вынесшим ему смертный приговор, его где-то на середине реки охватило чувство безграничной свободы, незнакомое ему никогда прежде. Ему захотелось, чтобы хоть на мгновение увидела его теперь мать, увидел Джурабаев, химинструкторша Валя из полка, где он служил, чтобы видели его командиры частей, к которым он с Джурабаевым примыкал в пути, женщина из трибунала, допрашивавшая его. «Чтобы все они видели, что он не жалкий беглец, убегающий от смерти, а человек, сознающий свою вину и готовый держать за нее ответ». (В журнальном варианте: «Чтобы все они видели, что он не просто так едет в лодочке, как жалкий беглец, убегающий от смерти, а как мужчина, идущий навстречу справедливой судьбе».)
Когда-то воспоминание о матери привело Огаркова к осознанию своего бесчестия и потрясло его. Теперь он хочет, чтобы его хоть на мгновение увидела мать. Он вернул утраченную честь. Он вернул отчужденную сущность. Не смерть он выбрал, а возможность жить вне общества отверг. И в этом выборе обрел свободу.
Он не посторонний. Когда-то он в неистовстве выкрикивал это, теперь он это доказал.
«Но раз уже случилось так, а не иначе, и он, Огарков, получил свободу и выбор — он поступит, как сын своей страны, готовый умереть от ее руки, потому что не в силах жить, виновный и отринутый ею». В первом, журнальном варианте было: «Но раз уже случилось так, а не иначе, и он, Огарков, получил свободу, он воспользуется ею по совести и, посрамив свое имя однажды, не опозорит его во второй раз». В журнальном варианте был более выделен мотив чести, в книжном — невозможность жить отринутым родиной. Оба мотива в повести живут, они составляют единую художественную мысль созданного образа, и варианты разнятся лишь акцентом, поставленным на той или на другой ее части.
Вины же с себя он никогда, ни сейчас, ни в последующей жизни, не снимал.
Философия, которой построение сюжета, казалось бы, давало полную возможность торжества, философия, утверждающая, что человек не зависим ни от чего, что социальная сущность человека — фикция, потерпела крах. С большой художественной силой раскрывается в повести общественная природа человеческой психики.
Повесть напечатана была впервые в 1948 году. Это была вторая повесть писателя. В войне он всегда оказывался на ее переднем крае.
Повесть писалась в годы культа личности. Вопреки культу личности с его недоверием, неуважением к чести и достоинству человека она выражала горячую веру в человека и отстаивала его честь и достоинство. Это был протест против игнорирования личности, и тем острее и выразительнее он был, что опирался на трудный случай, когда речь шла о человеке, совершившем преступление.
После «Двоих в степи» Эм. Казакевич приобрел прочную репутацию абстрактного гуманиста. Обвинения в абстрактном гуманизме вызвала и следующая его повесть «Сердце друга».
Любопытно, что в этой повести как раз и была обнаружена подверженность писателя влиянию экзистенциализма.
Травкин в «Звезде» в самых невыгодных условиях сказал правду бойцу. Акимов в условиях, которые он считал невыгодными для правды, утаил ее.
Вероятно, именно недоверие подсказывало ему в горячке боя угрозы трибуналом, которыми он сопровождал свои распоряжения. Как не нужны они были, он мог судить по себе, когда такую же угрозу передали от высокого начальства ему.
Придет время, он задумается над тем, какая дисциплина выше: та, когда его слушались оттого, что, как он думал, его боялись, или та, когда его требования выполнялись из опасения огорчить командира.
Он часто не доверял и себе, своим чувствам и побуждениям. На флоте, куда он был переведен, был такой случай. Катер, на котором он был дублером командира, должен был произвести высадку десанта разведчиков в тылу немцев на берегу Норвегии. Из-за шторма катер не мог подойти к берегу ближе, чем на десять метров, сходни, которые матросы держали на плечах, стоя в воде выше пояса, не доставали земли. Акимов с содроганием подумал, как холодно и тяжко будет им на неприветливом берегу, спрыгнул в воду и стал переносить разведчиков на плечах.
Этот поступок открыл перед Акимовым сердца командира катера и матросов, прежде относившихся к новичку-офицеру с выжидательной настороженностью.
А как расценил свой поступок сам Акимов? Он был недоволен собой, он усмотрел в своем человечном порыве желание заявить о себе, утвердить себя среди новых товарищей.
«Нельзя понять, чего хочет автор, ради чего написал он эту повесть. Война и любовь? Любовь на войне?» Это из критической статьи.
Накануне разведки боем в блиндаж Акимова пришла Аничка Белозерова. Акимов уже слыхал о ней, ее поручили по телефону его особому попечению, и он заранее невзлюбил ее, подозревая, что она любовница кого-то из высокого начальства. И вот в землянку вошла, захлебываясь счастливым смехом, девушка, глаза которой сияли молодостью и жаждой жизни.
Что с Акимовым? Он сидел с видом полного равнодушия, но «что-то оборвалось в нем при виде девушки. Ему показалось, что он сразу понял, что именно эта девушка — кем бы она ни была и как бы ее ни звали, — эта девушка, со смехом вынырнувшая из осеннего, темного; безбрежного мира, и есть та самая, о которой он думал в течение прошлой жизни». И так как он это понял, он, тридцатилетний мужчина, знавший женщин, но не знавший любви, решил дать незнакомому, ненужному и опасному чувству отпор.
Из критической статьи: «И тот же Акимов, который час назад в этом же блиндаже объяснял своим офицерам последнюю, страшную, для многих смертную задачу, теперь, точно раздвоившись, продолжая механически отдавать распоряжения и готовиться к бою, ревниво следит, как «лебезят перед девицей» его товарищи, и, как бы обороняясь изо всех сил от немыслимого для него очарования ее молодости и красоты, ожесточенно пытается думать о ней все самое грубое и дурное».
«Раздвоившись» — это неточно. Уж тогда расчетверившись. 1. Один Акимов потрясен любовью. 2. Другой сопротивляется этому.
Третий Акимов отдает распоряжения.
Четвертый наблюдает за собой и слышит свой голос, как чужой. Итого четыре. Нет, пять: 5. Пятый Акимов ревниво следит, как лебезят перед девицей.
Совсем неточно, в полном противоречии тексту повести утверждается, что Акимов отдает распоряжения «механически». В повести сказано, что он отдает приказания «так же спокойно, как всегда», и принимает решения «так же ясно».
Писатель решительно придерживается мнения и внушает его читателю, что работа человеческого сознания сложна, что она может протекать одновременно на нескольких уровнях, что сознание может вступить в конфликт с чувством, что между мотивами поведения происходит борьба и что за всем этим стоит, выбирает, отступает, побеждает цельная личность, волевой человек.
Острое переживание счастья настоящей любви, которой он так безрассудно противился, испытал он впервые в жизни во время нечаянной прогулки с Аничкой в осенней березовой роще случайного полустанка. Но и это победно завладевшее им счастье не окончательно изгнало притаившееся недоверие. Оно снова возникло в деревеньке под Бологим, когда Аничка храбро сказала, что останется у него ночевать. В эту ночь он проклял свое недоверие, небывалая великая нежность вытеснила его, казалось бы, навсегда. Но оно вновь вернулось к нему на Севере, когда он долго не получал от Анички писем.
«Так бывает порой в жизни, но нам странно видеть это у Акимова». Это из критической статьи. Наконец-то хоть одно слово понимания! Ну, конечно, странно.
Над тем и бьется автор, чтобы читатель почувствовал, как ненужно, как чуждо недоверие натуре Акимова. Когда пришло просветление, он заклеймил себя. «Каким же надо быть маленьким и гнусным человечком, — думал он, — чтобы думать об Аничке то, что я думал раньше!»
Эти мысли находятся в непосредственном соседстве с мелькнувшей на его лице улыбкой в ответ на требование начальника — не сообщать своим людям о предстоящей смене. Речь идет не о смене под Оршей перед разведкой боем, а о смене перед боем в фашистском тылу на норвежском берегу.
Акимов не был человечком, он был настоящим человеком. Недоверие ушло, неискоренимой была вера в людей, жившая в нем. Он понял, «что, несмотря на все свои мучительные подозрения, он все время где-то в душе был тем не менее глубочайшим образом убежден в ее верности и душевной чистоте. Поразительно, что эта глубокая уверенность, жившая в нем, могла существовать рядом с самыми тяжелыми сомнениями». «Глубочайшим образом», «глубокая уверенность» — в основании характера. На его «поверхности» — пусть цепкое и живучее, но остаточное и пережиточное недоверие, преодоленное наконец.
Еще несколько строк из критической статьи.
«Все эти повторы, очевидно, не случайны, и они создают странное впечатление бессмысленности, какого-то заколдованного круга, обреченности, теряется даже представление о том, с кем, когда и за что воюет Акимов».
Один из повторов, о которых идет речь в критической статье, только что упоминался — смена под Оршей и на Севере. Он не единственный. Вот другой повтор: в начале повести, перед разведкой боем, генерал при свете фонарика, а в конце романа адмирал перед десантной операцией, тоже при свете фонарика, задают один и тот же вопрос Акимову: «А тебе не хотелось бы опять на корабль?» — в первом случае, «А не хочется вам обратно на корабль?» — во втором. Это не ему, это им страшно хочется, чтобы Акимов был не здесь. Это им неимоверно трудно подвергать его смертельной опасности, и это чувство, почти непреодолимое, нужно преодолеть: бой должен возглавить лучший командир, самый умелый, самый отважный, но мучительно посылать в смертельную схватку именно этого, такого талантливого, такого прекрасного человека. Жестокость войны и человеческая привязанность, симпатия — лицом к лицу. Этот мотив утверждается повтором. Бессмыслен ли он? В нем обреченность? Акимов погиб, но побеждает любовь, верность, преданность.
Художник ставит перед собой труднейшую из задач — задачу пластического изображения чувства любви, симпатии к герою самых разных людей. Нет ничего губительнее для художественного произведения малейшей фальши, насильственности, искусственности в изображении такого чувства. Победа Эм. Казакевича несомненна.
Понятна, естественна и влюбленность в Акимова его ординарца Майбороды под Оршей, и старания быть ничем не хуже Майбороды вестового Митюхина на Севере, и восхищение пехотинцев своим командиром, и гордость им моряков, и дружелюбие, шутливость, ласковость Акимова в разговоре со своими бойцами, и радость неожиданной встречи на Севере с давним задушевным черноморским другом, и новая дружба с северянином Бадейкиным, дружба намертво: в последнем своем смертном сражении Акимов шепчет имя Бадейкина.
У Мурманска по команде Акимова сбрасывают глубинные бомбы на немецкую подводную лодку, преследующую караван американских судов. «Он был полон холодной ненависти к притаившейся в молчаливой толще воды вражеской лодке и почти сумасшедшей боязни за судьбу огромной, красивой чужой посудины, груженной чем-то важным для... — Он перебирает имена однополчан под Оршей: — для майора Головина, Майбороды, Файзулина, Вытягова, Филькова, Орешкина. И для Анички». («Теряется даже представление о том, с кем, когда и за что воюет Акимов», — вспомним эти слова критика.)
Л-ра: Новый мир. – 1966. – № 1. – С. 214-228.
Произведения
Критика













Поділитися