Трилогия К. Симонова и черты современного литературного процесса
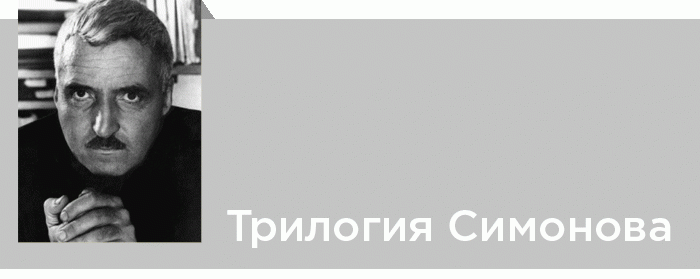
Г. Белая
Романы К. Симонова «Живые и мертвые» (1954—1959), «Солдатами не рождаются» (1960—1964), и «Последнее лето» (1970—1971), составившие по окончании работы писателя над ними трилогию под общим названием «Живые и мертвые», с каждым днем становятся предметом все более пристального анализа критики и литературоведения.
Сначала это были журнальные и газетные рецензии; сегодня это уже монографии и обобщающие исследования. Как бы ни отличались эти работы между собою по концепциям и жанрам — все они сходятся на том, что военная проза К. Симонова, и в частности его романы последних лет, явилась началом нового этапа в развитии литературы, посвященной осмыслению Великой Отечественной войны. Доказывая эту мысль ссылкой на романы Ю. Бондарева и произведения Г. Бакланова, партизанскую трилогию А. Адамовича и повести В. Быкова, Л. Лазарев справедливо подчеркивает, что причина влияния творчества Симонова на этих писателей заключается не в том, что «Симонов был для них примером или эстетическим образцом», — каждый из них своим путем пришел к утверждению величия солдатского дела, и к стремлению раскрыть «героическую суть обыкновенного», и к формуле «солдатами не рождаются». Но все же, продолжает критик, и нельзя с ним не согласиться, «рассматривая силовые линии литературного процесса, нельзя не видеть, что у истоков этой, ставшей в послевоенные годы столь мощной тенденции стоял Симонов».
Именно с романов Симонова «подход к истории как к процессу, стал важнейшей тенденцией литературного развития, когда тема войны стала решаться неотрывно от философских размышлений о ценности человеческой личности, когда возобладало настойчиво утверждаемое Симоновым отношение к войне «как к тяжелому, трудному, трагическому делу...».
Главное звено в системе художественного мышления, — концепция мира, общественного процесса и человека в нем, именно это звено в трилогии Симонова оказывается разработанным наиболее полно и оригинально и потому заслуживает особого внимания тех, кто исследует судьбу романа в наши дни. При этом хотелось бы подчеркнуть, что речь идет именно о системе «человек и мир», а не порознь взятых картинах «мира» и проблеме изображения характера в творчестве Симонова. Концепция «человек и мир» выстрадана и продумана писателем на всех ее уровнях: от профессионально-военного до «нравственных первооснов» человеческой жизни. Именно она — тот обруч, которым связаны воедино все три романа; именно она — то цементирующее начало, которое сделало романы Симонова, вопреки некоторым присущим им слабостям, едва ли не наиболее высоким образцом романа в наши дай.
В трилогии Симонова действие «сосредоточиваемся вокруг какого-то большего или меньшего дела, вокруг борьбы за победу этого дела». Эту тенденцию Симонов считает очень сильной, ее традиционность не смущает писателя. И действительно, ставя в центр борьбу народа за победу в Отечественной войне, трактуя самое войну как общественное дело, пытаясь раскрыть ее так, чтобы возникающая точка зрения на войну находилась бы «на скрещении разных точек зрения разных людей, в разных должностях побывавших на войне», писатель в конечном счете создает эпическую картину общества времен Великой Отечественной войны. «Механизм войны», хроника событий — от трагических июньских дней 1941 года («Живые и мертвые»), через кульминационный пик Великой Отечественной войны — битву у Сталинграда («Солдатами не рождаются») — до одной из самых крупных военных операций «Багратион», развернувшейся на территории Белоруссии в 1944 году и решившей ход войны («Последнее лето») таков историко-событийный диапазон трилогии Симонова, выросшей на базе тщательного и длительного изучения военных архивов, бесед с участниками войны, обобщения своих собственных дневниковых записей военных лет, художественных и психологических наблюдений самого автора. «Я считаю свою книгу историческим романом, — говорил в 1965 году К. Симонов. — А если б персонажи ее не были вымышленными, я назвал бы ее документальной повестью». И в этом смысле романы Симонова являются еще одним неопровержимым доказательством того, как выигрывает книга, если ее материал лично «выстрадан» писателем и если он «выверен» реальными судьбами современников.
Естественным следствием этой позиции стали, однако, не только «тематическая широта и многолюдность книги», но и то особое внутреннее зрение, которое присуще трилогии Симонова.
Масштаб изображаемого, казалось бы, определяет только «широту использования исторических фактов». И сам Симонов чаще всего говорит именно об этом. Но тем не менее это только первый круг возникающего замысла. За ним лежит слой более глубокий, организующий атмосферу книг Симонова, — целостное, связующее все воедино, масштабное поэтическое ощущение общественного процесса. В художественном воображении писателя оно тоже существовало с самого начала как всепроникающая связь, то, что Симонов рассказывает о возникающих в замысле концовках романов: сюжетно концовки в ходе работы менялись, но художественно они были ясны Симонову с самого начала работы: «Правда, — говорит писатель, — в романах «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются» у меня это было по-разному. С самого начала у меня было ощущение, что в концовке «Живых и мертвых» надо передать мысль, что впереди еще очень длинная война — лето сорок второго года, и Сталинград, и многое другое. И кто останется жив и сколько еще придется воевать — никому не ведомо. Так с самого начала была задумана эта концовка». Эта «завершенность» романа уже в самом его замысле и явилась залогом высокой целостности книги «Живые и мертвые». «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето» все время менялись, но опять-таки трансформировались внешне — изменялись сюжетные решения, общие же решения были заданы с самого начала. Трилогия должна была кончаться то взятием Берлина, то капитуляцией. Это как будто соответствовало потребности писателя и читателя «дотянуть» повествование от июньских дней 1941 года до падения Берлина. Но организующая родь
пришлась все-таки на долю поэтического предощущения победы, и потому рассказ о завершении огромной операции, которая решительно повлияла на исход войны, перенесен в места, где начиналось действие его первого романа: «Люди, которые пережили сорок первый год в тех же местах, сюда же возвратятся победителями. Это, кроме того, был способ «закольцевать» книгу, связать воедино три тома. Эта тема возвращения, освобождения вошла затем в ряд эпизодов и глав «Последнего лета», что и создавало ощущение единого романа, единого повествования».
И наконец, в романе существует еще один, действительно самый глубокий слой, который и позволяет говорить о романах Симонова, как о состоявшихся победах в жанре романа: детально разработанная и остро современная нравственная концепция, этическая основа системы «человек и общественный процесс» в действительности уже накоплены не только опытом Симонова, но опытом всей современной советской литературы, — «отложились» в этом слое наиболее полно и потому заслуживают особого внимания.
С чем связана структура романов Симонова, где в центре то «механизм войны», «хроника исторических эпизодов, батальные картины», то крупным планом поданные герои — Синцов в «Живых и мертвых», Серпилин — в книгах «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето»? Можно ли согласиться с тем, что в «Живых и мертвых» драматическое напряжение падает, когда на первый план выступает судьба Синцова? Верно ли, что тема народного подвига и народной беды как бы конкурирует с историей индивидуальных судеб и оказывается сильнее последних? Справедливее было бы считать, что мы имеем дело не столько с непоследовательностью писателя, сколько с тем, что в ходе работы над трилогией складывались, оформлялись, стабилизировались новые акценты в давно, казалось бы, решенной советской литературной концепции человека и общественного процесса. Ее новую модель сформулировал Симонов в 1961 году, т. е. именно в те годы, когда от романа «Живые и мертвые» он переходил к работе над романом «Солдатами не рождаются»: «Совесть человечества, — писал Симонов, — требует не допускать новой войны, но что такое совесть человечества? Где-то в первоначальной клетке этой мировой громады это — совесть отдельного человека».
Именно поэтому между двумя «соседствующими» романами «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются» есть не только преемственная связь, но и существенное различие: по справедливому замечанию критиков, в первом из них Симонову «с его опытом и мастерством удалась общая картина: массовые эпизоды и целая галерея маленьких эпизодических лиц. Они-то, эти лица, мгновенно и точно очерченные, и составляют все вместе лицо сражающегося народа. Ни одна частная человеческая история в романе не может поспорить с теми картинами, где проявляется общее народное начало». Но прошло всего лишь несколько лет, и с той же решительностью критика отметила, что в романе «Солдатами не рождаются» почти все «решающие коллизии романа» пропущены «сквозь суровую цельность» характера Серпилина.
Это также не случайно.
Годы, когда начали появляться романы Симонова, отмечены в нашей литературе взлетом «молодой прозы», борьбой против понимания человека как «винтика» общего дела, дискуссиями об индивидуальности, спорами, в которых понятия «индивидуальность», «личность» вскоре гипертрофировались и, говоря словами А. Блока, «перекинулись за недозволенную черту», ибо были противопоставлены общим началам человеческой жизни. Симонову это оказалось человечески чуждо: «Позиция замкнутости, эгоцентризма, отъединенности от общих интересов народа, — говорил писатель в 1960 году, — воспринималась мною в моей молодости как неприемлемая и даже постыдная с точки зрения моих нравственных принципов (то же самое, впрочем, думаю и сейчас)». Симонов активно включился в полемику против понимания человека как «винтика» (через все романы проходит мысль о ложности утверждения, что нет незаменимых людей: «Когда возмещаем убыль, заменяем, перемещаем, — вспоминают герои «Последнего лета» слова Серпилина, — говорим и себе, и другим, что незаменимых нет. Верно, нет — все так. Но ведь и заменимых тоже нет. Нет на свете ни одного заменимого человека. Потому что как его заменить? Если его заменить другим, — это будет уже другой человек»). Но в то же время, не боясь прослыть старомодным, писатель прокладывал все более сложные связи между человеком и миром.
Он все более «укрупнят в своих романах характер, судьбы героев делал «фокусом» исторически значимых событий, усложнял психологический рисунок образов. И в то же время он неизменно акцентировал в своих героях чувство «личной причастности» к общим событиям войны. Эту проблематику, волнующую сегодня и его, и общество, и нашу литературу в целом, писатель порою выносил «наверх» — делал предметом философских размышлений своих героев, чаще всего, конечно, размышлений Серпилина: «Ни триста человек, ни один, — думал как-то Серпилин, — не могут чувствовать себя в душе бесконечно малой величиной. Ты можешь считать себя бесконечно малой величиной. Но чувствовать себя ею ты не можешь, потому что, как ни будь ты мал и как ни будь мир веяик, все равно все, что связывает тебя с миром, начинается и кончается в тебе самом. Умрешь — мир проживет и без тебя, но, пока жив, вас только двое: ты и он. И ты — это ты, а он — это все остальное, все, что не ты». Даже самую гибель своего героя, гибель, вызывающую страстный протест читателей, успевших привыкнуть, понять, полюбить этого человека, — самую гибель Серпилина в своей трилогии Симонов объясняет тем, что иначе он не мог выразить глубину той общенародной трагедии, которою была в эпоху войны гибель каждого отдельного человека. «Для того чтобы поэтически выразить, что такое двадцать с лишним миллионов погибших, каждый из которых был самым дорогим человеком для нескольких людей, — говорил Симонов, — чтобы выразить глубину этой трагедии, я должен был сделать так, чтобы погиб человек, который мне в романе дорог больше всех. Тогда у читателя будет ощущение, что у нас отнимает война...» Так ощущает Симонов связь «частной человеческой истории» и «общего народного начала». Однако есть еще один, более глубокий и, вероятно, определяющий уровень в слоях этой проблематики.
Симонов, как известно, всегда ориентировался на творческий опыт Л. Толстого. Критика неоднократно отмечала этот факт, но всегда попадала впросак, когда пробовала проложить связи между «диалектикой души» как ведущим принципом психологизма Толстого и раскрытием человеческой психологии в произведениях Симонова или когда видела преемственную связь между писателями только в ориентации Симонова на правдивое изображение войны, ведущее свое начало, якобы, от «Севастопольских рассказов» Л. Толстого... Конечно, и рассказы о Крымской войне Симонов читал и впитывал как художник в себя, и психологический рисунок Л. Толстого его восхищал. Но значительно серьезней для творчества Симонова оказалась та связь психологии и этики, которая предопределила основной ракурс исследования Симоновым поведения человека на войне, ракурс, который он определил словами «нравственная первооснова человека» и который тоже ведет свое-начало от Л- Толстого. «Поведение человека, — замечает Л. Гинзбург, л-тор исследования «О психологической прозе», — литература изображала всегда, следовательно, этика всегда была для нее внутренним структурным началом». Не случайно поэтому великий мастер психологического анализа Л. Толстой, считает исследователь, «всю жизнь был неутомимым моралистом, оценивающим каждое движение созидаемых им персонажей». «Толстой, как никто другой, — пишет Л. Гинзбург, — постиг отдельного человека, но для него последний предел творческого познания не единичный человек, но полнота сверхличного человеческого опыта. Толстой — величайший мастер характера, но он переступил через индивидуальный характер, чтобы показать и увидеть общую жизнь». И потому «герой Толстого — больше чем характер. То есть он действует не только как характер, но и как тот, в ком проявляются, через кого познаются законы и формы общей жизни».
Именно с этой точки зрения мы должны вернуться к тому, что назвали свойственным героям Симонова чувством «личной причастности» к смыслу совершающихся событий. «Ни одна работа на свете не поглощает человека так целиком, как работа войны, — думает буднично Серпилин. — И вдруг, — продолжает писатель, — когда он (Серпилин. — Г. Б.) сегодня в первый день, еще не вслух, а про себя прочел шестинедельные итоги боев, он ощутил весь тот истинный масштаб событий, который обычно сказывался повседневными заботами, с утра до ночи забивающими голову командира дивизии. Его дивизия была всего-навсего малой частью того действительно огромного, что совершилось за последние шесть недель и продолжало совершаться. Но это чувство не имело ничего общего с самоуничижением: наоборот, это было возвышающее душу чувство своей хотя бы малой, но бесспорной причастности к чему-то такому колоссальному, что сейчас еще не умещается в сознании, а потом будет называться историей этой великой и страшной войны.
А хотя почему — потом? Это уже и сейчас история».
Эта высшая, ведущая свое начало от художественных открытий Л. Толстого «надиндивидуальная связь явлений постигаемой действительности» и образует этическую основу той системы связей человека и общественного процесса, которую мы, как уже говорили, считаем предпосылкой успеха писателя в его романах. Возникает новое, всеобъединяющее понятие «мы», не отменяющее отдельного характера, но и не растворяющее его в «роевом» начале народной жизни. «Мы молчали, — пишет Симонов в романе «Солдатами не рождаются», — а немцы всю ночь до утра то здесь, то там стреляли, как припадочные, — наверно, нервы кончались, а предчувствие конца росло. И это радовало, позволяло думать, что сегодня бой действительно будет последний и недолгий...
Возможно, теперь они уже отошли вглубь, к цехам, но это станет ясно лишь через несколько минут, когда роты сделают первый бросок. Все этого ждут. Ждет Чугунов, сидящий тут же, рядом, слева... Ждет Еторая рота, залегшая в развалинах, правее. Ждут пулеметчики, которые будут прикрывать огнем бросок рот...»
Заслугой Симонова является то, что эта надиндивидуальная связь художественно исследована писателем до самых ее корней, до «нижних этажей» нравственной жизни человека. «То превосходство в бою, — писал Симонов в романе «Солдатами не рождаются», - когда при равных правах именно тот, а не другой принимает команду над остальными, возникает из самых простых и очевидных для всех вещей. Из того, что ты зажег танк. И из того, что, когда фашисты уже перестали стрелять, а уткнувшиеся в землю люди не заметили этого, ты первый поднялся в рост. И из того, что ты на неоседланной лошади подскакал к уже снявшимся с позиций артиллеристам и убедил их повернуть пушки и дать залпы по танкам на горизонте, и они послушались тебя, и дали, и один танк загорелся, а другие ушли. И из того, что в ужасную для тебя и для всех минуту у тебя не было написано ужаса на лице, и это заметили, и голос у тебя не сорвался на хрип, а остался голосом, и ты подал им немудрящую команду, до которой в менее тяжелую минуту додумался бы каждый, а в ту минуту — ты. Ну, и конечно, нужно еще, чтобы, пока ты делал все это, тебя не убило и не ранило.
Так из числа оставшихся в живых за несколько дней и недель рождаются командиры, способные на большее, чем о них думали раньше».
Неверно было бы видеть в такого рода постановке вопроса «дегероизацию» подвига на войне. Нет, Симонову важно другое. Он никогда не скрывал, что у него есть свое «представление о «положительном» — не боюсь этого слова — герое этой войны, этого общества в эту эпоху». И определенная система поведения, где главное — не сосредоточиваться всецело на себе, где человек искренне считает, что ему сейчас не до себя и «некогда думать, какой я сейчас», — эта система поведения, по Симонову, и есть те «нижние», основные этажи здания нравственности, от которых зависит крепость всего того здания, что зовется человеком. Эту черту мироощущения Симонов акцентирует как основное, формирующее человека начало. Суть этой нравственной установки, с которой человек входит в мир суровой действительности войны и решает, как ему жить в этом мире, отчетливо звучит в размышлениях Синцова: «Каждый день рядом с ним умирали хорошие люди, нисколько не меньше его надеявшиеся жить, умирали, и это само по себе было такой чудовищной несправедливостью, что, глядя на них, не находил сил думать о себе. Или хватало совести не думать. И то и другое, когда как». Так живут хорошие люди в этих романах — и Синцов, и Серпилин, и соседка Серпилина, только недавно похоронившая мужа, но сдержавшая себя и не заплакавшая при Серпилине, потому что «его горе было последним, сегодняшним. И сегодня надо было думать о нем, а не о себе»; и Малинин, тяжело раненный, но не думающий о том, «как бы подольше протянуть на эту последнюю копеечку здоровья».
И напротив, как только человек в этической системе, создаваемой Симоновым, выступает из этой всеобъединяющей связи, осознает свое положение в мире как исключительное, его личность начинает распадаться. В романах Симонова много таких персонажей — тут и приемный сын Серпилина, отказавшийся от отца в суровые годы репрессий и отсиживавшийся до поры до времени в Москве, и муж «маленького, доктора» Тани Овсянниковой, которому, судя по ее размышлениям, «делать хорошее для себя... удается чаще, чем для других. И в конце концов почти всякий раз выходит, что не он для других, а другие для него...»
На каком бы уровне развития ни стоял человек в романах писателя, Симонов остается верен изначальным, органически вырастающим у него из неприятия эгоцентризма критериям: «хлеб пополам, кров пополам — так жизнь в ту ночь открылась нам», — писал он в стихах военных лет. И не только остался верен этому убеждению, но возвел его в ранг самого высокого, самого достойного этического критерия — главного «измерения» человеческой личности.
Нельзя не заметить также, как часто Симонов говорит о своем неприятии «романтической струи в изображении войны».
Когда-то, в конце 30-х годов, он даже написал вызывающее по тем временам стихотворение «Танк», где восставал против «телячьего оптимизма», много позднее Симонов считал своей особой заслугой то, что еще в предвоенные годы он «старался доказать, что война будет тяжелой и суровой войной». Но критика слишком доверчиво отнеслась к полемическим заявлениям писателя. Вернее, его отрицание внешней, словесной, помпезной красивости («Упоение, наслаждение, восхищение — все это не те слова, не люблю словоблудия вокруг войны...», — так говорит Лопатин, один из ведущих героев современного Симонова), критика, вслед за самим писателем, отождествила с антиромантизмом. И «военная» тема остается неизменной темой писателя не только потому, что, как говорит он сам, он «действительно» знал эту жизнь», но и потому, что война с ее кровью, страданием, смертью, война, оказавшаяся суровейшей перепроверкой нравственной стоимости людей, соответствовала изначальному художественному интересу писателя к этическому потенциалу человека.
«...Я могу печатать «Дни и ночи» и «Солдатами не рождаются» под одной крышей потому, — в 1968 году писал Симонов, — что камертон общего ощущения войны все-таки в чем-то, самом главном, остался для меня тот же, что был...» И это — истинная правда.
Симонова нередко упрекали в жесткости нравственных акцентов, в контрастности психологического рисунка, в «черно-белом» драматизме, при котором сложный психологический рисунок приобретает форму четкого графического изображения. Но писатель упорно стоял на своем и считал, что черное есть черное, а белое есть белое, что человек должен отчетливо отличать добро от зла и что путаться в этих понятиях или давать себя запутывать мнимой сложностью — непростительная, недостойная человека слабость. И он несомненно прав. Поучительность опыта Симонова с этой точки зрения состоит в том, что то чувство, которое писатель называет «личной причастностью», есть не только важнейшая этическая предпосылка создания романного жанра, но и крайне современная форма реализации той системы отношений, которую мы привычно называем «судьба человеческая, судьба народная» и которая справедливо считается первоосновой жанра романа. Связь судьбы человеческой с судьбой народною с предельной очевидностью выражается в дни войны, имеет как бы несколько слоев. И самый глубокий из них — тот, который существует в психике человека как органическое сознание своей связи с происходящим, как «чувство общности со всеми, кого убивают у нас», как «чувство вины, и стыда, и боли, и бешенства за все, что у нас не получается, и радости за все, что у нас выходит» (так говорил Синцов не только о себе, но и о других людях, воюющих вместе с ним). Симонов считает это чувство устойчивой чертой людей военного поколения, которые даже не замечают ее, но которая проступает даже тогда, когда эти люди думают, что говорят о другом: «...люди, пережившие 1941 год и оставшиеся живыми, — рассказывал писатель о замысле романа «Живые и мертвые», — страстно хотели, чтобы об этой эпохе было написано. Не об их собственных подвигах и страданиях, а именно об этом времени, обо всем, что тогда происходило. Они не воспринимали как личное дело ни своих рассказов, ни моей работы над книгой». Но если вдуматься ничего специфически «военного» в этом чувстве нет: просто в дни войны «надиндивидуальная связь» человека с миром получает предельно рельефное, концентрированное выражение. Уловить формы ее бытования в мирное время гораздо труднее. Трактуя чувство «личной причастности» человека к жизни мира как самое значительное этическое измерение человека, Симонов объективно выводит это чувство за пределы военного времени. «Высветляя» чувством «личной причастности» человека к «общей жизни» жизнеощущение своих персонажей на разных этапах их жизненного пути, Симонов, в сущности, утверждает «всеобщность» координат, составляющих жанрово-этическую основу его романов.
Определяя место романов Симонова в современном литературном процессе, критика основное значение их обычно видит в исследовательском настрое трилогии, в сосредоточенном размышлении автора над тем, как началась и развертывалась всенародная трагедия войны, как ковалась победа. Но не менее важна и сосредоточенность писателя над тем, как донести до сегодняшнего читателя главное в духовном опыте жизни людей военных поколений. По-прежнему наделенный острым ощущением времени, Симонов отчетливо понимает потребность современного человека в ясности, определенности и устойчивости исходных нравственных критериев. И поэтому именно на них возводит здание своих «военно-исторических» романов, тональность которых задана словами Льва Толстого, к которым часто возвращается писатель: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».
Л-ра: Литература в школе. – 1975. – № 5. – С. 12-19.
Произведения
Критика
- «...И шла моя душа босой по битому стеклу» (О лирике К. Симонова)
- Мастерство К. Симонова-прозаика
- Трилогия К. Симонова и черты современного литературного процесса













Поділитися