Соцреализм карнавальный (Василий Аксенов как зеркало советской идеологии)
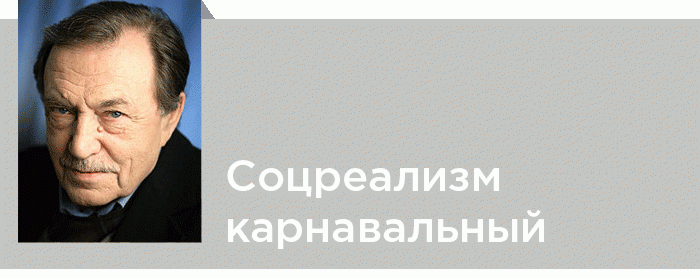
Евгений Пономарев
Василий Аксенов снова появился на телеэкране. Почти забытый писатель с легендарным прошлым. В 1998 году издательство «Изограф» неожиданно опубликовало его роман «Новый сладостный стиль». Неожиданно, так как мы думали, что весь Аксенов остался в прошлом — как, к примеру, Леонид Леонов или Александр Фадеев. Затем издательство разразилось несколькими аксеновскими книгами прежних лет. Появились в обложках вполне современного дизайна «Скажи "изюм"», перестроечная «Московская сага», «Ожог» и, наконец, изначальные, принесшие когда-то писателю всесоюзную славу — «Апельсины из Марокко», «Звездный билет», «Коллеги». Читатель сегодняшний увидел Аксенова в обратной перспективе.
Длительность и подробность этой репрезентации писателя наводят на мысль об определенной, рассчитанной на несколько лет программе возвращения Аксенова на родину. О возвращении, конечно же, не телесном, а, выражаясь в пелевинском духе, виртуальном. Частью этой программы воспринимается и приезд писателя в Россию летом 2000 года. Газеты преподнесли Аксенова как нового «героя», в духе Лермонтова или Лимонова, на выбор. Нужен же нынешней литературе классик, так вот — не попробовать ли Аксенова? А тот и ведет себя соответствующе: очень хвалит Пелевина, чуть не собственным последователем объявил.
Вышедшее в «Изографе», по сути, собрание сочинений подчеркивает две важные мысли: традиционность и одновременно вечное новаторство классика. «Сладостный стиль» — новый. По отношению ко всему прошлому. А прошлое тоже было новым, в свое время. Вечно обновляющийся писатель. Вечно молодой, как поэт Вознесенский.
Осмысляя путь Аксенова в предложенной ретроспективе, возьмем для сравнения крайние точки — самый конец и самое начало, сливающиеся при замыкании творческого круга, — проложив их «Московской сагой», громадным перестроечным шедевром, осмысляемым, по-видимому, ныне как поворот к новому (старому?) стилю.
«Новый сладостный стиль» создает несколько проекций, и все они в том или ином свете преображают, преломляют и по-марксистски отражают личность Василия Аксенова. Прежде всего, заглавие относит нас к классику Данте. К новой школе, новому письму, фундаменту «Божественной комедии». В романе, правда, слава Богу, не сто песней, а чуть поменьше глав, но двенадцать частей тоже, знаете ли, не шутка. Песнь же помещена в конце каждой части — правда, эта песнь комедийна в первоначальном значении слова, она каждый раз пародирует что-нибудь классическое. А отличительная черта аксеновской пародии — сопровождающая ее зевота. После его пародий хочется отдохнуть за добротным переводом Лозинского. Который тоже вызывает зевоту, но зевоту иной природы, положительную зевоту, что ли, ибо Лозинский-то не претендовал на звание героя своего времени.
Во-вторых, новый стиль, найденный как героем Корбахом, так и писателем Аксеновым, призван напоминать о «втором рождении» поэта Пастернака, его «неслыханной простоте». Стихотворение Пастернака «Премьера» («О, знал бы я, что так бывает...») становится материалом для песни в конце третьей части. Философская музыка пастернаковских строк, оживляемая Аксеновым, заполняет сознание. И аксеновский текст рассыпается: через него, как на палимпсесте, проступает оригинал.
В-третьих, главный герой Александр Корбах — проекция всего поколения шестидесятников. В том числе отражение некоего В. А., автора — с деланной забывчивостью вспоминается название — «Билета к звездам», нет, «Звездного билета». И если все герои романа, особенно молодые девушки, с замиранием сердца подходят к Корбаху, то сам Корбах с замиранием сердца подходит только к одному человеку — к этому самому В. А.: «Привет! Мне нравится твой роман». Указывая правильный путь молодым девушкам.
Напоминать о себе Аксенов очень любит. Об успехах прежних лет. Мелькают на страницах поздних книг названия «Коллеги», «Звездный билет», вспоминаются апельсины. Иногда их просто едят, но едят как-то эдак со смыслом. Нигде, правда, не вспоминается «Метрополь». Чего там, вытолкнула родина, и все тут. Нечего вспоминать. А на страницах «Московской саги» появляется просто мальчик Вася, приехавший в Москву из Казани. Мама у Васи давно живет в Магадане, Вася периодически летает к маме. Но «Новый стиль» побивает все рекорды по этой части: трудная у автора судьба, непростая. А был ведь знаменит, гремел. И впрямь, может быть, еще пару глав о себе добавить? Поподробнее? А то ведь молодежи мало что скажет название «Звездный билет».
Помнится, вернувшись в Петербург после каторги, с которой Америку рифмовать даже как-то курьезно, Достоевский, с которым сравнивать Аксенова тоже не с руки, решил напомнить о себе, написал «Униженных и оскорбленных». Там он позволил себе одну строчку: «Б. обрадовался, как ребенок, прочитав мою рукопись». Имелся в виду Белинский. Роман привлек внимание публики, но вовсе не напоминанием о Белинском и истории «Бедных людей». Строчка явно оказалась лишней, мелочной, недостойной нового романа. Она осталась от прежнего Достоевского, серьезно интересовавшегося, кто более велик: он или Гоголь.
В романе Аксенова напоминание центрально. Это, пожалуй, лучшее, что в нем есть. «Сладостный стиль» вовсе не нов, имя ему — ностальгия. Он напоминает о романтической советской юности аксеновского поколения, его «коллег». Напоминает заодно о мировой литературе, «коллегами» поглощавшейся, от Данте до Аксенова включительно. О советской истории, предмете постоянных медитаций. Об августовских днях 1991-го, олицетворении силы и беспомощности шестидесятников. Об опыте русской эмиграции, вечной скорби все того же аксеновского поколения. О былом счастье советского писателя Аксенова. И так далее. Критик Б. назвал бы это «энциклопедией советской жизни». Собрав в собирательном Корбахе всех, кого можно, Аксенов заодно запихал в сюжет все, что можно, — и примерил на себя.
Дело в том, что Аксенов всеяден, он может писать обо всем. Вряд ли кто-нибудь помнит, что у него есть деревенская проза, о которой как о течении он судит свысока. У него есть и историческая трилогия — «Московская сага». Есть книга очерков об Америке — «В поисках грустного беби». А теперь у него «Новый сладостный стиль», под которым подразумевается постмодерн. Эта всеядность напоминает классика советской литературы Алексея Николаевича Толстого, с одинаковым упоением писавшего обо всем, что было нужно. И исторический роман, и фантастика, и эпопея, и об эмиграции... Это вообще свойство советского писателя соцреалистической школы. Ибо поэзия — «та же добыча радия». Так же, как Алексей Толстой, еще в эмиграции понявший, что нужно о Петре Первом, Аксенов чутко улавливал заказ эпохи и, как правило, писал о том, о чем нужно. Это может вызвать удивление: Аксенов в последние десятилетия играет диссидента. Играет, следуя моде. Но тут надо вспомнить о его былом месте в советской литературе, о необычайной популярности, о тиражах его книг, о фильмах, снимавшихся сразу по выходе книг, и т.д.
Писателю с таким разбросом тем необходимо много ездить по разным странам, а также внимательно читать энциклопедию. Или упрощенную замену энциклопедии — газеты. Так, приехав в Америку, Аксенов первым делом пишет про нее книгу для русского читателя. Книгу, направленную в будущее, когда снова станут печатать в СССР, ибо русские американцы это все и так знают. Кроме того, она может занять почетное место в ряду произведений об Америке Максима Горького, Бориса Пильняка, Владимира Маяковского. Это сравнение может на первый взгляд показаться странным, поскольку у Аксенова смещен стержень конъюнктуры: вместо добросовестной ругани в адрес США теперь полагается неумеренно хвалить.
Энциклопедизм тоже в крови Аксенова. Например, в «Московской саге» появляются все черты сталинской эпохи, смаковавшиеся в момент написания книги: это троцкизм, выступления оппозиции, эрдмановский «Мандат», театр Мейерхольда, «Непогашенная луна»... Как-то все сразу, так что воочию видится главное и единственное действующее лицо — человек перестройки, утопающий в газетах. К опознавательным знакам сталинской эпохи добавляются расхожие мысли перестройки, все из тех же газет: «Может быть, революция любого может сделать чекистом?»; «Большевики — странные люди. Иногда мне кажется, что при всем материализме их поступками движет какой-то мистицизм. Чего стоит, например, бальзамирование Ленина ...». Талантливо закрученный сюжет создает эффект миксера, и получается эпопея в трех книгах.
Еще удачнее работа миксера в «Новом стиле» (стаж американской жизни вырос). Голос Высоцкого и актерский талант Полунина, кинорежиссура Тарковского и сценическое новаторство Любимова соединены в Александре Корбахе с чертами биографии самого Аксенова. Недаром внешность у Корбаха какая-то несуразная: руки от одного, ноги от другого. Судьба поколения понимается автором как механическое сложение отдельных судеб. К этому добавляется «фон»: эмиграция, август 91-го, попытка возвращения на родину. А заодно и вся известная Аксенову Америка: миллиардеры — из всей бизнес-империи упоминаются только супермаркет, Голливуд, университет и писатель (нет, режиссер), космические полеты... Миксер работает без устали.
И вновь вспоминается нечто, «Хождение по мукам», например. Там тоже есть все: и петербургский декаданс, и мировая война, и все этапы войны гражданской, и, естественно, Владимир Ильич с инженером Кржижановским. Только героев у Толстого чуть побольше, у каждого свое тело, а не одно сборное, и судьбы у них посложнее, у каждого опять же своя, и меняются они в течение трех книг. Так что, может быть, удачнее сравнить «Новый стиль» с другой, менее удачной эпопеей — «Блокадой» Чаковского, что ли? Или, пользуясь указанием самого Аксенова, с Пелевиным, с «Чапаевым и Пустотой», где отдельные куски текста — от того же петербургского декаданса до нирваны (заместившей Владимира Ильича) — связывают только два (мало отличающихся друг от друга) застывших в своей громадности и непостижимости главных героя.
Не будем вспоминать о «Коллегах» и «Апельсинах из Марокко». Забудем о «Московской саге», где каждый из семейства Градовых, несмотря на культ личности, прожил исключительно счастливо. Возьмем только «Новый стиль». Корбах никому не нужен в Америке, но он находит миллиардера-родственника, который не просто устраивает его жизнь, но и пристраивает всех его, корбаховских, знакомых. Кроме того, Корбах находит женщину своей мечты — конечно же, дочь миллиардера. Символична судьба миллиардерова приказчика по имени Арт Даппертат: стоит ему только пожелать другую дочку, как миллиардер тут же предлагает ему на ней жениться. С дочкой согласовано. А потом Арт становится управляющим всех миллиардов. Полное счастье, что еще надо? Ну а если Корбаху нужно другое счастье, пожалуйста: он обретает полноту бытия, мистическим образом оказываясь двойником чуть ли не библейского патриарха. Плохо, что ли?
Сам Аксенов называет такие чудеса «карнавалом», в очередной раз демонстрируя, что эпоха шестидесятых удобно приспособила к себе идеи Бахтина. Проследим же за метаморфозой. Во время карнавала все возможно, ибо все перевернуто с ног на голову. И все счастливы. Карнавальная ситуация впервые опробована Аксеновым в «Апельсинах из Марокко»: случилось невиданное, и в порт Талый пришел пароход с марокканскими апельсинами. Обитатели окрестностей собираются в Талом, возникает нечто напоминающее народное гулянье в новогоднюю ночь, переходящее во всеобщее счастье. Все, что казалось вчера несбыточным, сбывается. Все находят в Талом свою любовь. Заблудшие души выходят на истинный путь. Наутро апельсины съедены, но всеобщее счастье продолжается. Других карнавальных ситуаций в творчестве Аксенова нет.
В «Московской саге» всеобщее счастье мотивировано сугубо традиционно: семейные ценности превыше Сталина. Огромная семья Градовых счастлива, ибо их семья огромна. В «Сладостном новом стиле» нет уже никакой мотивировки. Просто все счастливы. А если кто-то несчастлив, то он просто еще не понял, что счастлив. Где же здесь карнавал? По-видимому, в следующем:
«Граждан США погибло 18493, постоянно проживающих с «зелеными картами»
7548, политических беженцев 4004, нелегалов 28697, иностранных туристов 678, просто прохожих 18. Немало было сломано костей: челюстей 840, ребер 18600, черепов 618, длинных костей врассыпную 65111, тазов 300, ключиц 115, грудин 240...». Это описание виртуально-голливудской битвы между миллиардером Стенли Корбахом и теми, кто хочет отнять у него миллиарды.
Или, быть может, карнавальность в том, что для героев «Нового стиля» нет ничего невозможного? Например, ближе к концу все они оказываются евреями, так как праотец-то у всех один. Или она в атмосфере постоянного праздника, который Стенли Корбах закатывает своим друзьям? Но это все — и превращения, и переодевания, и праздничность, и счастье — следствия карнавала, его отдельные характеристики. Нет главного: нет карнавальной ситуации, нет мистической сущности карнавала, как у Рабле или Гоголя.
Аксенов употребляет не то слово. Карнавальные мотивы, действительно, — его визитная карточка. Только все это вместе называется проще — соцреализмом извода шестидесятых. Советского писателя отличает от всех других принципиальная оптимистичность. Как говорил один из героев Владимира Максимова, если написать колхозницу с мешком картошки — это будет модернизм. А вот если с двумя или тремя — то это уже соцреализм, и «Правда» обязательно похвалит. Лучшего определения соцреализма мне неизвестно. Оптимизм советского писателя основан на глубокой вере в коммунизм, то есть в перманентное улучшение всех аспектов жизни и финальное головокружительное счастье. Владимир Аксенов — один из немногих, кто до сих пор не разуверился в коммунизме. Неважно, что образцом коммунизма для него стала Америка. Важно то, что именно он, а не Астафьев или Распутин, остался истинным советским писателем.
Соцреализм шестидесятых значительно отличался от соцреализма Сталинских премий. Новые писатели отказались от набившей оскомину канвы толстого толстовского романа: он стал для них образцом условности в искусстве. Борьба со сложившимися правилами сюжетосложения, героическими героями, красивой идейной фразой была частью борьбы с ритуализованностью советской жизни. Тем самым советское искусство шестидесятых напоминало советское искусство двадцатых, социализм снова стал синонимом весны, новизны и эксперимента. Ненадолго, чтобы еще раз расцвести в середине восьмидесятых, продемонстрировав окончательное вырождение, сиречь неумение экспериментировать.
Соцреализм шестидесятых обрел, выражаясь по-горбачевски, человеческое лицо. Сохранились общая оптимистичность («Понимаешь, я грущу сейчас, тоскую по Инне, но временами вздрагиваю, как в ознобе, от ощущения счастья. Не могу объяснить тебе. Тебе это особенно трудно объяснить»), производственная тематика («Коллеги», рыболовецкий колхоз «Звездного билета», освоение Дальнего Востока в «Апельсинах») и аскетический отказ от материального благополучия (сознательное распределение в глубинку, сознательное бегство из Москвы и Ленинграда). Новым становится высвобождение человеческого чувства. Любовь, можно сказать, — лакмусовая бумажка перемен: эта сфера жизни наименее подвержена регламентации. Она по-прежнему крепко связана с положительными, прежде всего профессиональными качествами: у врача из Ленинграда намного больше шансов на любовь круглогорской красавицы, чем у блатного Федьки. Девушки, правда, теперь могут ошибаться: Вера из «Коллег» вышла замуж за карьериста, а Галя из «Звездного билета» увлеклась известным артистом и бросила хорошего Димку. Но поскольку Галя хорошая, то она к Димке возвращается, мучается, Вера же находит истинную любовь, тоже мучается, и, наконец, как и должно быть, все счастливы. Любовь становится более свободной: она не обязательно нацелена на брак, она возможна и до брака, и во время брака, она может возникнуть где угодно, не обязательно на производстве, но и на танцплощадке. И вообще, поцеловать девушку, оказывается, очень даже просто.
Переходя на уровень быта, любовь тут же поднимается над ним. Часто она воспринимается как чудо. Девушки редко позволяют себя целовать. Для счастья необходима влюбленность — это взгляд совершенно иными глазами, из другого измерения. Любимая возвышается над обыденностью через сравнение с мифологическими героинями. Так, Галя из «Звездного билета» становится Прекрасной Еленой, а Даша из «Коллег» — Любавой из эпоса о Садко. Эстонская девушка Линда — Линдой из эстонской легенды, женой богатыря Калева. Влюбленные, таким образом, переносятся в пространство мифа, приобретают иное измерение. В качестве мифа может выступать и фантастика: «Надеюсь, что там (на других планетах. — Е. П.) найдется кусочек приличного моря, темного песка и сосны, а девушку я захвачу отсюда». И героика Великой Отечественной войны: «19 лет назад, за два года до их рождения, в нескольких милях отсюда, в море, самолетами «Ю-88» был атакован и потоплен маленький пароход, несущий флаг Красного Креста, шлюпки были расстреляны из пулеметов». Таким образом, абстрактная любовь, пользуясь лексикой «коллег», окунается в конкретность и возвращается обратно, в сферу абстрактного наделенная конкретными чертами конкретной девушки.
Похожие процессы идут и в сфере идеологии, и на производстве — на место военной точности, автоматизированности труда приходит понятие «романтика»: «Я хочу жить взволнованно! — с вызовом ответил Максимов. — Все равно где, но так, чтобы все выжимать из своей молодости». Теперь для успешного коммунистического строительства требуется не соблюдение инструкций, а «высокое парение души». При этом появляется недоверие к фразе, особенно фразе идеологической:
«— Ух, как мне это надоело! Вся эта трепология, все эти высокие словеса. Их произносит великое множество идеалистов вроде тебя, но и тысячи мерзавцев тоже. Наверное, и Берия пользовался ими. Сейчас, когда нам многое стало известно, они стали мишурой».
Идеология уходит в подтекст, не озвучивается полностью (характерно эпохальное «многое стало известно»), становится предметом для постепенного погружения и личным опытом — наподобие молитвы у протестантов. Она, как мысли о любимой, не терпит вмешательства со стороны. О ней надо молчать, чтобы не вышло пошло. И небольшой сдвиг значения: она почти священна, о ней не стоит говорить всуе. Когда сакральное и личное сливаются, достигается необходимое идеологическое совершенство. Например, в «Билете» Димка не говорит со старшим братом о самом главном — о любимой девушке и о трудовых успехах:
«— Ну и... путина сейчас в самом разгаре, и мы должны окончательно обставить 93-й. Мы, понимаешь ли, соревнуемся...
Что-о? Вы, значит, соревнуетесь?
Ну да. Кто кого, понимаешь? Довольно увлекательно.
Я не рассказываю ему, за какое звание мы соревнуемся. Как-нибудь потом, когда мы получим это звание, я ему расскажу». Это звание — «экипаж коммунистического труда».
Вопрос о коммунизме занимает центральное место в идеологии хрущевского периода и в ранних романах Аксенова, естественно, тоже. Коммунизм, как и все прочие идеологические мотивы, очищается от свойств высокой фразы, заземляется и приобретает бытовые характеристики.
Идеология стоит рядом с совестью и честью, ее уже не разделяют, в нее верят. Она сливается с «высоким парением души», необходимым советскому человеку. По завершении всех этих пертурбаций высокая фраза возвращается в литературу. Слова аксеновского «коллеги» можно легко перефразировать: мерзавцы пользуются фразами, но их произносит и великое множество идеалистов. Обязательной чертой фразы становится искренность ее произнесения. И тут Аксенов находит блистательный прием — мальчишескую наивность, сопровождающую высокую фразу. С ее помощью он становится лидером обновленного соцреализма. В этом его творчество соотносится с минимализмом двадцатых годов, с революционным наивным миросозерцанием.
Например, в самых ранних произведениях голос героев все время проникает в голос повествователя, подчас подменяя его. В «Коллегах» это подано как неумелость начинающего писателя. Текст отчасти напоминает роман, отчасти киносценарий, отчасти интервью. В духе «новой волны» европейского кино. Авторские характеристики чередуются с речью героев. Повествование захватывает то один герой, то другой. Этот прием станет центральным в дальнейших экспериментах. Что позволяет предположить, что молодой Аксенов внимательно читает не только Бахтина, но и других популярных литературоведов — в данном случае Бориса Успенского с его поэтикой «точек зрения». В «Звездном билете» основные повествователи — Димка и его старший брат. Здесь уже повествователь меняется упорядоченно, с каждой новой главой. Но пока еще бессистемно, намеренно коряво. Системность достигнута в «Апельсинах из Марокко»: там несколько повествующих персонажей, все они встречаются в Талом. Каждый рассказывает о событии со своей точки зрения. Остро ощущается недоговоренность, неполнота каждой из них. Ибо сопоставляющий точки зрения читатель знает больше. Но и читатель за счет этого ощущает неполноту собственной: остается что-то недоговоренное — как кажется, самое главное. Отдавая все пространство текста героям, Аксенов пытается активно использовать сказ. Тут, правда, текст пробуксовывает: все герои, будь то бич или бывший зек, говорят одним языком — языком ленинградского студенчества шестидесятых. Но и это списывается юношеской наивностью автора. Удачно другое: сказ создает юношеский захлеб, которому мы верим и который является главным инструментом создания всеобщего счастья. Если ты несчастлив, пойми, что ты счастлив. Ведь быть несчастным, в сущности, неотчего. Шестидесятые возводились на комсомольском задоре.
Что же сейчас? В «Новом сладостном стиле», разумеется, нет комсомольского задора. Но есть его заменитель. Вечная молодость духа театрального режиссера Корбаха. Когда, после нескольких лет перерыва, он ставит спектакль в университете «Пинкертон», к нему возвращается прежнее горение. Он молодеет лет на тридцать и уже не понимает, где он, в Штатах или в своем театре на Пресне. Вечная молодость материализуется не в комсомольских стройках («счастье на века»), а в раскопанном библейском патриархе, который, как две капли воды, похож на Сашу Корбаха. Правда, при этом вечная молодость как-то пахнет могилкой, но это ничего, не надо обращать внимание. Главное, что вечная молодость из будущего перенесена в прошлое — она не будет, она есть — и превращается в ретроспекцию, подозрительно напоминая аксеновское собрание сочинений, выпущенное «Изографом». Какая-то странная магия мерещится за всем этим: не хочет ли автор вернуть себе успех «Коллег» «Новым сладостным стилем»?
Да, в новом романе голоса героев то и дело врываются в повествование. В эпической «Московской саге» этот ранний прием был практически забыт. Да, авторский голос смешивается с голосами героев, демонстрируя знакомство писателя с еще одной работой Бахтина — «Проблемами поэтики Достоевского». Да, автор иногда попадает в собственные герои: так, Нора Мансур хочет перевести «Философию общего дела», для чего собирается нанять «одного русского писателя, такого Василия, который живет в Джорджтауне». С другой стороны, в некоторых точках роман раскрывается вовне: через семьдесят с небольшим страниц выясняется, что Саша Корбах (и все остальные, включая Нору) попал в роман этого самого Василия. Но, как и раньше, все голоса звучат одинаково. Только нет теперь юношеской наивности, из-за которой это прощалось. Есть, напротив, умудренный жизненным опытом голос. Подавляющий все остальные, в отличие от конца пятидесятых, где доминирующего голоса не было. Это голос то ли Саши Корбаха, то ли его alter ego — писателя Василия. Этот голос пытается учить, недаром в романе всплывает то Николай Федоров, то первый и главный классик в эпоху соцреализма Лев Николаевич Толстой, не успевший, к сожалению, получить Сталинскую премию. Саша Корбах сравнивает свои страдания, свой вынужденный (!) уход от дел с добровольным отказом от творчества пережившего кризис Толстого. А с миллиардером Стенли он говорит о главной толстовской теме последних десятилетий:
«Стенли усмехнулся:
Ответа нет, но есть бессмысленное признание. Я просто не могу жить из-за смерти. Вам это знакомо?
Теперь уже Александр усмехнулся:
Как бы я жил без этого?»
Тема заброшена в текст, как удочка, и заброшена, как дача. А еще Стенли просто не может жить из-за проблем с простатой. Как раньше Аксенов заставлял героев говорить обо всем, что его интересовало («Вы верите в коммунизм?»), так продолжает и сейчас. Только количество интересующих тем резко возросло, вырос писатель из комсомольского возраста. Да и нет теперь единственной всеобъемлющей темы. Поэтому снова и снова приходится включать миксер.
Функцию миксера выполняет, во-первых, commedia dell'arte, а во-вторых, карнавальный роман о Гаргантюа и Пантагрюэле. Эти два классических образца используются в качестве канвы. Как у нормального советского писателя, который пишет, без отрыва от производства учась у классиков. Только место устаревшего Льва Толстого занял одобренный новой линией Рабле. Это позволяет не только уйти от внешнего правдоподобия, но и закручивать сюжет, как угодно: что поделать, уважаемый читатель, карнавал. В принципе, писать, как пишется. Играя именами персонажей и городов. Переводя темы разговоров героев в тему разговора автора и читателя. Всячески подчеркивая сделанность литературной конструкции: «Теперь позвольте мне немного приподнять занавес, чтобы обнажить кое-какие беллетристические ухищрения и суету за кулисами. Впрочем, вы и без того, очевидно, догадываетесь, что мы превращаем очередь визитеров к Стенли Корбаху в своего рода парад персонажей, что призван напомнить читателям остальные лица этой истории».
Вот этих условий абсолютной свободы Аксенов-то и не выдерживает. Литературная игра превращается в неуемную болтовню. В новом аксеновском стиле нет и следа той обрывочности и недоговоренности, которая отличала его первые произведения. Нет диалога персонажей. Нет открытых финалов. Теперь Аксенов хочет высказаться по всем последним вопросам, договорить обо всем, окончательно, поэтому нет последнему разговору конца и краю, поэтому каждая новая его книга больше предыдущей. Стройный, пунктирный роман двадцатых (шестидесятых) превратился через тридцать лет в пухлую эпопею. Завершился новый виток диалектического развития советской литературы.
Мистическое значение карнавала, как и мистическое значение маски, осталось в прошлом. В словаре современного русского языка карнавал можно определить как «зубоскальство с переодеванием». Зубоскальства в «Новом стиле» предостаточно. Корбах постоянно шутит: по-русски, по-английски, по-богемному. Шутят и остальные персонажи, ведь они же американцы! Шутит, естественно, и В. А., подавая очередную порцию романа. Есть и пророческая шутка: Сергей Михалков в третий раз сочиняет гимн, сразу после событий 1991 года.
Переодеваний же как будто и нет. За исключением толстовского ухода, который с регулярностью совершает Стенли Корбах, а также, по-своему, и Саша. Уходы, действительно, родственны карнавалу. Как попытка перевоплотиться, полностью измениться не только внешне, но и внутренне. Начать жизнь с начала, в женском платье забравшись в американский автомобиль. «Новый стиль» — тоже перевоплощение, уход от прежнего. Грубо говоря, от соцреализма к Данте. Только перевоплощение это остается сменой платья. Попыткой отвести читателю глаза венецианским нарядом русского американца Корбаха. Кое-где в тексте появляется характерное зияние, и становится ясно, что король-то гол.
В августе 91-го Саша Корбах вместе с депутатами Верховного Совета РСФСР и защитниками баррикад выезжает к солдатам, чтобы убедить их не стрелять. Из солдатской толпы раздается самый главный вопрос: знал ли Корбах лично Володю Высоцкого?
«— На чьей стороне был бы сейчас Володя Высоцкий?
На нашей, — ответил Саша Корбах и больше ничего не сказал, но и этого было достаточно. Поднялся шум. Кто-то крикнул "Ура!"». Несмотря на опереточность всей этой сцены, оказалось, что «солдатику» совсем не интересно мнение великого Корбаха. Хотя весь роман нас убеждали: Корбах — это совесть нации. А на поверку совестью нации все-таки оказывается Высоцкий. И не случайно. Ни в жизни, ни в творчестве нет у него ни одного фальшивого звука. Рассыпается призрак Корбаха и лишь тяжким авторским трудом склеивается снова.
Идеей о совести нации отдает и центральное в «Новом сладостном стиле» напоминание о прошлом любимого автора.
Л-ра: Звезда. – 2001. – № 4. – С. 213-219.
Произведения
Критика
- Должен же кто-то бороздить мировой океан…
- Симпатии у нас общие
- Соцреализм карнавальный (Василий Аксенов как зеркало советской идеологии)













Поділитися