«...И железные трубы»
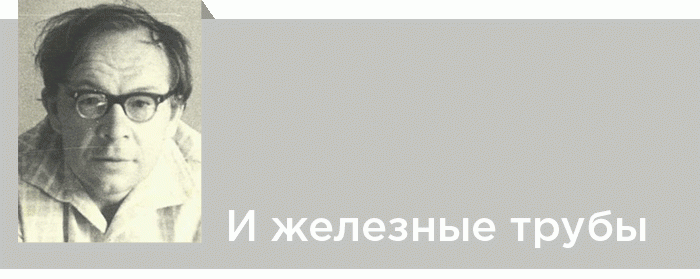
Александр Гангнус
Неспешные и субъективные мысли через год после выхода романа В. Дудинцева «Белые одежды»
1.
Вслед за «Новым назначением» и «Покаянием» и перед «Детьми Арбата» и «Котлованом» разразился этот роман, ни на что, вроде бы, не похожий, как бы требующий совершенно особого прочтения и — без «как бы» — весьма ответственного разговора. Этот разговор ведут критики; я же хочу остановиться не на художественных достоинствах романа, а на его, так сказать, историко-публицистической части.
Итак, лысенковщина. Как эпоха. Как явление общественно-политическое и даже социально-экономическое. Как симптом духовной спячки общества. Как психологический феномен. Как ключ к самым сокровенным тайнам, генетическому коду наших коренных пороков — составной части пороков общечеловеческих. Так сказать, Рядно вне и внутри нас...
Оба главных противника академика Кассиана Дамиановича Рядно — Иван Ильич Стригалев («Троллейбус») и Федор Иванович Дежкин — прошли — в разное время — через полосу очарования «простонародным академиком», построившим свой успех у студентов, коллег и самого корифея всех наук на тонко рассчитанной «сермяге» (рядно — грубая ткань, мешковина). У Стригалева и Дежкина — детей революции, пионеров 20-х и комсомольцев 30-х годов — нет иммунитета к растиньякам, хлынувшим на кормные места в новом государстве. Но этого же иммунитета не было и у старой гвардии — у того, к примеру, не названного в романе академика (им мог бы быть и тот же Посошков, а в реальности был Вавилов) — интеллигента-демократа традиционного для нашей науки типа, который проторил дорогу к академической сладкой жизни, к власти «самородку» из глубинки, распутину от агрономии Касьяну Рядно. Когда улеглось и не стало вопроса «кто кого», вылезло древнее, общечеловеческое «кто наверху, тот и орел». Наверх надо было пробиваться, утрируя свою «мужиковатость» и «самобытность», с прибаутками и переплясом. Гордиться тем, что «академиев не кончали», легче, чем притворяться интеллигентом, проще для голого карьеризма.
Искренние и честные рыцари науки были лишены всякого высокомерия — после революции сама мысль о храме науки, об особости науки как высокодуховной деятельности, доступной не всем, была «аристократической», стыдной. Но этот стыд снижал и высокую меру требовательности при отборе желающих — в результате гордая республика ученых стала превращаться в подобие древневосточной сатрапии.
2.
Впрочем, я уже вынужден извиняться, что сузил тему. В романе совершенно ясно показано, что процесс шел примерно одинаково во всех областях жизни. Полковник госбезопасности Михаил Порфирьевич Свешников, тайный союзник гонимых менделистов-морганистов, человек из сферы, где «проверка на вшивость» шла гораздо жестче и стремительней, не видит разницы между своим «рядном» — генералом Ассикритовым — и «рядном» академическим. И это правильно — генерал вполне мог оказаться академиком, а академик генералом, ибо для таких людей главное — не область применения их особых талантов, а само применение и цель — неуклонное возвышение и максимально возможная власть над людьми. Свешников, старочекистская косточка, называет их «парашютистами», то есть засланными: вредителями, диверсантами, врагами народа. И ведь это так! Так, как бы ни были теми же ассикритовыми скомпрометированы подобные определения. Разница только в том, что не коварный зарубеж засылал к нам этих самых страшных врагов революции и социализма, столь надсадно кричащих о революции и социализме, — недаром Свешников и считает этот крик главным признаком «парашютиста».
Касьяна вашего к нам заслал не царь, — говорит он. — Не Америка. Сам прилетел. Сначала все озирался, мечтал, завидовал. Искал ходы. ...Все они, как сговорились, отводили мое внимание от места, где парашютист обитал. Все туда велели смотреть, за рубеж. Или на царя оглядываться. Только не внутрь себя (разрядка моя. — А. Г.). И Касьян и мой Коля (Ассикритов. — А. Г.) прилетели к нам из своего собственного внутреннего пространства, переполненного завистью. Завистью и мечтой о власти.
И в другом месте:
Это перешло к нам не от капитализма, а от человека. А разговоры о капитализме только помешали нам его вовремя остановить.
С этой точки зрения (на мой взгляд — неопровержимой), лысенковщина — не просто прихотливый зигзаг в общем прогрессе науки, а именно «парашютизм», внутреннее перерождение, нашествие спекулянтов фразы, профанаторов идей, превративших вынужденный революционный террор в террор ради террора, верней, ради своего процветания, незаметная, необъявленная подмена якобинства термидорианством.
Здесь для «инженера человеческих душ» есть искушение подменить анализ категорий и явлений анализом чисто нравственным. Мол, человеческая природа была, есть и пребудет несовершенной, и в этом все дело, отсюда — крах всех классовых, социальных и иных научных подходов к человеческому поведению. Но возможный упрек в адрес В. Дудинцева в возврате к старым идеям предопределенности, врожденности добра и зла будет несправедлив. Просто писатель знает: на пути зла можно достичь особого успеха, если начнешь без проволочек, сразу. Трудно вообразить пылким, мечтательным, мягким юношей, например, Варлаама Аравидзе из «Покаяния»... Еще, кстати, одна ипостась «парашютиста». В романе многие на распутье, — например, те студенты, что, с азартом выполняя задание Ассикритова, выслеживают Дежкина; студенточка Женя, начавшая с небольшого предательства (как когда-то и сам Дежкин, впрочем), но не без тонких, рискованных ухищрений Дежкина прозревшая и беззаветно устремившаяся в стан гонимых. Зло прикрыто передовой фразеологией, рядится в добро, подкупает романтикой сыска, оно активно, а активность влечет активных. Основная масса идущих за «парашютистами» — запуганные, запутанные, оболваненные, купленные люди (есть и ничтожные подонки — Краснов-Бревешков). Болото, выражаясь языком французской революции. Но это не отменяет сатанизма выдающихся злодеев.
Я видел и слушал в 1965 году переполненный зал в одном из институтов, где обсуждалась моя газетная статья, направленная против академика — директора этого института. Академик возрос на «разоблачении» целой плеяды настоящих ученых, единственная вина которых была в том, что они — не мичуринцы, на травле выдающегося советского ученого В.Н. Сукачева, ни пяди не уступившего на августовской сессии ВАСХНИЛ. Тяжело было не видеть в такой толпе ни одного симпатизирующего лица. «Мичуринцы» все были горой за своего «батько» — директора. Это было целое поколение биологов, взращенное и развращенное Т.Д. Лысенко, поколение людей, для которых шельмование научного инакомыслия и физические методы расправы с оппонентом все еще были чем-то понятным и нормальным, овеянным романтикой их боевитой юности. В «травле честного человека», директора, обвиняли меня, газету. И обвиняли запальчиво, убежденно. На зависть! Сейчас нечасто увидишь такую коллективную убежденность...
3
«Окровавленное злодейство» лысенковщины не лишено обаяния и талантов. А в рамках науки — и своей чисто научной предыстории. Нужна полная правда, а она в данном случае заключается в том, что Лысенко ничего не выдумал, а все взял из истории науки, соединяя несоединимое, возводя в догму устаревшее. Выдающийся исследователь фотосинтеза и популяризатор дарвинизма К.А. Тимирязев в последний период жизни без достаточных оснований взял на себя критику с научно-идеологических, «общефилософских» позиций всех новых веяний в генетике и даже в физике, — веяний, нарушающих ясность сложившейся в конце XIX века научной картины мира. Это он, вместе с А.Г. Столетовым, перекрыл когда-то кислород молодому физику Б.Б. Голицыну, провалив новаторскую диссертацию этого ученого по математической физике. Сейчас специалисты говорят, что из Голицына мог бы получиться чуть ли не отечественный А. Эйнштейн. Не получилось. Росток научного гения хрупок. Голицын стал академиком, основателем научной сейсмологии. Но, увы, не Эйнштейном.
Авторитетом К.А. Тимирязева «подпитывался» Т.Д. Лысенко, во всяком случае, на первых порах все могло выглядеть как обычное, добропорядочное научное ретроградство — вещь вечная и при правильной организации науки нормальная.
Разница была в том, что во времена К.А. Тимирязева противостояние дарвинизма и генетики было реальностью, а Т.Д. Лысенко выступил против объединенного «генетико-дарвинизма», так называемой синтетической теории эволюции, родившейся в 20-х годах. То есть подспудно — и против дарвинизма. «Мичуринское учение», придуманное Лысенко, состояло из наиболее устаревших и ошибочных взглядов самого Дарвина, Мичурина, додарвиновского эволюциониста Ламарка, обрывков натурфилософских заблуждений XVIII и XIX веков — о «живом веществе», самозарождении жизни из грязи, о наследовании приобретенных признаков, взаимопревращении видов (кукушка самозарождалась среди яиц другого вида, овсюг из овса) и т. д.
Сама по себе эта мозаика отбракованных идей не лишена занимательности, в хорошем изложении увлекательна, как волшебная сказка. Отчасти отсюда — оглушительный успех Рядно у молодых биологов, у студентов, столь живо изображенный в романе. Это было разрешенное «бегство с уроков» от строгой, а потому порой скучноватой системы, бегство от учебников (не всегда, как и в наше время, занимательно написанных). Возмездие — в виде коллективного биологического обскурантизма и научного бесплодия — было неизбежно, но такие вещи незаметны, пока не с чем сравнивать. А поскольку истинная биология у нас была раздавлена, а «ихняя» засекречена и проклята — можно было тянуть канитель и год, и два, и все десять.
И опять-таки с синтетической теорией боролись не только шарлатаны от науки. Неустанно искали и находили в ней недостатки достойные противники, выдающиеся ученые — Л.С. Берг, А.А. Любищев, Д.Н. Соболев. Какую-то особую позицию в вопросе о происхождении и эволюции «живого вещества» занимал В. И. Вернадский. Несомненно, в некоторых случаях за этим инакомыслием стояла идеология. Например, А.А. Любищева дарвинизм — как прежний, так и новый — не устраивал своей ярко выраженной материалистичностью. Любищев верил, исходно постулировал, что природа одушевлена некой заложенной в ней изначально целью, что в ней и без человека есть нечто, аналогичное разуму.
Это — честный идеализм, который неотделим от процесса познания, который всегда сопутствовал науке в ее развитии, иногда как бы мешая, иногда как бы помогая. Теории жизненной силы, энтелехии, образовательного стремления, даже биополя — суть идеализм, но их же можно рассматривать как иксы в уравнении со многими неизвестными. А что еще могло стоять на месте генов, скажем, в XVIII-XIX веках, кроме икса, звучащего порой весьма идеалистично? Этот икс (в физике его роль играли флогистон, эфир) позволял двигаться дальше, работать. От честного идеализма истинная наука всегда стремилась отмежеваться и все же относилась терпимо, как к чему-то неизбежному. Может быть, поэтому не были в штыки с самого начала встречены и чрезмерно идеологичные спекуляции «народного академика», который с ходу начал заклинать диалектикой и прочими «классово выдержанными» жупелами. Самое интересное, что позиция Лысенко, его «идеологизм» были фактически обычной идеалистической реакцией на материализм науки (вместо наследственного вещества — совершенно мистический «эффект концентрированных воздействий внешней среды», вместо внутривидовой борьбы полурелигиозное «внутривидовое сотрудничество»), но прикрыта она была крайне, трескуче «материалистичной» фразеологией. Это был нечестный идеализм или ложный материализм, феномен ненаучного, то есть религиозного, по сути, сознания под прикрытием богоборческих заклинаний.
Вера вместо знания — на этом (что верно понял и детально показал В. Дудинцев) и схлестнулись истинная и имитированная науки в 1948 году. Лысенковщина была не наукой, а культом, примитивной разновидностью зарождающейся религии со всеми, даже формальными ее признаками: мертвый бог (Мичурин), отчасти перевранный, отчасти придуманный пророком-монополистом (Лысенко), святые, подвижники, ад, рай (Рядно Дежкину. «Загоняю тебя в доктора, дурачка. А ты не упирайся, иди. Там хорошо».) Есть там нечистая сила (Вейсман-Морган-Мендель), ненависть к «книжникам и фарисеям» (вейсманистам-менделистам-морганистам), предпочтение наивности и простоты «истинной веры» любому независимому знанию. В. Дудинцев вкладывает в уста «генерала вейсманизма-морганизма», датского генетика Мадсена такое замечание: «Мы думали с коллегами, что будет перечисление уже известных чудес... И знаменитое изложение полурелигиозных представлений о «живом веществе» и порождении новых видов из старых».
Веры, а не знания требует от своих прихожан академик Рядно. Знаниями наделен из них один Дежкин — и он под подозрением, вполне оправдавшимся. И если вспомнить настойчивую параллель между «парашютизмом» Рядно и генерала Ассикритова, то и в этом между ними — полное сходство. Рядно пытается воздействовать своим духом святым на Дежкина, рассовав по швам даренного им «полупердончика» записки-заклинания: «Батько все видит»; Ассикритов уверен, что «раскалывает» свои жертвы с помощью магнетического взгляда и пассов, напоминающих ужимки современных ревнителей биополя.
— Ассикритов — мало того, что он психопат, он еще и в потустороннее верит, — объясняет Свешников Дежкину. — Верит в силу своего сглаза. Есть такая ветвь, особая порода следственных работников. У них есть своя мистика.
4.
Несомненно, Рядно и Ассикритов — близнецы-братья. И имя тем братьям был легион. В каждой веси, в каждой области деятельности было свое, так сказать, рядно... Несомненно и то, что сам батько Рядно был всего лишь сколком, уменьшенной копией...
В этом романе Сталина почти нет, но есть исторический контекст, да и начитались мы за минувшее время немало, чтобы осознать: Лысенко находился приблизительно в том же соотношении с биологией, как бывший семинарист — с марксизмом-ленинизмом. Слова те же или похожие, суть иная, чаще всего — противоположная. Главное — не дух, не метод, а вера, причем вера не в те или иные постулаты (это не давало гарантии безопасности), а лично в товарища такого-то. Культ мертвых богов, норовящий перейти в культ живых.
Лысенковщина в таком понимании пронизывала все и вся. И далеко не во всех случаях смыта последующим покаянием.
Физики-«патриоты» объявляли походы против теории относительности и квантовой теории, некий «мичуринец» от геологии начинал травлю академика Н.М. Страхова, якобы впавшего в идеализм со своей классической теорией литогенеза. За восточным кордоном громили Конфуция. Предел, до которого может дойти это направление «мысли» в своем развитии, показала Кампучия, где подлежал уничтожению просто любой ученый, учитель, студент, «очкарик». Всякий, кто вообще что-то знает (это по-своему логично: любое самое маленькое независимое знание содержит в себе зародыш неверия, ереси и в развитии — бунта).
Пора, мне кажется, встряхнуться и посмотреть обесшоренным взглядом окрест и осознать меру зараженности лысенковщиной тех или иных сторон нашей жизни прежде и — в меньшей степени — теперь. И где как не в литературе смотреть? Пролеткульты, напостовцы, РАПП — это была первоначальная романтическая эпоха травли «нечистых» от имени якобы пролетарской, якобы классово-чистой культуры. Дальше явилась догма «соцреализма» с непременным требованием «жизнеутверждения» и «положительного» (в XIX веке это называли «благородного») героя. Эта древняя претензии провинциального вкуса была выдана за требование марксизма-ленинизма вполне в духе Кассиана Дамиановича, не смущавшегося противоречиями. И уже в совершенно мистическом духе чуть ли не рядом уживались взаимоисключающие «истины» о возрастании классовой борьбы при социализме и отсутствии серьезных конфликтов при нем же. Из этого безвыходного для человека культуры положения, заведомой вины в любом случае был ясный, известный выход: все прощалось при наличии безудержных и бесстыдных славословий в адрес «батьки» ранга Рядно и выше, нерассуждающей веры в его гений и отсутствии способности замечать непримиримые противоречия.
В эпоху застоя разновидностью лысенковщины в искусстве можно считать направление, для которого подходит название «бюрократический романтизм».
Здесь на всеобщее обозрение и восхищение выводится образ, от коего отступился, сжигая свой второй том, Гоголь. Образ героя-начальника, «батьки». Новый Костанжогло, иногда причесанный под современного и культурного («из интеллигентной семьи — отец полковник» — было сказано в одной читанной мной рукописи), иногда, подчеркнуто, вахлак, вроде Рядно — ибо «из народа», является как спаситель то на одну стройку, то на другую (варианты: мартены, домны, шахты, совхозы, райкомы). Он вразумляет, жучит, поучает, гоняет подчиненных. Некоторые романисты-сценаристы откровенно любуются особым «юмором» самодура, выражающимся, если посмотреть внимательно (и этот внимательный взгляд есть в романе В. Дудинцева), в унижении человеческого достоинства подчиненных и умении ублажить (порой обведя вокруг пальца) более высокое руководство. Обойти закон. Этакий героический эпос весьма определенной прослойки... Другой стереотип — бригадир или рядовой рабочий-передовик, увиденный мечтательным взглядом начальства. Тот идеал исполнителя, который грезится бравирующему на людях своим демократизмом бюрократу. Не худо подчас изобразить и превосходство такого «трудяги» над начальником (не слишком высокого ранга), особенно если от начальника-спеца слишком веет душком высшего образования и интеллигентности.
Этот сентиментальный взгляд на рядового исполнителя — вполне в духе бюрократического романтизма: почему не польстить беззаветному работяге, тем более что он выдуман? Это проще, чем улучшать реальному, из плоти и крови, рабочему жилье, условия его работы и обеспечивать яслями, садиками и нормальными школами его детей, платить то, что он заработал.
Ясно, откуда идет этот бюрократический романтизм — именно управленческое звено принимает на местах журналистов, киношников и писателей, кормит их (а недавно еще и поило) и насыщает информацией — под определенным, конечно, углом зрения. Чаще о начальниках пишут и писатели-начальники, удобно и живее получается — перевоплощаться нетрудно. На том же уровне табели о рангах могут оказаться те, кто заказывает и утверждает музыку — номенклатура творческих союзов, издательств, киностудий.
Такую литературу, такое «искусство мичуринского типа» легче всего изобразить для отчетов (нужных, конечно же, не народу, а тем же бюрократам) как культуру, отображающую «наши достижения», как «отклик» на директивные решения. Считалось даже, что такая культура как бы участвует в производстве и «приращении ремесел».
Этот бюрократический романтизм, лысенковщина в культуре, не отражает ничего, кроме желания некоего обобщенного «батьки» выглядеть покрасивше, а также факта — реального мощного влияния «батек» на довольно существенную часть нашей культуры. Эти романы (пьесы, фильмы и т. п.) — как те красивые или безвкусные надгробия в центральных аллеях наших провинциальных кладбищ. Места распределены по блату или по положению в иерархии, скульпторам «уплочено» — вот и стоят. Ни о каких реальных процессах нашей жизни или законах развития скульптуры эти аллеи не свидетельствуют. А если и свидетельствуют, то самим, так сказать, своим наличием — как вещественные доказательства в уголовном процессе. Или, если хотите, как памятники для историка об эпохе торжества серости. Рядна.
Дежкин размышляет о Сауле Брузжаке, заплечном коллеге и соратнике академика Рядно: «Не может быть, чтоб он так думал. Он создает образ, играет роль». Сценический, игровой момент в деятельности «батек» очень важен. При личной бездарности — тем большее внимание покровительствуемым музам. Рядно, прямо скажем, талантливо создавал свой плисово-переплясовый образ и заботливо следил за тем, как литература и искусство этот образ, вместе с развесистой пшеницей и превращением видов, воплощают. И сегодня пытаются выгородить зеленую улицу для якобы «народной» беллетристики, тратя бумагу и время на поиск ее преимуществ перед «ненародной». Пора, например, окинуть критическим оком горы томов, известных под обобщенным названием книг «производственной тематики». Это и будет истинным покаянием нашего цеха «людей, о коих не сужу затем, что к ним принадлежу».
5.
Снова ведут подкоп под генетику и дарвинизм (дарвиновский музей чуть не закрыли в 1986 году — спасло вмешательство «Правды»). Снова славят самобытных «народных» ученых, делающих науку сердцем и верой, наблюдающих самозарождение жизни в пробирке. В тысячный раз повторяют давно раскрытые и опровергнутые «факты» наследования приобретенных признаков. Тщательно собирают сведения о махатмах, пассажирах летающих тарелочек — и называют этой наукой. Видная экстрасенска, вознесшаяся под занавес эпохи застоя волею некоего руководителя Госплана очень высоко, поднялась еще выше, уже печатает стихи, выставляет картины и поучает людей с трибуны, как им жить в эпоху ядерной угрозы. При этом на биополе уже не настаивает. Дело ведь не в биополе, а успехе любой ценой...
Земля — живое тело. И как живой организм — представляет из себя целое... По ней ходит человек! Ее населяют целые мириады микроорганизмов, и все они дополняют друг друга, поддерживают, кормят, лечат... А догматик долбит свое. Борьба за существование! Внутривидовая борьба! Не борьба, а взаимодействие, поддержка, единство, гармония!
Это говорит академик Рядно в романе и говорил в жизни Т.Д. Лысенко. Многим и сейчас это прекраснодушие покажется и поэтичным, и почти верным, и, во всяком случае, безобидным. Но произнося эти речи, Лысенко дал добро на посадку государственных лесополос в приволжских степях. Саженцы пучками высаживались — без удобрений и мелиорации — прямо в солончак под палящее солнце. Мол, взаимопомощь дубков превозмогает все. Убыток только от этой акции обошелся народу в десять миллиардов рублей (от фокусов в картофелеводстве, описанных в романе, — в десятки раз больше).
Здесь выступает вперед общий и наименее преодоленный на сегодня лик лысенковщины — затратно-парадный подход к оценке приносимой пользы. Тщательно выпячивается видимая мощь организационной активности — гром аплодисментов на многолюдных пленарных, юбилейных заседаниях, парадные монографии-компиляции, численность научных сотрудников, количество институтов, превосходство «нашей» науки над «ихней» — чаще либо в несущественных областях, либо просто в воображении, трата миллионов на «великие свершения», броские в парадных докладах (типа поворота рек) — без анализа их нужности или вредности.
Был ли Лысенко-Рядно первопроходцем? Увы! По сей день мало кто знает, что задолго до гибели Вавилова и тем более разгона генетики точно теми же методами была ликвидирована «генетическая школа» советской экономической науки, чтимая во всем мире. В 1928 году были выгнаны, репрессированы (позже большей частью и расстреляны) почти все, кто не пожелал отказаться от научного подхода к экономическому развитию. Мало кто знает, что посмертная реабилитация загубленных экономистов-«генетиков» началась только в эпоху нынешней перестройки, через 60 лет... Затратно-парадный, «мичуринский» метод волевых планов, рапортов, приписок, встречных планов, саморазвития производства средств производства без внимания к нуждам людей, мистическая вера во всемогущество начальственного «да будет...» — победили прежде всего в экономике и нехотя начали сдавать свои позиции лишь сейчас, перед лицом «предкризисного состояния»... Эта мучительная трагедия еще ждет своего В. Дудинцева...
Немецкий просветитель и революционер Г. Форстер первый поставил под сомнение давнюю «выдумку деспотов» о стремлении народов к счастью. Для Форстера приманка счастья — для оболванивания простаков, способ отвлечь народы от их истинных исконных прав — прежде всего права на честь и достоинство.
В. Дудинцев устами старого селекционера Василия Степановича Цвяха как бы продолжает эту мысль великого гуманиста:
Не всю природу мы покорили! Счастье еще свободно выбирает достойного! Поймать его не пробуй. А то бы ловцы давно заперли его в сейф, еще тысячу лет назад. И наш Касьян выдавал бы его по своим запискам. Вот как хорошо, как хорошо устроила великая природа!
И еще:
Счастье в тебе. Когда положишь свою плоть, чтоб напитать ближних... Прольешь кровь, переплывешь моря страданий... Вылезешь на берег еле живой... Тут счастье само тебя найдет, не помышляющего о нем...
Герои Дудинцева имеют право на такие обобщения. Тот же резонер Цвях рассуждает в начале романа:
Ты можешь прожить долгую жизнь и даже отойти в лучшие миры, так и не узнав, кто ты — подлец или герой. А все потому, что твоя жизнь так складывается — не посылает она испытаний, которые загнали бы тебя в железную трубу, где есть только два выхода — вперед или назад.
Героям Дудинцева железные трубы — фигурально и буквально — были посланы не волею автора, а самой жизнью. Они узнали, что подлецы — не они, и тем самым получили право на счастье. Те, кто выжил.
Я не буду обижать автора стандартным уверением, что при всей мрачности темы и беспощадности правды роман, мол, «дышит оптимизмом». Не дышит! И слава богу: такой «оптимизм» — это ведь тоже слепая вера, способная разоружить, безответственная убежденность, что все, мол, даже самое страшное — все равно к лучшему. Не к лучшему! Только знание, правда, которой не может быть слишком много, может дать надежду на заблаговременное обнаружение и разоблачение рядна. Образ Кассиана Дамиановича с лязгающей золотом челюстью и фаготным гласом, умеющим вводить в соблазн, должен надолго, навсегда омрачить нашу картину мира — как «мементо мори» — в противном случае он явится опять по душу каждого из нас.
...Хорошо хоть иногда прочесть действительно умный, подлинно философический и при этом абсолютно современный роман.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1988. – № 3. – С. 16-19.
Произведения
Критика


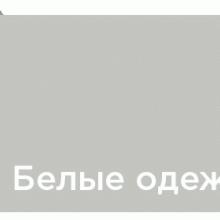










Поділитися