Облик бури (Леониду Мартынову — 75 лет)
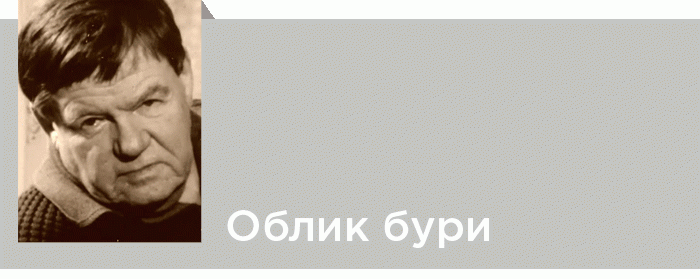
Сергей Чупринин
В стихи Леонида Мартынова хорошо влюбляться в отрочестве. Самое время кружить голову наплывами волшебного ритма и волшебной нежности:
Ты относишься но мне.
Как к полям.
Ты относишься ко мне.
Как к лесам.
Ты относишься ко мне,
Как я сам
Относился бы к волне,
К парусам.
Самое время брать первые уроки гражданской страсти, наращивая бойцовскую мускулатуру, учась разбираться в контрастах и оксюморонах не столько поэтических, сколько социальных, этических: «От города не отгороженное пространство есть. Я вижу: там богатый нищий жрет мороженое за килограммом килограмм. На нем бостон, перчатки кожаные и замшевые сапоги. Богатый нищий жрет мороженое... Пусть жрет, пусть лопнет! Мы — враги!»
Именно в отрочестве естественней всего как продолжение бабушкиных сказок, как пролог грядущих «взрослых» чудес воспринимаются мартыновские Черт Багряныч и дева Январка. Именно отрочеству потребны неукоснительная точность и рельефная определенность мартыновских формул и оценок, мартыновская поляризация тьмы и света, добра и зла — поляризация тем более очевидная, что она сохраняет силу и в условиях того смешения, неразличения сна и яви, реальности и мечты, которое так характерно для автора «Лукоморья» и «Гипербол» и которое так верно схватывает подвижную психологию подростка.
...Все сказанное может вызвать, пожалуй, и недоумение, ибо Леонид Мартынов неизменно обращался и обращается со своим словом, вряд ли принимая в расчет особенности восприятия той или иной аудитории и уж никак не потрафляя чьим бы то ни было вкусам и наклонностям. И все же, думаю, многие и лучшие стихи Мартынова уже вступили на путь, который в свое время проторили «Робинзон Крузо» и «Путешествия Гулливера», «Остров сокровищ» и «Два капитана», превратившись в излюбленное чтение все новых и новых юных поколений. Согласимся по крайней мере с тем, что читателю взрослому, до одури, до зевотной скуки «взрослому», просто нечего делать в завороженном мире Лукоморья, там, где всегда в цене затейливые чудачества и буйное фантазерство, где властвуют твердые, не размываемые сомнением понятия чести и рыцарского благородства, где добро с завидным постоянством торжествует над злом, где нет и не может быть демаркационной линии между сказкой и данными опытной науки, между автобиографией поэта и биографией века.
«Я никогда не ощущал себя живущим в стабильном мире...» — сказано в поэме «Северное сияние». И действительно, после Маяковского наша поэзия не знала, пожалуй, никого, кто с таким пылом, так яростно, как Мартынов, отрицал бы уютную стабильность, гармоническую слаженность миропорядка, кто, бросая вызов Саваофу ли, законам ли космического тяготения, стремился бы с таким пылом раскатать вселенную по бревнышку и на освободившемся просторе воздвигнуть новую реальность — лучше, краше прежней, отстаивая свое кредо, сложившееся, конечно же, в пору революционных бурь и буревого мироощущения...
Все строилось заново: от экономики до этики, от законов общежития до законов поэтического языка. И, вдохновленный сознанием, что «мир не до конца досоздан», поэт и свои стихи превратил в стройку, смело экспериментируя, формируя новые понятия и новую речь.
Дело поэта — улавливать токи времени, прогнозировать грядущее развитие, подталкивать расторможенное воображение читателей-современников, призванных «строить и месть в сплошной лихорадке буден» (В. Маяковский). Поэтому, наверное, в стихах Леонида Мартынова так мало непосредственных «привязок» к конкретике эпохи — своей определенностью они лишь сковали бы планетарность устремлений поэта, убавили бы накал его гражданской страсти. И поэтому же, быть может, так верно передано в мартыновской лирике миросозерцание сверстников поэта, их безоговорочная оптимистичность, их убежденность в первенстве общественного блага перед благом личным, их вера в скорое торжество идеального миропорядка. В стихах Мартынова «строить и месть» вместе с человеком выходит природа, над всею планетой — над всею Галактикой даже — прокатываются очистительные весенние грозы, стряхивая извечную дрему бытия, одушевляя космос, втягивая его в вершительство новых судеб вселенной.
Так, принявши облик бури,
Мы летим. Пора настала,
Чтоб о нас иное море
Днем и ночью грохотало...
— так писал Леонид Мартынов, заверяя читателя-единомышленника: «В осенний час соседний мир поджечь я улетел в потоке Леонид». Так — возьмем близлежащие примеры, о всемирном содружестве «колодников земли» — о переустройстве космоса на новых началах грезил Хлебников, клянясь именами Разина и Лобачевского. Так пел «Торжество земледелия» Заболоцкий, запечатлевая дивное братское согласие человека с растительным и животным царствами.
Нынешний читатель вправе, конечно, отметить абстрактно-риторический пафос многих стихов той поры, их известную воспаренность над прозой повседневности, не всегда дотягивающей до уровня воплощенного или хотя бы воплощающегося идеала. Нам же сейчас важнее другое: и сейчас, за огневым валом семидесятипятилетия, Леонид Мартынов сохранил верность порывам мятежной юности и как гражданин и как художник. И сейчас в мире его лирики не стихает гул титанической работы, меняющей очертания материков, пролегающей маршруты к дальним созвездиям, вовлекающей все природные стихии в процесс созидания завтрашней нови. И сейчас Мартынов, не колеблясь, предпочитает взгляд «с точки зрения будущего». Ибо «...вечно продолжается пересотворение миров» и надо непременно поспеть к мигу, когда «в бездне буревой» вспыхнет огонь новой, праздничной жизни.
Прогнозируя грядущее, рассматривая сегодняшний день как «настающее настоящее», поэзия, по мысли Мартынова, не имеет права плестись в хвосте событий, покорно отражая будничную реальность. Святая обязанность поэта — опережать ход времени, забрасывать стиховые десанты на плацдарм третьего тысячелетия.
Увлекая читателей в многомерный мир своей фантазии, Леонид Мартынов учит их жить в ускоренном, летящем темпе, опережающем, подталкивающем течение дней и лет. Пока идут толки о шестом чувстве, поэт не раз успеет призвать: «Этому чувству шестому на смену, чувство седьмое, расти!» Пока разворачивается освоение околоземного пространства, поэт отправляет «народ пространстволюбцев непокорных» в странствие по Млечному Пути. Видно, и в самом деле:
Это
Почти неподвижности мука —
Мчаться куда-то со скоростью звука.
Зная прекрасно, что есть уже где-то Некто,
Летящий со скоростью Света!
Стихи Леонида Мартынова — отличное противоядие от уныния, скепсиса, пессимистического взгляда на настоящее и будущее. Он убежден: «...неизбежен час прилива, чтоб снова из бездонной мглы обрушились на плоский берег тяжеловесные валы».
Оптимизм поэта ничего общего не имеет с ребяческой безмятежностью. Он продуман, обеспечен долгими и мучительными размышлениями о логике всемирной истории и алогизме индивидуального сознания, столь склонного поддаваться неверию и панике. «Тонем! Гибнем!» — писал Л. Мартынов. — Я вырос под вопли и стоны эти, продолжающиеся тысячелетья. Вековечное кораблекрушение не кончается. И на якобы тонущем корабле, изменяющем свои названья и очертания, — то он «Титаник», то «Лузитания», — умирают и нарождаются новые и новые поколения, будто бы на твердой земле».
Прожив семьдесят пять лет в век мировых войн и сокрушительных социальных катаклизмов, поэт не может не знать, сколь велика и страшна та угроза, что нависла над человечеством. Поэтому с таким гневом пишет он о фашизме. Поэтому так непримирим к тем, кто сеет рознь между людьми. Поэтому так внятен его голос в спорах об упрочении культурно-исторического и экологического равновесия.
И пусть, вперяясь в небо, «...вы скажете: какое мглистое, какое смутное оно! Бывает так... Но все равно я покажу вам небо чистое». Вот точка зрения поэта, преображающего повседневность, омывающего ее весенними ливнями, верящего — вопреки любым мрачным прогнозам, — что тучи, прежде чем растаять (а растают они обязательно, нельзя иначе), еще и заблистают «радугой рядом с ветром и градом!»
Доказывая, «что доброй воле нет преград, что жизнь празднична и хороша в каждом ее проявлении, что только от человека зависит его собственная судьба, Леонид Мартынов не чурается ни назидательности, ни суховато-рационалистических выкладок, ни эмоциональных, голосовых нажимов. Недаром ведь всех знаков препинания ему милее знак восклицательный, утверждающий. Не случаен и характерный, типично «мартыновский», строфический рисунок многих его стихов, где эмоционально и графически выделено каждое слово. Например:
Лесной
Массив
Красив.
Или:
Полночь Чистых прудов Непроточна.
Ориентация на изобразительный строй стихов Маяковского здесь очевидна. Но так же очевидна и несхожесть. Поэтическая мысль Мартынова словно бы тяжко взбирается по уступам стихотворной пирамиды, давая читателю возможность въяве ощутить вес и плотность каждого — даже совершенно обычного, «проходного»!— слова.
Мартынову близка роль пророка, того, что «...по лире вдохновенной рукой рассеянной бряцал». Роль оракула, каждое слово которого заведомо подхватят, чтобы истолковать его в меру собственного разумения. Просветителя, взявшего на себя труд давать «смелые уроки», сеять просвещение и насаждать чувства добрые. Скомороха, по давней традиции наделенного правом говорить суровые истины всем и каждому.
Все эти определения роли художника в мире — оракул, просветитель, скоморох — могут показаться несоразмерными, а то и противоречащими друг другу. Но одно их объединяет с несомненностью: свойственное поэту ощущение своего избранничества, своей призванности к высокому делу слова. Живя жизнью сограждан, не отделяя свои заботы от их забот, поэт, наделенный провидческим даром, в то же время вбирает и «...неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье».
В стихах и творческой позиции Леонида Мартынова есть та высокая, «аристократическая» старомодность, без которой так трудно было бы обойтись современной поэзии и которая с такой безошибочной верностью трогает души романтические, страстные — души юношей, обдумывающих житье, души всех, кто и на самых крутых жизненных перевалах не растерял молодости, энтузиазма, азарта. Взволнованно отмечая «удивительно мощное эхо», отзывающееся на его стихи, поэт склонен отнести его на счет родного времени («Очевидно, такая эпоха») и родной державы («Такая колоссальная страна, пейзаж такого сложного рисунка, что даже балалаечная струнка звучит, как громогласная струна»). Со свойствами времени и пространства все верно, но надо помнить и про мощь и про благородную чистоту того голоса, что уже почти шестьдесят лет звучит в нашей поэзии, напоминая о грядущем, помогая ему, Грядущему, родиться.
Л-ра: Октябрь. – 1980. – № 5. – С. 215-218.
Произведения
Критика
- «Об этом, что ни миг, то новом мире...» (О поэзии Леонида Мартынова)
- Облик бури (Леониду Мартынову — 75 лет)
- «Открытый» символ (Некоторые особенности философской лирики Леонида Мартынова)

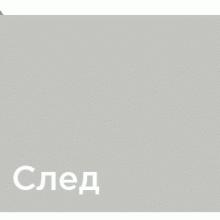











Поділитися