Тобайас Смоллетт. Приключения Родрика Рэндома
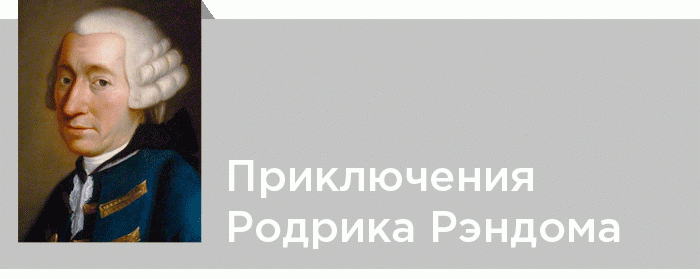
(Отрывок)
Глава I
О моем рождении и происхождении
Я родился на севере Соединенного королевства, в доме моего деда, джентльмена, располагавшего значительными средствами и влиянием, который много раз прославил себя услугами, оказанными родине, и был примечателен своими способностями к законоведению, применяемыми им, в качестве судьи, с большим успехом преимущественно против нищих, к которым он питал необъяснимое отвращение.
Мой отец, младший его сын, влюбившись в бедную родственницу, жившую при старом джентльмене на положении экономки, тайно женился на ней, и я был первым плодом этого брака. Во время беременности некое сновиденье столь обеспокоило мою мать, что супруг, утомленный ее докучливыми настояниями, обратился наконец к провидцу-хайлендеру{3}, чье благоприятное истолкование он охотно обеспечил бы заранее с помощью взятки, но нашел оного провидцанеподкупным.
Ей приснилось, что она разрешилась от бремени теннисным мячом, а дьявол (к великому ее изумлению, он играл роль повитухи) с такой силой ударил этот мяч ракеткой, что тот мгновенно исчез; в течение некоторого времени она была безутешна, лишившись своего отпрыска, как вдруг увидела, что мяч с такою же стремительностью возвращается обратно и зарывается в землю у ее ног, откуда немедленно вырастает прекрасное дерево, покрытое цветами, аромат которых так сильно подействовал на ее нервы, что она проснулась.
Осмотрительный мудрец, после некоторого раздумья, заверил моих родителей, что их первенец будет великим путешественником, что ему предстоит перенести многие опасности и невзгоды, но в конце концов он вернется на родину, где и будет преуспевать, счастливый и всеми почитаемый. Правдиво ли было это предсказание, обнаружится в дальнейшем. В скором времени некая услужливая особа осведомила моего деда о близких отношениях, возникших между его сыном и экономкой; это сообщение весьма сильно его встревожило, и по прошествии нескольких дней он сказал моему отцу, что давно пора ему подумать о женитьбе и что он-де присмотрел для него невесту, против которой у того не может быть по совести никаких оснований возражать. Скрывать дольше свое положение было невозможно, мой отец откровенно признался во всем, оправдывая себя перед отцом, у которого не испросил разрешения, тем, что считал это совершенно бесполезным: буде его желания стали известны моему деду, тот мог бы принять меры, окончательно препятствующие исполнению их. Он добавил, что ни одного слова нельзя сказать против добродетели, происхождения, красоты и ума его жены, а что касается богатства, то о нем он не почитает нужным заботиться. Старый джентльмен, превосходно владевший всеми своими страстями, кроме одной, выслушал его до конца с большим спокойствием, а затем хладнокровно спросил, как намерен он содержать себя и свою супругу? Тот отвечал, что ему отнюдь не грозит нужда, пока он сохраняет любовь своего отца, о чем всегда и с величайшим почтением будут заботиться и он и его жена; он убежден, что предназначенные ему средства будут соответствовать достойному положению их семейства, а также обеспечению, уже полученному его братьями и сестрами, заключившими счастливые союзы под покровительством родителя.
— Ваши братья и сестры, — сказал мой дед, — не считали для себя унизительным испросить моего совета в таком важном деле, как супружество. Да и вы, полагаю я, не преминули бы исполнить сей долг, не будь у вас отложена про запас некоторая сумма денег, на которую вам и надлежит сейчас рассчитывать, и я выражаю желание, чтобы вы на эти средства сегодня же вечером подыскали для себя и жены другое жилище, куда в ближайшее время я пришлю вам запись моих расходов на ваше образование, дабы вы их возместили. Сэр! Вы завершили свое образование поездкой в Европу, вы учтивый джентльмен, очень красивый джентльмен… Я желаю вам всего наилучшего и остаюсь вашим покорнейшим слугой.
Легко вообразить, в каком состоянии оставил он моего отца после таких слов. Однако тот недолго колебался; превосходно изучив нрав своего отца, он не сомневался в том, что старый джентльмен был рад этому предлогу от него избавиться, а так как решения его были непреложны, подобно законам мидян и персов, мой отец считал бесцельным прибегать к просьбам и мольбам. И вот, отказавшись от новых попыток, он удалился со своей безутешной подругой на ферму, где проживал старый слуга его матери. Там они жили некоторое время в условиях, мало подходящих к их изысканным вкусам и к их нежной любви; однако мой отец предпочитал мириться с ними, только бы не обращаться с мольбами к бессердечному и непреклонному родителю. Но моя мать предвидела те неудобства, какие ей неизбежно предстояли, ежели бы она разрешилась от бремени в этом месте (а беременность ее приближалась к концу), и, не поведав супругу о своем замысле, отправилась в дом моего деда, решив скрыть, кто она такая, и надеясь, что ее слезы и ее положение пробудят в нем сострадание и примирят его с событием, ныне уже неотвратимым. Ей удалось обмануть слуг, и о ней было доложено как о несчастной леди, пожелавшей принести жалобу по поводу каких-то супружеских обид: в круг ведения моего деда входило разбирательство всех такого рода скандальных дел и право выносить по ним решения. Посему она была допущена к нему и, открыв свое лицо, упала к его ногам, в трогательнейших выражениях умоляя его о прощении и в то же время указывая на опасность, угрожавшую не только ей, но и жизни его внука, который должен был вот-вот появиться на свет. Он выразил сожаление, сказав, что неосмотрительность ее и сына принудила его дать обет, препятствующий оказать им какую бы то ни было помощь; он-де уже поделился своими суждениями об этом предмете с ее мужем и удивлен, что своей назойливостью они снова нарушают его покой. С этими словами он удалился.
Глубочайшее волнение произвело такое действие на организм моей матери, что у нее немедленно начались родовые муки, и если бы старая служанка, горячо ее любившая, не сжалилась над ней и не оказала ей помощи, рискуявызвать неудовольствие моего деда, то и мать моя и невинный плод ее чрева неминуемо стали бы несчастными жертвами его жестокости и бесчеловечности. Благодаря дружелюбию этой бедной женщины мою мать отнесли на чердак, где она тотчас же разрешилась от бремени мальчиком, о злосчастном рождении которого ныне повествует он сам. Мой отец, уведомленный о происшедшем, примчался обнять свою возлюбленную супругу и, осыпая отеческими поцелуями своего отпрыска, не мог удержать потоки слез, узрев, что милая подруга его сердца — а ради нее он пожертвовал бы всеми сокровищами Востока — лежит распростертая на тощем тюфяке в помещении, непригодном для защиты ее от суровой непогоды. Нельзя предположить, чтобы старый джентльмен не ведал о случившемся, хотя он и сделал вид, будто ничего не знает, и притворился весьма изумленным, когда один из его внуков, сын его старшего покойного сына, — живший с ним как прямой его наследник, — сообщил ему о событии. Тогда он решил не идти ни на какие уступки и на третий же день после разрешения моей матери от бремени послал ей настоятельный приказ покинуть дом и выгнал служанку, которая спасла ей жизнь.
Этот поступок привел в такое негодование моего отца, что он разразился самыми страшными проклятьями и, упав на колени, молил небо о том, чтобы оно отвергло его, если он когда-нибудь забудет или простит бесчеловечность своего родителя. Вред, причиненный моей несчастной матери тем, что ее удалили при таких обстоятельствах, и отсутствие самых необходимых удобств там, где она поселилась, а также скорбь ее и душевная тревога вскоре привели к изнурительной болезни, которая и пресекла ее жизнь. Мой отец, нежно ее любивший, был столь потрясен ее смертью, что в течение шести недель пребывал в состоянии безумия; тем временем люди, у коих он жил, отнесли младенца к старику, который, услыхав грустную весть о смерти своей невестки и горестном состоянии сына, настолько смягчился, что отправил ребенка на попечение кормилицы и распорядился, чтобы моего отца перевезли к нему в дом, как только он снова обретет разум. Почувствовал ли этот жестокосердый судья угрызения совести за свое бесчеловечное обращение с сыном и дочерью, или (что более вероятно) опасался, как бы репутация его не пострадала среди окрестных жителей, но он горько сожалел о своем отношении к моему отцу, чье безумие уступило место глубокой меланхолии и задумчивости. В конце концов отец мой исчез, и, несмотря на все розыски, так ничего и не могли о нем узнать; это обстоятельство укрепило у большинства людей уверенность в том, что он покончил с собой в припадке отчаяния. О том, как я узнал подробности, связанные с моим рождением, станет известно из этих мемуаров.
Глава II
Я подрастаю. — Меня ненавидят мои родственники. — Отправляют в школу. — Мой дед относится ко мне с пренебрежением. — Мой учитель дурно обращается со мной. — Я приучаюсь переносить жизненные невзгоды. — Вступаю в тайный союз против педанта. — Мне воспрещен доступ к моему деду. — Меня преследует его наследник. — Я вышибаю зубы его учителю
Нашлось немало людей, подозревавших моих дядьев в причастности к судьбе отца моего на том основании, что все они разделили бы предназначенное ему по наследству имущество; это соображение подкреплялось доводом, что при всех его злоключениях они ни разу не обнаружили ни малейшей склонности ему помочь, но, напротив, пользуясь всеми доступными им уловками, разжигали неприязнь старого джентльмена и поддерживали его решение покинуть моего отца в несчастье и нищете. Но люди рассудительные считали такое заключение нелепой выдумкой по той причине, что ежели бы у моих родственников хватилозлобы совершить ради своей выгоды столь ужасное преступление, судьбу моего отца разделил бы и я, чья жизнь также являлась препятствием на пути к осуществлению их надежд.
Я быстро подрастал и, отличаясь большим сходством с моим отцом, который был любимцем арендаторов, имел все, что только могли они мне предоставить при своих скудных средствах. Однако их расположение было слабой защитой против ревнивой враждебности моих кузин; чем больших успехов можно было ожидать от меня в младенчестве, тем упорнее становилась их ненависть ко мне; и мне не исполнилось еще и шести лет, как я был уже столь ловко отстранен от моего деда, что мог видеть его только украдкой; иной раз я подходил к его креслу, когда он сидел, наблюдая за своими работниками в поле, и в таких случаях он гладил меня по головке, наказывал быть хорошим мальчиком и обещал заботиться обо мне,
Вскоре меня послали в ближайшую деревню, в школу, где мой дед с незапамятных времен был полновластным владыкой, но так как он не платил за мое содержание и не снабжал меня ни одеждой, ни книгами, ни прочими необходимыми вещами, то вид у меня был ободранный и жалкий, а школьный учитель, который, боясь моего деда, обучал меня gratis, отнюдь не заботился о том, какие успехи я делаю под его руководством. Вопреки всем этим трудностям и унижениям я преуспел в латинском языке, а как только научился сносно писать, стал до такой степени докучать деду письмами, что дед мой вызвал учителя и сурово разбранил его за труды, положенные на мое образование, присовокупив, что, буде я угожу на виселицу за подделку документов, чему тот меня обучил, кровь моя падет на его голову. Педант, больше всего на свете страшившийся немилости своего патрона, заверил «его честь», что мальчик обязан своими успехами скорее способностям и прилежанию, чем полученным указаниям или поощрениям; что хотя он и не может лишить меня уже усвоенных мною знаний, — разве что старый джентльмен уполномочит его переломать мне пальцы, — но с божьей помощью постарается предотвратить дальнейшее мое развитие. И в самом деле он в точности исполнил задуманное: сославшись на то, будто я писал дерзкие письма деду, он приказал сделать дощечку с пятью дырками, в которые просунул пальцы моей правой руки, и привязал ее веревкой к запястью так основательно, что я лишился всякой возможности пользоваться пером. Но от этого орудия обуздания я освободился через несколько дней благодаря — случайной ссоре между мной и одним мальчиком, который, вздумав поиздеваться над моей нищетой, привел меня своими злыми насмешками в такое бешенство, что одним ударом дощечки я рассек ему голову до кости, к великому ужасу моему и других школяров, оставивших его окровавленного на земле и бросившихся доложить учителю о происшествии.
За это преступление я подвергся столь жестокой каре, что, доживи я до мафусаиловых лет, впечатление, ею на меня произведенное, не изгладится, равно как и отвращение и ужас, зародившиеся в моей душе к безжалостному тирану, наказавшему меня. Презрение, которое, натурально, вызывал мой вид у всех, кто встречался со мной, нужда, постоянно преследовавшая меня, да и мой высокомерный нрав, не мирившийся с обидами, втягивали меня в тысячу досадных приключений, благодаря чему я в конце концов привык к напастям и набрался храбрости для предприятий, отнюдь не соответствовавших моему возрасту. Частенько меня подвергали порке за преступления, мною не совершенные, потому что в деревне я почитался бродяжкой и мне приписывали любой озорной поступок, если виновник его оставался неизвестным. Меня обвиняли в похищении плодов из сада, куда я даже не заглядывал, в убийстве кошек, которых я пальцем не трогал, в краже имбирных пряников, хотя я к ним не прикасался, и в оскорблении старух, хотя я их в глаза не видел. Мало того, у одного заики-плотника хватило красноречия убедить учителя, будто я выстрелил в его окно из пистолета, заряженного дробью, хотя моя квартирная хозяйка и все ее семейство засвидетельствовали, что я крепко спал в своей постели в момент совершения этого преступления. Однажды меня высекли за то, что я едва не погиб, когда затонул паром, на котором я находился; в другой раз — за ушибы, причиненные лошадью и повозкой, переехавшей меня; в третий раз — за то, что меня укусила собака пекаря.
Короче говоря, являлся ли я виновником или жертвой, меры исправления, применяемые ко мне этим придирчивым педагогом, и его отношение ко мне оставались неизменными. Мое негодование, отнюдь не сломленное таким зверским обращением, восторжествовало над тем раболепным страхом, какой до сей поры принуждал меня к послушанию, и, подрастая и набираясь знаний, я все яснее понимал несправедливость и жестокость его поведения. Благодаря незаурядным способностям, а также советам и указаниям помощника учителя, бывшего слугой моего отца во время его путешествий, я сделал значительные успехи в классических науках, в письме и арифметике, и мне не было еще двенадцати лет, когда все признали меня лучшим учеником в школе. Такая репутация, равно как и отважный дух и крепкое сложение, подчинившие мне почти всех моих сверстников, возымели такое влияние на них, что я стал обдумывать заговор против моего преследователя и обрел надежду в ближайшее время бросить ему вызов. Возглавляя отряд из тридцати мальчишек, — большинство было моих лет, — я решил подвергнуть испытанию их мужество, чтобы узнать, в какой мере можно на них положиться, прежде чем я приступлю к исполнению моего грандиозного плана. С этой целью мы атаковали группу дюжих подмастерьев, которые завладели частью площадки, отведенной нам для наших развлечений, и теперь играли здесь в кегли; но я с огорчением увидел, что мои приверженцы были мгновенно разбиты наголову, причем одному из них во время бегства кто-то из противников сломал ногу кеглей, брошенной нам вслед. Это поражение не удержало нас в дальнейшем от частых столкновений, когда мы издали швыряли в них камнями, и я получил немало ран, от которых и по сие время остались шрамы. Для наших врагов эти стычки были такой помехой и так их злили, что они в конце концов отказались от своей победы и предоставили нам мирно пользоваться нашим участком. Слишком долго было бы перечислять подвиги, совершенные членами нашего союза, приводившего в ужас всю деревню, а когда противоречивые интересы вызывали раскол, одна из сторон обычно призывала на помощь Родрика Рэндома (так звали меня), чтобы уравновесить силы и держать в страхе противную сторону.
Тем временем я пользовался каждым свободным от занятий днем для посещения моего деда, к которому редко получал доступ, ибо его окружали плотной стеной его многочисленные внучки, хотя и вечно ссорившиеся между собой, но неизменно объединявшиеся против меня, как против общего врага. Его наследник, примерно лет восемнадцати, интересовался только охотой на лисиц, да ни на что другое и не был годен, хотя благодаря потворству деда при нем состоял домашний учитель, исполнявший также обязанности приходского псаломщика. При виде меня сей юный Актеон{4}, унаследовавший от своего деда неприязнь ко всем находящимся в беде, неизменно спускал со своры своих гончих и загонял меня в чей-нибудь дом, куда я устремлялся в поисках убежища. Таким христианским забавам потворствовал его наставник, несомненно пользовавшийся случаем снискать расположение восходящего светила, ибо видел, что старому джентльмену, согласно законам природы, недолго осталось жить, так как было ему уже под восемьдесят лет. Поведение этого гнусного низкопоклонника привело меня в такое бешенство, что однажды, когда он со своими псами осаждал меня в доме фермера, где я нашел пристанище, я, будучи превосходным стрелком, прицелился в него и большой галькой выбил ему четыре передних зуба, благодаря чему навсегда лишил его возможности исполнять обязанности псаломщика.
Глава III
Приезжает брат моей матери. — Оказывает мне помощь. — Описание его. — Он отправляется вместе со мной в дом моего деда. — Встречен его собаками. — Одолевает их после кровопролитного боя. — Допущен к старому джентльмену. — Разговор между ними
Примерно в это время единственный брат моей матери, лейтенант военного корабля, долго находившийся в плаванье, вернулся на родину, где, узнав о моем положении, навестил меня и из своих скудных средств не только снабдил всем, в чем я в ту пору нуждался, но и решил не покидать страны, пока не заставит моего деда закрепить за мной приличную сумму на будущее. Такаязадача была ему отнюдь не по силам, так как он не имел понятия о нраве судьи, да и вообще был незнаком с общепринятыми обычаями, оставаясь в этом вопросе круглым невеждой благодаря воспитанию, полученному на борту судна.
Дядя был человек крепкого сложения, слегка кривоногий, с бычьей шеей и лицом, сохранившим, как легко могли вы заметить, следы жестоких стычек с непогодой. Носил он солдатский мундир, переделанный для него судовым портным, полосатую фланелевую куртку, просмоленные красные короткие штаны, чистые серые шерстяные носки, большие серебряные пряжки, закрывавшие на три четверти его башмаки, обшитую серебряным галуном шляпу с тульей, дюйма на полтора возвышавшейся над полями, короткий черный парик, с волосами, перехваченными сзади, шелковый платок, у бедра — тесак с медной рукояткой, подвешенный к потускневшему обшитому шнуром поясу, а подмышкой — крепкую дубовую палку. В таком снаряжении он отправился со мной (благодаря его щедрости я обрел вполне приличный вид) к дому моего деда, где нас приветствовали Джаулер и Цезарь, которых при нашем приближении спустил со своры молодой хозяин, мой кузен. Хорошо зная глубоко укоренившиеся привычки этих псов, я собирался пуститься наутек, но дядя удержал меня одной рукой, другою размахнулся своей дубинкой и одним ударом уложил Цезаря на месте; однако, видя себя атакованным с тыла Джаулером и опасаясь, как бы не очухался Цезарь, он выхватил тесак, повернулся и ловко отрубил Джаулеру голову. К тому времени молодой охотник за лисицами и трое слуг, вооруженных вилами и цепами, явились на помощь собакам, уже лежавшим бездыханными на поле битвы; смерть его любимцев привела в такое негодование моего кузена, что он приказал своим слугам перейти в наступление и отомстить палачу, которого осыпал всеми упреками и проклятиями, какие подсказывало ему бешенство.
Мой дядя неустрашимо шагнул вперед, и при виде его окровавленного оружия противники стремительно отступили, после чего он обратился к их хозяину с такими словами:
— Ваши собаки, братец, абордировали меня без всяких к тому оснований. Я должен был защищаться. Стало быть, лучше вам держать себя учтиво и пропустить нас в открытые воды.
То ли мой кузен не понял миролюбивых намерений моего дяди, то ли гнев, вызванный судьбой гончих, одержал верх над отпущенной на его долю рассудительностью, мне неизвестно, но он выхватил у одного из своих приспешников цеп и готов был ринуться на лейтенанта, однако тот, заняв оборонительную позицию, продолжал:
— Эй, вы, неотесанный сын шлюхи! Если врежетесь мне в борт, берегите свою богатую обшивку. Будь я проклят, если не расправлюсь с вашей кормой!
Такая декларация, сопровождаемая взмахом тесака, как будто остудила гнев молодого джентльмена, который, оглянувшись, увидел, что его свита улизнула в дом, закрыла ворота и предоставила ему самому решать исход состязания. Последовали переговоры, начатые моим кузеном:
— Чорт подери, кто вы такой? Что вам нужно? Должно быть, какой-нибудь дрянной моряк, дезертир и вор! Но не думайте, негодяй, что вам удастся удрать! Я добьюсь, чтобы вас повесили, как собаку. Своей кровью заплатите за кровь моих двух гончих, вы, оборванец! Головорез! Я бы не расстался с ними даже для того, чтобы спасти весь ваш род от виселицы!
— Заткните глотку, болван, заткните глотку! — кричал дядя. — А не то я вам обкорнаю вашу куртку с кружевами… Я вас разотру дубовым полотенцем, и как еще разотру!
С этими словами он сунул тесак в ножны и крепко сжал свою дубинку. Тем временем в доме поднялся переполох, и одна из моих кузин, открыв окно, спросила, что случилось.
— Что случилось! — повторил лейтенант. — Ничего особенного не случилось, молодая девица! У меня есть дело к старому джентльмену, а этот щеголь как будто не желает подпускать меня к его борту, вот и все.
Спустя несколько минут нас впустили и сквозь строй моих родственников, которые удостоили меня, когда я проходил мимо, весьма многозначительных взглядов, проводили в спальню моего деда. Когда мы очутились в присутствии судьи, дядя, отвесив два-три морских поклона, повел такую речь:
— Ваш слуга… ваш слуга. Как поживаете, папаша, как поживаете? Полагаю, вы меня не знаете… должно быть, не знаете. Зовут меня Том Баулинг, а этот вот мальчонка… Вы смотрите на него так, будто тоже его не знаете… Вероятно, и в самом деле не узнаете! Правда, он заново оснащен. Теперь его оснастка не треплется на ветру, как бывало раньше. Видите ли, старый джентльмен, это мой племянник, Родрик Рэндом, — ваша плоть и кровь. Не болтайся за кормой, щенок!
Он вытащил меня вперед. Мой дед, прикованный к постели подагрой, принял этого родственника после долгого его отсутствия с присущей ему холодной учтивостью, сказал, что рад его видеть, и предложил ему сесть.
— Благодарю, благодарю вас, я непрочь и постоять, — ответил дядя. — Что касается до меня, то мне от вас ничего не нужно, но если есть у вас хоть какая-то совесть, сделайте что-нибудь для этого бедного мальчонки, с которым обращались совсем не по-христиански. Да что там — не по-христиански! Уверен, что мавры в своей Берберии более человеколюбивы и не обрекают своих малышей на нищету. Хотел бы я знать, почему сын моей сестры заслуживает большего пренебрежения, чем этот вот никудышный парень. — Он указал на молодого сквайра, который вместе с моими кузинами вошел вслед за нами в комнату. — Разве он не так же вам сродни, как и тот? Разве вы не видите, что он куда красивей и крепче сбит, чем этот рослый болван? Ну-ну, поразмыслите, старый джентльмен! Скоро предстоит вам дать ответ за злые свои дела. Припомните вашу вину перед его отцом и постарайтесь ее загладить по мере сил, пока еще не поздно. Самое меньшее, что вы можете сделать, это закрепить за ним часть наследства его отца.
Молодые леди, которые считали себя слишком причастными к делу, чтобы долее сдерживаться, дружно напали на моего покровителя:
— Наглец! Дерзкий моряк! Нахальный грубиян! Как он смеет предписывать что-нибудь дедушке… О пащенке его сестры чересчур много заботились! Но дедушка справедлив!.. Он не мог равнять непокорного сына с почтительными, любящими детьми, которые всегда следовали его советам…
В таких выражениях они изливали свою ярость, пока судья, наконец, не призвал их к молчанию. Он спокойно попрекнул моего дядю за непристойное поведение, которое он, по его словам, может извинить только полученным им воспитанием. Он сказал, что был очень добр к мальчику и семь-восемь лет содержал его в школе, хотя его и уведомляли, что тот не делает никаких успехов в науках, но предается всевозможным порокам, чему он склонен верить, ибо сам был свидетелем злой выходки, в результате которой пострадали челюсти его капеллана. Однако он подумает, к какому делу можно пристроить мальчика, и отдаст его в ученики какому-нибудь честному ремесленнику при условии, если он исправится и будет вести себя примерно.
Честный моряк, обуреваемый гордыней и негодованием, ответил деду, что тот действительно послал меня в школу, но это ничего ему не стоило, так как он не истратил ни единого шиллинга, чтобы снабдить мальчика пищей, одеждой, книгами и прочими необходимыми вещами, а стало быть, не приходится удивляться, если мальчик не преуспевает в ученье… Впрочем, тот, кто ему это сказал, — лживый, тупой негодяй, и следовало бы протащить его под килем. Хотя он, лейтенант, ничего не смыслит в таких вещах, однако он осведомлен о том, что Рори считается лучшим из школяров его возраста во всей округе. Истину этих слов он готов защищать, побившись об заклад на свое полугодовое жалованье. (Тут он вытащил свой кошелек и бросил вызов присутствующим.)
— И он не повинен в пороках, как вы это утверждаете, старый джентльмен, но благодаря вашему пренебрежению предоставлен, как потерпевшее крушение судно, на милость ветров и непогоды. А что касается до происшествия с вашим капелланом, то я жалею лишь о том, что он выбил негодяю зубы, а не мозги. Клянусь богом, лучше ему очутиться в Гренландии, чем повстречаться со мной, вот и все! Благодарю вас за ваше любезное предложение отдать мальчика в ученье ремесленнику! Вероятно, вы хотели бы сделать его портным, не так ли? А я, знаете ли, предпочел бы увидеть его на виселице. Идем, Рори! Я вижу, на что курс держать, повернем на другой галс. Ей-богу, пока есть у меня шиллинг в кармане, ты не будешь нуждаться в шестипенсовике. Между прочим, старый джентльмен, вам предстоит отплыть в иной мир, но, мне кажется, вы чертовски скверно снаряжены для этого путешествия.
Так закончился наш визит, а когда мы возвращались в деревню, дядя всю дорогу бормотал себе что-то под нос, осыпая проклятьями старую акулу и мелкую рыбешку, окружавшую ее.
Произведения
Критика
- Жанрова своєрідність ранніх романів Т.Дж. Смоллетта
- Рокайльные акценты в поэтике романа Т. Смоллетта «Приключения Родрика Рэндома»
- Урбанизация как социально-нравственная проблема эпохи Просвещения (по материалам романа Т. Смоллетта «Путешествие Хамфри Клинкера»)













Поділитися