Поэма Шелли «Восстание Ислама» (К вопросу о специфике романтического историзма)
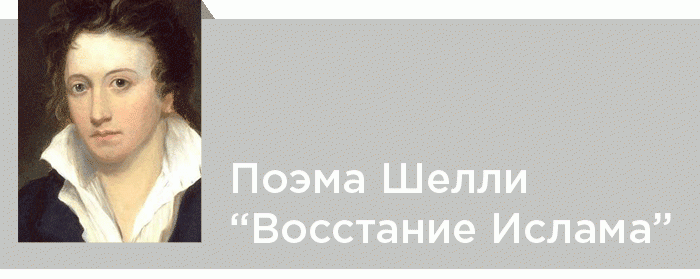
И.Г. Гусманов
Вопрос о значении романтиков в развитии историзма обычно связывается в нашем сознании с романами Вальтера Скотта. И это в общем правильно, ибо именно эпическая, романная форма историзма, открытая Вальтером Скоттом, оказалась наиболее близкой социальному реалистическому роману XIX в. Однако при этом мы не всегда учитываем значение других форм романтического творчества, в частности, форм условно-фантастического повествования. Имея в виду, что эти формы могут служить средством выражения нового по сравнению с Просвещением, исторического подхода к изображению человека и общества, можно говорить, на наш взгляд, не только о реалистическом, но и о романтическом историзме. Отказываясь от изображения конкретных исторических лиц и событий, конкретной среды и эпохи, оперируя условным вымышленным материалом, представляющим собой поэтическое обобщение исторических и человеческих сил, романтики подчас, подобно математикам, рассматривали не сами эти силы, а их отношения, исследуя таким образом наиболее общие закономерности исторического развития. Недостаток конкретности в поэтических построениях романтиков часто искупался глубиной проникновения в сущность социально-исторических тенденций. Творчество многих романтиков пронизано ощущением диалектики исторического процесса, идеей поступательного развития человеческого общества, развития через борьбу. Ярче всего эти особенности проявились, пожалуй, в творчестве Шелли.
Романтический историзм Шелли полностью складывается к
Содержание юношеской поэмы Шелли «Королева Маб» рационализмом общего взгляда на мир и развитие человеческого общества может быть сближено с социальной концепцией Роберта Оуэна. Как известно, Оуэн в общественной теории до конца своих дней оставался рационалистом, верным учеником просветителей XVIII века. Как и молодой Шелли, Оуэн считал, что все общественные несправедливости, страдание и горе обусловлены «заблуждениями наших предков», несовершенством не только правителей, но и подданных. Первый источник всех заблуждений Оуэн, как и Шелли, видел в религии, в суевериях. Многие выступления Оуэна против религии и религиозных предрассудков и по содержанию, и по духу очень близки страстным строкам «Королевы Маб». Вот как писал он в «Книге о новом нравственном мире» (1836): «Мир даже теперь наводнен суевериями, страхом сверхъестественного и страхом смерти. Семена этих страхов, тщательно засеваемые в детстве, постепенно дают золотую жатву в виду богатства и власти духовенства... О, люди, слепцы, не видящие ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Скоро ли наступит тот день, когда вы остановитесь в своем безумном беге и спросите самих себя, какую выгоду может извлечь бог или силы природы из религиозных войн, убийств и избиений, исходивших в прошлые времена и в современную эпоху?».
Рационалистической остается в «Королеве Маб» и критика современной поэту буржуазной действительности, которая предстает здесь как противное человеческому рассудку царство беззакония, анархии и произвола. Шелли показывает, что оно губит не только угнетенных, но и угнетателей, превращая все человечество в два враждебных лагеря — тиранов и рабов. Основу политической тирании Шелли видит в экономическом господстве. Богатство, торговля, всеобщая продажность и «железный прут нищеты» — вот что позволяет царить беззаконию. Осуждая богатство как следствие насильственного захвата продукта чужого труда, Шелли по существу выступает против буржуазной частной собственности, которую Оуэн считал одним из главных источников вражды, обмана, мошенничества, преступлений и горя. «Нет истинного богатства, кроме человеческого труда», — заявляет Шелли. «Никто не должен захватывать больше, чем он может употребить».
«Королева Маб» — одно из самых обличительных произведений Шелли. Содержащаяся здесь страстная критика язв буржуазного общества больше всего сближает эту поэму с учениями утопического социализма. Конечно, критика эта во многом еще незрелая, иногда она декларативна и «дидактична», как сказал бы Шелли. Деспотизм и насилие над человеком выступают здесь часто в слишком абстрактной форме. Но, во-первых, за этими абстракциями Шелли всегда видел реальное положение народа, видел экономическую основу всякого гнета: «каждое слово, написанное им против религиозных предрассудков и деспотизма отдельных правителей, — писали Эвелинги, — всегда может быть отнесено к экономическим предрассудкам и деспотизму класса». Во-вторых, говоря опять же словами Эвелингов, «Шелли ненавидел предрассудки и деспотизм во всех их формах и потому снова и снова обращался к ним как к абстрактному содержанию этих форм».
Шелли обнаруживает близость к Оуэну и в суждениях о свободе воли. Оуэн считал одним из самых вредных заблуждений мысль о том, что человек сам образует свой характер и потому должен нести ответственность за свои мысли, желания и привычки, что за одни из них он заслуживает награды, за другие — наказания, что хорошим или плохим человек может быть в зависимости от своей свободной воли. В действительности, говорит Оуэн, характер образуется средой, обстоятельствами. Шелли также, признав верховной руководящей силой в природе и обществе закон Необходимости, вынужден был отказать человеку в свободе воли. «Представление о свободе, — пишет он, — будучи в переносном смысле применено к воле, создалось благодаря ложному пониманию слова «сила»... Учение о Необходимости стремится внести великую перемену в установившиеся нравственные понятия... В награде и наказании сторонник учения о Необходимости должен видеть лишь средства, которыми он стал бы пользоваться для того, чтобы обеспечить факт известного образа действия или достичь его уничтожения. Заслуга в современном смысле этого слова должна была бы утратить всякое значение». Из этой посылки вытекал в «Королеве Маб» вывод о ненужности какой-либо активности человека, хотя этому выводу сопротивлялась вся логика поэтического чувства. В творчестве Шелли, таким образом, как и в учении Оуэна, возникло противоречие, свойственное общественным теориям просветителей. Невежество и заблуждения они объявляли источником общественных зол, но, с другой стороны, считали, что сами заблуждения, как и человеческий характер, создаются условиями жизни и действующей через них объективной необходимостью. Чтобы изменить общественный строй, надо освободить разум человека от заблуждений, но для этого в свою очередь надо изменить общественный строй. Роберт Оуэн не мог найти, да и не искал, выхода из этого противоречия. Для Шелли же поиски такого выхода были характерны на всем протяжении его творчества. Они приводят впоследствии к тому, что в ряде моментов Шелли перерастает учение Оуэна. Важной вехой на этом пути стала поэма «Восстание Ислама».
В «Восстании Ислама» Шелли исходит из того, что было им достигнуто в «Королеве Маб». Переустройство общества, обновление мира необходимы — это положение берется поэтом как исходная предпосылка. Шелли отводит на задний план задачу обличительную и целиком посвящает себя здесь разработке положительной программы. Как свергнуть деспотизм, как построить новую жизнь, где взять необходимую силу — вот центральные вопросы этой поэмы. Из трех эпиграфов «Королевы Маб» Шелли оставляет один, последний: «Дайте мне точку опоры, и я переверну вселенную» (Архимед)». Постановка этих вопросов уже значительно конкретнее, чем в «Королеве Маб». Шелли развивает ту точку зрения, которая противоречила в «Королеве Маб» идее Необходимости и вела к пониманию важной роли простого труженика в историческом процессе. Проблемы революционного преобразования мира разрешаются им здесь не путем абстрактных умозрительных рассуждений, но на материале конкретных событий всемирно-исторического значения, на оценке опыта Великой французской буржуазной революции. Всей системой образов Шелли создает как бы собственную модель этой революции, по-своему видоизменяя ее, дополняя и развивая некоторые ее стороны. Это одновременно и оценка исторического опыта, и поэтическая картина идеальной революции. Поэтическое восприятие прошлого и образ желаемого, предчувствуемого будущего сплавляются здесь воедино.
В предисловии к поэме Шелли дает глубокую характеристику послереволюционной эпохи в Европе. Он говорит о панике, отчаянии и унынии, которые овладели человечеством после поражения французской революции. Причину этого Шелли находит в ошибочном преувеличении той исторической ограниченности и противоречивости революции, которые были порождены конкретными условиями страны и времени, в придании им абсолютного значения. «Многие из наиболее пылких и чувствительных ревнителей общественного блага, — пишет Шелли, — потерпели моральный крах, потому что в их одностороннем восприятии прискорбный ход событий, казалось, возвещал плачевную гибель всех их заветных надежд. Вот почему уныние и мизантропия стали знамением нашего времени, прибежищем разочарованных, бессознательно находящих облегчение в своенравном преувеличении собственного отчаяния. Наши романы и стихи омрачены тем же заразительным унынием».
Всегда будучи противником этого отчаяния и уныния, Шелли даже в самые тяжелые для него годы боролся с этими настроениями. Теперь же он чувствует, что эпохе отчаяния приходит конец, что опыт французской революции не столь печален, сколь поучителен. Шелли видит, что мир пробуждается, что в этом — залог грядущего выхода из сегодняшнего оцепенелого состояния. Шелли уловил, очевидно, тот подспудный процесс собирания революционных сил, который уже в
Следует отметить, что одновременно с Шелли сходные мысли выражал и Р. Оуэн. В речах
В суждениях Шелли о французской революции мы видим стремление разобраться в реальной сложности событий, объяснить не только заслуги; но и неизбежные ошибки их участников. Главный вопрос, который занимает Шелли, это правомерность якобинского революционного террора. Несмотря на некоторые колебания, Шелли в целом приходит к его оправданию, к признанию его объективной неизбежности.
Как верно отметили Эвелинги, «Шелли видел во французской революции пример продвижения общества к переустройству». «Восстание Ислама» свидетельствует о том, что Шелли рассматривал ее как важнейший, но отнюдь не завершенный этап в истории борьбы человечества за свободу. С присущим ему историческим оптимизмом «Шелли утверждает, что «в потоке человеческих судеб есть некое течение, которое относит потерпевшие крушение людские надежды в верную гавань после того, как бури отшумели». Отмечаемая поэтом медленная перемена была, очевидно, пробуждением тех самых надежд, которые прежде связывались с французской революцией. Исследованию этого возрождающегося духа преобразований и посвящает свою поэму Шелли: «Это попытка проверить состояние умов и узнать, что уцелело после бурь, потрясших нашу эпоху, и живет ли еще среди просвещенных людей жажда более совершенного нравственного и политического устройства общества». Другими словами, Шелли берется за исследование и выражение революционного духа своей эпохи.
По сравнению с «Королевой Маб» Шелли, кажется, сужает здесь угол зрения: от рассмотрения и воспевания всеобщего Духа Природы он переходит к «общественному духу». В действительности же Шелли лишь уточняет свое прежнее представление об общих закономерностях мира, перенося центр тяжести с космических проблем на конкретные общественные вопросы.
В общей структуре «Восстания Ислама» немало сходного с «Королевой Маб». Как и там, все содержание поэмы представляет собой поэтическое видение. Только рассказ о фантастическом полете двух духов поэт вел от своего имени, а повесть о двух влюбленных, вызвавших и возглавивших революцию, вложена в уста одного из них, Лаона. Фантастичность же ситуации, в которой поэт узнает о судьбе Лаона и Цитны, нисколько не меньше, чем в «Королеве Маб». А в ходе рассказа Лаона, в ходе действия поэмы элемент фантастики и романтической символики даже значительно сильнее. Чем можно это объяснить? Как совместить это с тем приближением Шелли к конкретным проблемам общественной жизни, к реально-исторической оценке опыта французской революции, о котором говорилось выше?
Касаясь фантастического элемента в двух названных поэмах Шелли, следует учитывать различный характер его в каждом отдельном случае. В «Королеве Маб» фантастика, в сущности, лишь соединяла в одну систему вполне реальные наблюдения, она была вполне рационалистической, не смешиваясь с присутствовавшим здесь миром реальности. И вся поэма несла на себе черты четкого рационалистического отношения автора к миру, хотя и выраженного в пламенных экспрессивных стихах.
Фантастический элемент в «Восстании Ислама» пронизывает самую жизнь и сознание героев, он постоянно перемешивается с реальностью, окрашивая ее в зыбкие романтические топа. В некоторых местах трудно отделить явь от игры воображения героев, иногда неясна последовательность событий. Авторское неприятие мира, враждебность к нему остались прежними, но характер отношения поэта к миру изменился.
В предисловии к поэме Шелли впервые говорит о человеческих чувствах, страстях как решающих силах, толкающих к действию. Результатом соответствующего «общего состояния чувств» была французская революция. Одним из основных источников поэмы Шелли называет человеческие страсти, которые «вспыхивают и разгораются среди людских масс, угасают и сменяются другими». «Я видел наиболее явные примеры разрушений, приносимых войною и тиранией, — пишет Шелли: — города и селения, обращенные в почернелые развалины, и неимущих, голодных жителей, сидевших подле своих разоренных гнезд». Истинную задачу и заслугу поэта Шелли видит в том, чтобы «уметь сообщить другим радость и восторг», «пробуждать в других чувства», которые волнуют его собственное сердце. Целью своей поэмы Шелли считает желание «зажечь в сердцах читателей то благородное восхищение принципами свободы и справедливости, ту веру и надежду на лучшее, которых ни гонения, ни клевета, ни предрассудки никогда не смогут всецело истребить в людях... Для этой цели я избрал повесть о человеческих страстях в их наиболее общем виде...».
Если в период «Королевы Маб» Шелли возлагал надежды на разум людей, то теперь он переносит основное внимание на страсти. Убедить людей в необходимости общественных перемен мало, надо возбудить в них непосредственную жажду нового, чтобы поднять на борьбу. Шелли все ближе подходит к практическому вопросу о борьбе. Если Ианте говорила, что из ошибок прошлого человечество должно извлечь урок на будущее, то Лаон и Цитна, уже постигшие эти ошибки, поэтическим словом зажигают сердца людей, чтобы повести их на борьбу за это будущее.
Шелли достаточно точно определил характер своей поэмы как «повести о человеческих страстях». Прихотливые пути развития чувства, действительно, лежат в основе ее действия. Для чего, например, потребовались автору картины сумасшествия Лаона, а затем Цитны? Какую роль здесь выполняют полусны, полугаллюцинации героев, как бы смыкающиеся между собой в какой-то иной сфере, в то время как сами герои разлучены?
Почему автор не рассказывает о судьбе Лаона и Цитны последовательно, но дважды возвращается после III песни к прошлому — в воспоминаниях каждого из них о себе? Все это, очевидно, следствие вполне сознательного отталкивания автора от обычной для XVIII в. рационалистической стройности сюжета, действия, характера во имя высшей, по его мнению, логики — логики развития страсти.
В процессе пробуждения страстей Шелли главную роль отводит отдельным личностям, поэтам, особо одаренным и получившим соответствующее воспитание. С такими личностями и связаны основные надежды автора «Восстания Ислама». Это поэма о великом революционном подвиге двух центральных героев, сумевших личным подвигом, поэтическим словом поднять на борьбу многомиллионные массы народа. В первом названии поэмы суть ее содержания была выражена более точно, чем во втором: «Лаон и Цитна, или Революция в Золотом городе. Видение XIX века».
Пробудившись от «видений отчаяния», охвативших Европу после французской революции, поэт предстает перед другим зрелищем, «видением надежды», более соответствующим новому, XIX столетию с его нарастающим революционным духом. Суть этого видения — в новом взгляде на французскую революцию и на пути преобразования общества. В центре сюжетного развития поэмы стоит взаимодействие субъективного и объективного фактора в революции: с одной стороны, это жизнь и борьба Лаона и Цитны, с другой — революция в Золотом городе с ее объективными закономерностями. Образ Золотого города — это условное поэтическое обозначение всеобщности описываемых событий, символ, восходящий к «Пути паломника» Бэньяна. Изображаемая поэтом революция не отнесена им к определенному месту, она может произойти везде.
Первая редакция поэмы, как известно, почти не увидела света. Несколько экземпляров ее, вышедшие в сентябре-ноябре 1817 года, были тут же изъяты издателями, публикация приостановилась. Под давлением издателей, а частью по совету друзей Шелли внес в поэму ряд изменений, и в январе
Создавая собственную картину революции, Шелли вносит в нее субъективный элемент. Он выражает здесь не только свой взгляд на историческое значение французской революции, но и предлагает иные, более верные, по его мнению, пути. «Провозглашая необходимость великих перемен во всех общественных установлениях, — пишет Шелли в предисловии, — я избегал взывать к неистовым и злым страстям, всегда готовым омрачить самые благодетельные перемены. Я беспощадно изгоняю месть, зависть и предрассудки. Я прославляю любовь как единственный закон, которому надлежит управлять нравственным миром».
Учитывая исторически обусловленные заблуждения и ошибки, сопровождавшие французскую революцию, Шелли противопоставляет ей картину другой, более «правильно» проведенной революции. Лаон и Цитна остаются до конца верны идее всеобщего братства и любви. Переворот они совершают мирными средствами. Тиран отпущен на свободу, мести и ненависти нет в сердцах восставших. Однако такая картина идеальной революции отнюдь не становится конечным выводом Шелли. В поэме 12 песен, революция описана уже в пятой. Вторая половина поэмы — это проверка и критика первой. Результаты «идеального» переворота в поэме совпадают с действительными итогами французской революции. Всем ходом развития поэмы Шелли утверждает, что не заблуждения, не месть или террор послужили причиной незавершенности французской революции. Проверке жизненным материалом подвергается здесь и доктрина любви как единого закона развития. Не отрицая любви как положительного содержания будущего свободного мира, Шелли вместе с тем убеждается, что сама любовь без революционного насилия не может осуществить великой задачи освобождения человечества. В пользу этого предположения говорит и заключительный абзац предисловия к поэме в первом варианте, где Шелли специально оговаривает личные отношения своих героев.
Поэма явилась не только оправданием прошлого, но и прощанием с ним. Поэт утверждает, что нужны новые пути, столь же благородные, но более плодотворные. Если для Годвина, да и для Оуэна боязнь революционного насилия была связана с отрицанием плебейских методов революции, которые, по их мнению, могли бы привести страну к «анархии», то для Шелли поэтическое оправдание этих методов было условием утверждения подлинно революционных взглядов да пути преобразования общества, получивших наиболее яркое выражение в лирической драме «Раскованный Прометей».
Идея закономерности, которую прежде Шелли связывал с абстрактным понятием Духа Природы, впервые в «Восстании Ислама» вносится им в картину конкретной гражданской истории. Он впервые рассматривает общество в связи с конкретным этапом развития: современность как естественное продолжение событий французской революции, а революция — как следствие соответствующих исторических обстоятельств и прообраз грядущего переворота. Зарождающийся историзм Шелли с самого с начала отличался от историзма буржуазного.
Говоря в предисловии к «Восстанию Ислама» о писателях и их отношении к эпохе, Шелли обнаруживает диалектическое понимание взаимодействия человека и окружающих его обстоятельств. Писатели, указывает Шелли, «не могут избежать общего влияния, слагающегося из бесчисленных элементов, характерных для их времени, хотя каждый из них сам в какой-то мере создает это влияние, которое испытывает всем своим существом». «По-видимому, тем, что они есть, людей делают обстоятельства, и мы все храним в себе зародыш в известной степени унижения и величия, связь которых с нашим характером определяется событиями», — скажет Шелли через четыре года к примечаниях к «Элладе».
Историзм Шелли не выходил еще за рамки общего идеалистического взгляда на общественную жизнь. Говоря словами Г.В. Плеханова, характеризовавшего воззрения утопических социалистов, Шелли была свойственна непоследовательность и «неустойчивость» — этот постоянный, заметный для современного читателя, но незаметный для автора переход от материализма к идеализму». Следы такой неустойчивости остаются в творчестве Шелли до конца его жизни (примером может служить трактат «Защита поэзии»). Отказавшись от рационализма, Шелли не мог еще найти подлинно научной основы для своих взглядов. Романтизм как общее мировоззрение и как художественный метод явился для него переходным этапом к тому «историческому реализму», к которому объективно приближались и взгляды утопических социалистов. «Для социальных систем XVII и XVIII веков, — отмечает академик В.П. Волгин, — рационализм составляет как бы основной фон всех построений. Чем ближе к середине XIX века, тем явственнее звучат в социалистических теориях ноты исторического реализма, тем больше находим мы в них зачатков материалистического понимания общественных отношений». Все больший разрыв с утопизмом и настойчивые поиски исторического реализма составляют основную тенденцию творчества Шелли. Особенность этого процесса состояла в том, что он протекал одновременно с развитием тех символико-романтических сторон творчества Шелли, которые более всего выражали как раз утопические черты его взглядов. Уже в «Восстании Ислама» мы видим достаточные предпосылки для перехода Шелли к произведениям реально-исторического плана. Но еще не были использованы в полной мере возможности символико-романтического осмысления жизни — и прежде чем написать «Ченчи», Шелли должен был создать своего «Раскованного Прометея». И прежде чем вплотную приступить к «Карлу Первому», Шелли должен был написать «Элладу».
Л-ра: Проблема метода и жанра в зарубежной литературе. – Москва, 1979. – Вып. 3. – С.56-69.
Произведения
Критика
- Италия в лирике Шелли
- Метафорическая образность в лирике Шелли и ренессансных поэтов
- Поэма Шелли «Восстание Ислама» (К вопросу о специфике романтического историзма)













Поділитися