Поиски идеала (Об эстетических взглядах О. Уайльда)
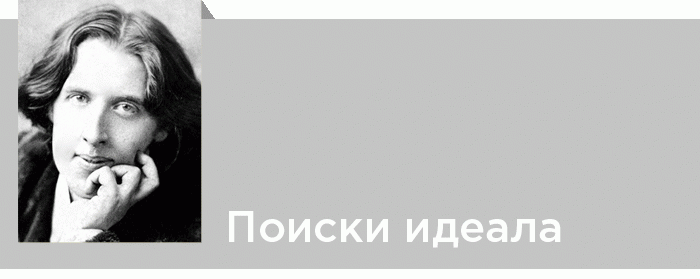
С.А. Колесник
Наряду с общим для многих писателей последних лет XIX века отрицанием буржуазного прогресса, викторианского самодовольства и лицемерной английской морали у них преобладало мучительное ощущение утраты красоты, духовности, человеческой индивидуальности в обществе, где единственным мерилом стала мещанская утилитарность.
Еще в 30-е годы XIX века так называемое «оксфордское направление» (центром был Оксфордский университет) предприняло попытку духовного возрождения общества, но, будучи по своей сущности реакционным течением, оно понимало его как Возрождение религиозное. Тем не менее это движение породило обширную литературу и оказало некоторое влияние даже на писателей более позднего времени (его ощутит на себе в 90-е годы и Уайльд, перед смертью принявший католичество).
Этим влиянием отмечено и творчество раннего Раскина. Искусство, напишет он в «Современных художниках», обязано раскрыть божественный смысл прекрасного. Проповедь «трактарианства» (серии брошюр, написанных Ньюманом) вызвала интерес к эпохе расцвета католицизма, вообще к средним векам. В литературе заговорили о средневековой Италии, о неисследованных до того областях ранней итальянской живописи. Медиевизм, противопоставление средневековья современности, сделались основной нотой художественного творчества.
К проявлениям этого общего настроения принадлежат и первые ростки прерафаэлитства, стремившегося воскресить давно забытые наивные формы искусства. Для их эстетической позиции характерно подчеркнутое безразличие ко всему, что выходит за рамки «прекрасного». В этом смысле Уайльд-теоретик теснее связан с прерафаэлитским братством, чем с Раскиным (чьи лекции об искусстве он слушал в Оксфорде), для которого сама красота всегда оставалась нравственной в своей основе.
Однако наиболее непосредственное влияние на Уайльда, по его собственному признанию, оказали эстетические оценки, художественная практика В. Патера, отменившего моральный принцип в подходе к искусству. В. Патер видел спасение от буржуазного прозаизма в личности, но, под каким знакам она выступит, для него существенного значения не имело.
Прерафаэлиты и В. Патер были духовными отцами английских декадентов оконца века. Из «Ростка» прерафаэлитов выросли эстетские журналы «Желтая книга» (1804-1897) и «Савой».
Самое подробное изложение позиция писателей и художников, группировавшихся вокруг этих журналов (поэт и теоретик А. Саймонс, поэты Э. Доусон и Дж. Дейвидсон — критик и писатель-пародист, художник Бердели и др.), получила в теоретических статьях О. Уайльда, который к моменту выхода журналов был уже признанным главой эстетского движения в Англии. Но как это не покажется странным, в списке авторов этих периодических изданий его имени не было. До процесса, осудившего самого верного поклонника красоты на два года тюрьмы, оставалось недолго и, может быть, ученики не рискнули связать издания с именем учителя.
Но для Уайльда вообще была характерна одна интересная закономерность. Он был дружен со многими литераторами как французскими, так и английскими; современники причислили его то к одному, то к другому литературному кружку, но сам Уайльд предпочитал не связывать себя официальным членством. Он посещал собрания ирландского «клуба рифмачей», был хорошо знаком с одним из ярких его представителей, поэтом и драматургом Йетсом, но в кружке не состоял. Так же обстояло дело с группой эстетов из «Желтой книги» и «Савоя».
Что же представлял собой этот оригинальнейший поэт, прозаик и драматург, единственный среди английских декадентов, получивший мировое признание, человек, носивший несколько личин? Какая из них была его истинным лицом? Когда знакомишься с его творчеством, то создается впечатление, что имеешь дело с разными людьми. Один, из них Уайльд-теоретик. Чему же хотел научить он в этой роли?
Уже в тюрьме Уайльд записал: «Бывают худшие места (чем тюрьма С. К.), куда приводит жизнь людей-автоматов, понимающих бытие, как заботливый расчет и старательный выбор пути. Эти люди всегда знают, куда идут и приходят к своей цели! Каждый из них видит свой конечный идеал в том, чтобы стать церковным старостой, владельцем большой лавки, адвокатом с большой практикой, судьей или чем-нибудь в этом роде».
Но люди не предназначены быть автоматами. Для Уайльда они творцы. И если человек может создавать прекрасные вещи, — а писатель готов был воздвигнуть храм человеческой руке-художнице, — то сколь же совершенен сам человек! Равно прекрасной должна быть и жизнь его. Если нищий одет в лохмотья, то пусть даже они будут яркими. «Поднять жизнь до искусства или, вернее, заставить искусство войти в жизнь, стать самой жизнью», — так определяет кредо Уайльда М. Жирмунский в своей тонкой и проницательной статье о тюремном периоде жизни писателя.
Уайльд знает, что в жизни есть нищета, несправедливость, горе, но он по натуре не борец. В. Моррис и Б. Шоу ему чужды, хотя он и зовет фабианцев своими друзьями. Лучше не соприкасаться с бедностью. Здесь ведь не встретишь «ни изысканности привычек, ни прелести разговора, ни образования, ни культуры, ни удовольствий, ни радости жизни». Чтобы спастись от уродливого зрелища жизни, надо создать свой мир, где можно жить, потворствуя своим эстетическим инстинктам. Умение жить он считал более редким дарованием, а единственным художеством для него было художество жизни.
Свой эстетский опыт Уайльд был готов предложить всем. Красота жизни принадлежит тому, кто к ней стремится. Так казалось Уайльду в то время, и только много позднее жизнь укажет ему на его ошибку.
С целью распространения своего эстетического учения Уайльд в 1881 году едет в Америку. Здесь он будет, выступая то в строгом фраке, то в одежде английского эстета — коротких бархатных штанах, цветком подсолнечника в руке, — забрасывать американских буржуа именами Шекспира, Китса, Гете, Руссо, Данте, Эдгара По и звать их заменить служение доллару поклонением красоте.
По возвращении из Америки, он становится рецензентом и театральным обозревателем: нуждаясь в деньгах, принимает обязанности редактора журнала «Дамский мир». В газетах появляются его статьи о постановках Пьес Шекспира, новых и старых книгах, сборниках стихов и т. д. В это же время одна за другой выходят и его основные статьи по эстетике («Упадок лжи», «Перо карандаш и отрава» —
От имени всех сторонников «нового английского Возрождения» (так называет Уайльд эстетское движение в Англии) он провозглашает свой художественный символ веры: «Мы порождение тревожного, бесноватого века, — и куда нам бежать в такие минуты отчаяния и надрыва, куда нам укрыться, как не в ту верную обитель красоты, где всегда много радости и немного забвения, в тот божественный град.., где хотя бы на краткий миг можно позабыть все распри и ужасы мира, а также и печальный удел, выпавший в мире для нас».
Родной напев услыхал бы здесь Верлен вместе с остальными «проклятыми поэтами» Франции. Беспредельный пессимизм, прозвучавший в этих словах Уайльда, и проповедь ухода от реального мира ставят его в один ряд с декадентами «конца века». Естественно, что результатом позиций, занятой писателем, явился отказ от реализма по всей линии. Возвышенный мир искусства выше прозаической действительности, добавляет в своем трактате «Упадок лжи» Уайльд: «Для художника существует одна страна — страна красоты, отдаленная от реального мира». Сама действительность, по его мнению, подражает искусству, так же как природа — пейзажисту. Искусство создает прообразы, копии с которых воспроизводит жизнь, словно повинуясь таинственному приказу. Даже само человеческое тело, по Уайльду, принимает новые формы, подражая подсказанным искусством образцам. «Шопенгауэр анализировал пессимизм, характеризующий современность, — пишет в той же статье Уайльд. — Но выдумал его Гамлет». Разумеется, он знает, что сам Шекспир подсмотрел его в мире, который оборачивался к нему своей трагической стороной, и наделил им принца датского, но для доказательства своего исходного тезиса использует парадокс в смело пытается доказать недоказуемое.
Искусство безусловно влияет на действительность, и в этом его великая сила. Но что же, как не сама жизнь, и породило его? И не противоречит ли себе здесь Уайльд? Запертый в тюремной камере, о чем мечтал он? «О качаемых ветром золотых венчиках ракитника и бледно-пурпуровых перьях сирени». Творчество для жизни, помощь людям — были одной из заветнейших тем писателя. Только Уайльду-теоретику не нужно жизни — лишь одно — искусство.
Но если действительность не выдерживает критики, то, следовательно, и реализм как метод, полагал Уайльд, несостоятелен и «осужден на полный провал». Основное положение эстетики Уайльда было взято у идеалистической философии. И все же по своему общему миросозерцанию Уайльд был ближе к материалистическому миропониманию, чем может показаться. Он призывал исповедывать евангелие видимого. Истинная тайна мира заключалась для него не в загадочном и неведомом, а в прекрасной конкретности.
Критически относясь к буржуазной действительности, Уайльд распространял свое отрицание и на всю сферу «материального». Именно материальность (а он понимал ее прежде всего как житейский расчет и отсутствие идеальных побуждений в человеческой душе) губит личность, мешает ее индивидуальности (процесс обесцвечивания личности в капиталистическом обществе беспокоил не одного Уайльда). Что представляет собой природа, как не громадную фабрику, где всё воспроизводится во множестве? Индивидуум должен быть индивидуальностью, но только в искусстве мы обретаем себя, полагает Уайльд.
Но дальше происходила подмена понятий. Требование наиболее полного раскрытия индивидуальности, совершенно правильное и законное, приводило к защите индивидуализма. И здесь писатель смыкается с Ницше, с его миром замкнутого в себя индивидуализма, с его проповедью сильной личности. Мы не найдем ни в одном из произведений Уайльда упоминания имени Ницше, но писатель, несомненно, знал хотя бы некоторые его сочинения. Ведь он был в какой-то степени вдохновителем и «Желтой Книги» и «Савоя», где печатались статьи о немецком философе. Ницше считал, что человечеству пора отбросить, как ветхие одежды, понятия добра и зла, преступления и наказания; «Любовь к ближнему» и «Милосердие» должны быть отвергнуты. «Милосердие, — читаем мы у Уайльда – порождает много зла... Самое существование совести... есть признак нашего несовершенного развития».
Проповедь аморализма естественна вытекает из этих ницшеанских положений. «Можно представить себе могучую фигуру, построенную на греховности», — говорит он и приводит опять вместе с немецким философом в подтверждение своей мысли людей Возрождения, как их изображали А. Саймонс и В. Патер. Оттого так и заинтересовала Уайльда личность английского писателя начала XIX века Т. Р. Уэнрайта («Перо, карандаш и отрава»), который был не только поэтом и художником, но и убийцей по призванию. Эта личность была полна для Уайльда своеобразного обаяния.
В Англии конца XIX века царило мещанство, поразившее Герцена еще в 1847 году своим бездушием и лицемерием, мелочностью своих интересов, мыслей и чувств. С деляческой предприимчивостью и корыстью, возведенной мещанским обществом в догмат, отлично уживалась и выработанная им мораль. Уайльд презирал эту мораль «лавочников». Этим объясняется и цинизм Уайльда, который отмечают многие английские исследователи его творчества. Уайльд отрицал, что он циник, у него просто есть опыт, а это далеко не одно и то же.
Но попытка отнять у общепринятых воззрений их условную рыночную ценность порождала у Уайльда мысль о неприменимости моральных критериев вообще в искусстве. В своей вступительной статье к сборнику стихов Реннеля Родда «Цвет розы и яблони», озаглавленной многозначительно «эстетический манифест», Уайльд, признавая огромное влияние на него Раскина, указываем и на ту грань, которая разделила их. «В критике искусства мы не являемся больше его сторонниками, ибо основной стержень его эстетики — этика». И дальше: «в наших же глазах масштаб искусства не совпадает с масштабом морали».
Теперь понятно, почему заговорив о «Жерминале» Золя («Упадок лжи»), Уайльд отказывается воспринимать его эстетически. Он не спорит с автором, все им изображаемое верно. Он разделяет и его понимание событий и их оценку. «Но с точки зрения искусства, что можно сказать в защиту автора «Западни», — спрашивает Уайльд и отвечает: «Ничего». Он признает талант Мопассана, но «гнилые болячки и воспаленные раны жизни» в его изображении для Уайльда не имеют ничего общего с искусством.
Пятидесятые годы в Англии и далее, почти до восьмидесятых годов, — пора расцвета экспериментального направления в философии, известного под именем позитивизма. Под его влиянием реализм потеснился, уступая место натурализму.
В связи с этим Уайльд заговорит о замене творчества подражанием, о «леденящем прикосновении» факта. Но разве не питал ненависти к подобным фактам и реалист Диккенс? Уайльд чувствовал, какая опасность грозит писателю, если он станет ограничивать свое воображение. Бальзак велик, «но он, — пишет Уайльд, — творил жизнь, а не копировал ее». Требование восстановить воображение в правах, писатель доводит в свойственной ему манере до парадокса: творчество — это искусство лжи («Упадок лжи»).
Сам Уайльд старался видеть жизнь при «живописных условиях». По методу своего творчества он романтик. Писатель и сам признавал свою связь с романтизмом. «Я называю это течение романтическим, — говорил он в своей лекции «Возрождение искусств в Англии». Китс для него безупречный художник «великого романтического направления, ибо именно в романтизме — нынешнее воплощение красоты». Критика Уайльдом действительности была романтической. В этой же плоскости лежал и его идеал искусства. Но не в прошлом или будущем искал его Уайльд, а в созданной вымыслом стране красоты выдавала в Уайльде романтика и его симпатия к национальному элементу в искусстве (статьи, посвященные ирландским храмам Йетса).
Уайльд, в сущности, принадлежал к тому направлению новых романтиков, которое дало миру и Англии Стивенсона, Д. Конрада, Честертона.
Романтической была и оценка Уайльдом критики («Критик как художник» (1890), «Развитие исторического метода в критике»). Для писателя критик — соучастник творения. Своим воображением он продолжает дело творца. Вдохновившее его произведение «нашептывает ему тысячи различных вещей, которых не было в душе того, кто ваял старую или новую картину».
Взгляды Уайльда как теоретика искусства и критика во многом совпадали со взглядами его западноевропейских предшественников: Ш. Бодлера, Т. Готье, американца Э. По. Он полностью принимал их тезис «искусство для искусства», идеал же его, как и они, видел в наслаждении. Но точно также, как эти писатели, в своем творчестве отступал от своих теоретических положений.
Смогла ли вообще красота стать для писателя надежным и единственным убежищем? Не пытался ли Уайльд найти другую веру?
Его письма о тюремных порядках (по выходе из тюрьмы), подпись под протестом против расправы над жертвами хеймаркетской трагедии в США (1886), высокая оценку революционно-бунтарской поэзии Шелли, Байрона, Уитмена — все говорит об иной направленности его интересов.
Вышедшая в 1891 году статья «Душа человека при социализме» подтвердила сложность взглядов Уайльда. Здесь писатель подвертит беспощадной критике общество, где царит «вульгарность и тупость», где на искусство смотрят, как на предмет «спроса и предложения».
Но самое ужасное в современной Англии — это положение обездоленных. Для Уайльда естественно, что человек, поставленный в такие условия, не может мириться с ними.
Л-ра: Зарубежная литература. Учёные записки. – Москва, 1971. – Вып. 12. – Т. 256. – С. 242-250.
Произведения
Критика
- Готика в зеркале пародии (повесть О. Уайльда «Кентервильское привидение»)
- О некоторых особенностях системы образов драмы Оскара Уайльда «Саломея»
- Поиски идеала (Об эстетических взглядах О. Уайльда)













Поділитися