Томас Стернз Элиот – образы детства
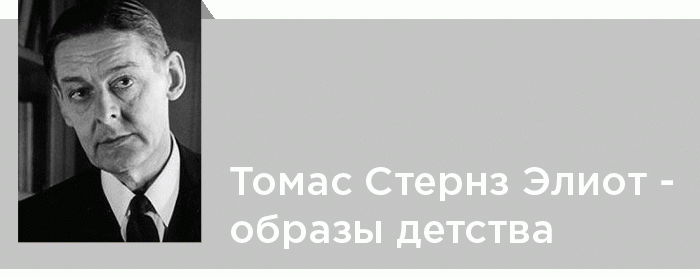
А. Биргер
Томас Стернз Элиот (1888-1965) — один из самых значительных англо-американских поэтов XX века. Революционер в стихе, лауреат Нобелевской премии 1948 года, «высоколобый оракул» в своих философских и литературоведческих работах. Элиот и пародия, Элиот и детская непосредственность — кажутся на сложившийся взгляд понятиями несовместимыми. Однако если непредубежденно посмотреть на все наследие Элиота, то выяснится, что вряд ли у какого другого поэта найдется столько искрометных пародий, насмешливых шуток, порой беззлобных, а порой и очень едких.
Стереотип живуч, потому что он, как, наверно, и многие стереотипы, устраивает большое число людей. Отказаться от подобного взгляда на Элиота — значит отказаться от собственных заумных изысканий. Отказаться от претензии на единоличное обладание (в интеллектуальном смысле) поэзией Элиота. Это может вызвать раздражение, а может — просто сожаление, как у Вирджинии Вулф. Вирджиния Вулф, прозвавшая Элиота в начале их знакомства «Великим Томом» и испытывавшая легкий трепет перед ним, сперва говорила — наполовину с иронией, наполовину всерьез: «Кто боится Томаса Элиота? — Я боюсь Томаса Элиота». Когда же их знакомство переросло в дружбу, то она отмечала «с сожалением», что теперь называет его «просто Томом» и «не боится его».
Порой Элиот любил на секунду выглянуть из-под маски. Известен случай, когда после одной из его лекций (которые были очень модными и на которые стремилась попасть вся «духовная элита») к нему подошла дама и спросила: «Скажите, мистер Элиот, как вам удается так хорошо выглядеть в ваши годы?» С той же вежливой серьезностью, с которой он читал лекцию, Элиот невозмутимо ответил: «Джин и наркотики, мадам, джин и наркотики». Интересно, как бы отнесся он к своему широко отмечавшемуся недавно столетнему юбилею, он, резко критиковавший Гёте в 1932 году и на вопрос, за что он не любит Гёте, ответивший: «На самом деле, за то, что у него теперь столетний юбилей. Я не переношу столетних юбилеев».
Хорошо понял Элиота другой замечательный английский поэт Уистан Хью Оден (1907-1973), довольно много общавшийся с ним в тридцатых годах (впрочем, наверно, один великий поэт всегда поймет другого великого поэта лучше прочих): «В Элиоте было много от добросовестного церковного старосты, но не меньше от двенадцатилетнего мальчишки, любящего ошарашивать «торжественные парики», предлагая им взрывающиеся сигары или подкладывая им диванные подушки, разражающиеся громким треском, едва на них сядешь».
Не удивительно, что образы, так или иначе связанные с детством, возникали у Элиота на всем протяжении его творческого пути. Мы не ставим своей задачей анализировать подход Элиота к поэзии, но важно отметить вот что. Отрицая, с одной стороны, биографическое начало в поэзии, заявляя, что поэт должен прятать от читателя личностное начало, с другой стороны, он утверждал первоочередную значимость непроизвольно всплывающих в нужный момент из личного опыта образов, прежде всего образов, хранимых с детских лет. Просто он рассматривал эти образы как духовный посыл, как ту точку отсчета, от которой поэт должен выстраивать свой художественный мир, опираясь уже на всю мировую культуру. Он отрицал их непосредственное, «непереваренное» перенесение в искусство. Но считал без них невозможным всякое искусство.
Отсюда, может быть, его особенный интерес к детям и старикам: к тем, кто всей душой еще только впитывает мир, плодотворно себя обогащая, и к тем, кто, много пожив и повидав, несет в себе богатство образов и воспоминаний. Есть в этом сходство с «любовью к детям и старикам» Рэя Брэдбери, особенно заметной в «Вине из одуванчиков». (Вообще, Элиот оказал на Брэдбери очень большое влияние, это часто видно по образному ряду и системе ассоциаций в прозе и, особенно, в стихотворениях Брэдбери.) Указываю на эту параллель, потому что Брэдбери в нашей стране широко известен и его стиль может помочь в понимании стиля Элиота (так сказать, обратным ходом).
Этот особенный интерес был более всего сосредоточен на проблеме оскудения и обогащения души. Угасания детства в человеке, усыхания человека — и сохранности детства озаряющего теплым светом весь дальнейший жизненный путь. Несколько знаменитых стихотворений, сознательно выстроенных Элиотом в один ряд, показывают, в чем Элиот видел полюса напряжения этой проблемы. Это прежде всего «Геронтион» и «Анимула» (перекликающиеся даже по названиям: если «Геронтион» — это транслитерация уменьшительного греческого от «старик» — «старичок», «старикашка», то «Анимула» — транслитерация уменьшительного латинского от «душа» — «маленькая душа», «душенька», а в элиотовском контексте скорей всего «душонка») и «Выхаживание рождественских елок». В поэме «Геронтион» мы видим старика, внутренне уже умершего, в котором угасли все чувства и способности:
Вот он я, старичок среди засухи; мальчик мне читает, а я поджидаю дождя...
В стихотворении «Анимула» исследован путь «маленькой души», «простой души» от детства и до смерти, от богатства к его утрате. Если в детстве
Твой мир нестесненных фантазий реальности
будет реальней, Наполнятся жизнью цветные фигуры игральной
Колоды, увидишь в них фей-чудотвориц и россказни слуг,
то позднее «Время» уродует эту душу, делая ее «хромоножкой»,
Мнущейся и неспособной шагнуть ни вперед, ни назад,
От жизни живого тепла, от посулов добра робко прячущей взгляд.
Отвергшей не только призывы любви,
Но даже и зуд в твоей жидкой крови,
Тень от тени своей, призрак, сам
заслонивший свой свет,
В пыльной комнате после себя оставляя лишь ворох газет,
Ты впервые на смертном одре ищешь в жизни свой канувший след.
В «Выхаживании рождественских елок», стихотворении, намеренно стоящем в сборнике рядом с «Анимулой», картина совсем другая:
На Рождество всякий смотрит своими
глазами.
Часть взглядов не стоит того, чтоб на них
задержаться:
Божественный, вяло зевотный, нахально
торговый,
Разгульный (до полночи пабы открыты);
И — детский, что не означает наивного взгляда ребенка,
Которому свечка — звезда, позолоченный
ангел
На хвойной верхушке — воистину ангел, а не
Украшение.
Детство дивится рождественской елке,
И пусть этот дух удивления длится,
пусть праздник
Всякий раз его будит, не гасит до милой
прохлады...
И это стихотворение явно перекликается с «Песней для Симеона», опирающейся на евангельский рассказ о мудреце, которому было обещано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Увидев Младенца-Христа, старик спокойно готовится к смерти — в противоположность герою поэмы «Геронтион». Тема детей и стариков обрела свое самое яркое выражение в теме Рождества. Христос — как противоположность «Анимуле», как высший символ ребенка, помогающего сохранить душевное богатство старику. Точно так, как в «Рождественских елках»:
...Чтобы восьмидесятое Рождество (Восьмидесятое или другое, но в смысле «Последнее») все ежегодно копимые чувства
Разрядило в великую радость — она же и
станет великим Страхом, во время свое посещающим
каждую душу:
Поскольку начало напомнит нам о конце, А
Первое Пришествие —
О Втором.
Точно так же страшится и Симеон, но страх этот — светел, в нем нет ничего от раздавливающего страха «угасания и распада», запечатленного в поэме «Геронтион». Страх светел, потому что он сводит воедино начала и концы, потому что он обращает взгляд к детству и в каждом открывает сохраненного ребенка.
Можно привести много свидетельств, как сам Элиот дорожил «ребенком в себе», как он — порой наперекор даже судьбе, пересиливая внутренний разлад, — становился организатором шуточных проделок и веселых розыгрышей (что так замечательно подметил Оден), как он всячески подчеркивал свою любовь к Шерлоку Холмсу и персонажам Диккенса, иногда даже упирая на то, что его вкусы остались на уровне вкусов подростка, — что вряд ли кого могло обмануть, потому что высочайшая образованность Элиота и изощренность его литературных вкусов были общеизвестны, но и надеваемая маска говорит о многом.
И совсем не удивительно, что в промежутке между «Анимулой» и «Рождественскими елками» Элиот создал «Старого Опоссума» — очаровательное, полное лукавого, легкого юмора произведение для детей. Он и писал его в тесном общении с детьми, всерьез относясь к их советам и пожеланиям. И создал книгу, доступную им не за счет «облегченности», а благодаря глубинному внутреннему настрою, перекличке с детским взглядом на мир. В ней нет ничего от «сюсюкания» — и можно припомнить, что Элиот относился к каламбурам Эзры Паунда, которые тот строил на «сюсюкающей детской порче» языка, как к острым, точным, но совершенно не смешным. И считал этот метод одвусмысливания слов через их калечение одним из доказательств «полного отсутствия» у Паунда «чувства юмора». Элиот отлично понимал, что простое уважение к детям — к читателям, для которых он создает свою книгу, — обязывает избегать дешевого заигрывания. Он спокойно вводил в текст вещи, детям, может, и не совсем понятные. Ну что могли в то время знать и помнить дети о театре викторианской эпохи, на каламбурном обыгрывании реалий которого построен весь «театральный кот»? Но сама смакуемая неизвестность становилась притягательной. За ней таилось угадываемое волшебство. И основой этого волшебства было доверие к читателям. Эффект, сходный с эффектом «магической тарабарщины» в детских присказках.
Конечно, эта «непонятность» срабатывала и за счет еще одной важной вещи. Все въяве возникало перед глазами. И читатель мог сказать — «не знаю, что это такое, но я это вижу». Точно так, как ребенок может не знать, как работает заводной грузовик, но он знает, что грузовик этот можно нагрузить кубиками, завести ключиком — и он поедет. И в этом — высшая реальность. Такого же восприятия умел добиться и Элиот — «не знаю, что это такое и как это сделано, но это едет».
А что до недоумения — так и взрослые читатели Элиота порой недоумевали, встречаясь со сложными пассажами его серьезных, «высоких» вещей. Элиот очень дорожил своим объемно-образным рядом и порой не слишком приязненно относился к попыткам извлекать из образов символику в ущерб их зримости. Почти хрестоматийной стала история, когда Элиот, спрошенный, что значит смущавшая многих строка из поэмы «Пепельная среда» «Леди, три белых леопарда сидели под можжевельником», ответил предельно вежливо: «Она означает — «Леди, три белых леопарда сидели под можжевельником». Подчеркивая, что для проникновения в замысел поэта надо прежде всего в любом случае проникнуться нарисованной им картинкой — увидеть и леопардов, и можжевельник, ощутить прохладную тень среди жаркого дня. И, вобрав в себя эти образы как увиденную реальность, естественно и «вдруг» проникнуться их символикой.
В «Старом Опоссуме» эта сторона таланта Элиота получила полный простор. Он живописал, он наносил краски — и знал, что если краска ляжет выразительно, то дети, в отличие от взрослых, не спросят, что она значит и какой у нее смысл, — если красиво, то по замечанию Элиота об Эдварде Лире, «его бессмыслицы — не отсутствие смысла», потому что в них существует «музыка поэзии».
Попробуй Элиот ограничить себя понятным, начать разжевывать — и исчез бы тот дух внутреннего освобождения, который и составил главную притягательность и ценность книги. Читатель этой книги внутренне раскрепощается — вот что самое главное. На время становится самим собой. В чисто английских традициях — через поэзию «мира вверх тормашками» — обретается та внутренняя свобода, благодаря которой и достигается неподневольное принятие истинных ценностей. Не случайно, наверно, именно в Англии было проведено очень интересное исследование детского фольклора (статья об этом исследовании появлялась года два назад в журнале «Знание — сила»): в частности, был сделан вывод, что детские насмешливые и внешне неуважительные рифмовки и прибаутки о королеве больше помогают воспитанию уважения к королеве, чем любые взрослые проповеди, разъяснения и нотации, потому что, снимая «хрестоматийный глянец», дети естественным образом переболевают протестом против чуждого мира, навязывающего им свои твердые ценности; для них это — способ налаживания контакта с незнакомым и подозрительным (и оттого кажущимся порой враждебным) миром. И, конечно, подобную психологическую подоплеку Элиот ощущал, как никто другой. Ведь именно к этим детям он и обращался, именно их духом и пронизана книга. Ощущал он и грань, за которой пропадает притяжение подобного жанра.
Может, отсюда вообще можно извлечь общую «мораль» (как говаривала Герцогиня в «Алисе в Стране Чудес»); многое еще надо пересмотреть, чтобы понять; детская литература жива духом, а не буквой. Возникает порой то узко понимаемое «воспитательное» отношение (достаточно вспомнить, как во время оно разбирали по косточкам «Муху-Цокотуху»), то «опасливо-разжевывательное». Все непонятное кажется вредным, и забывают, что слишком понятное скучно, что, если уж говорить только в чисто утилитарном аспекте, непонятное стимулирует работу ума — «поисковую активность», по точному определению психологов. Без развития такой активности не может состояться человек. Не в этом ли одна из причин, что «Старый Опоссум» до сих пор не издан полностью в нашей стране? К нему часто проскальзывает отношение как «немассовому», «элитарному» чтению. Или как к книге, слишком много теряющей при переводе. Но достаточно поглядеть по библиографии Элиота хотя бы справку о переводах и тиражах «Старого Опоссума», чтобы убедиться, что в Дании и Чехословакии он широко разошелся (не говоря о прочих странах), и задаться вопросом: а что, наши дети глупей и непонятливей детей других стран, если их так оберегают от «сложного»?
Мы долго жили по теории, которую Сент-Экзюпери определил как теорию «бесплатного супа для бедняков». Помните? «Того, что меня мучит, не излечишь бесплатным супом для бедняков» — его мучило то, что «в каждом человеке убит Моцарт». Думается, что это вполне подходит и к Элиоту. Два трагичнейших писателя в одно и то же время обратились к книгам для детей — это ли не говорит о многом? И годы показательны — преддверие страшной войны и ее начало, годы, когда над всем миром нависла угроза тоталитарного порабощения. И «Маленький принц», и «Старый Опоссум» — это книги поисков опоры в детстве. И с этой точки зрения, с точки зрения эпохи — книги победы и преодоления, книги утверждения человечности.
К Элиоту часто относились с подозрением как чуть ли не к реакционеру. А он просто понимал, что «бесплатный суп» не поможет там, где «убит Моцарт». Ведь об этом — и в «Анимуле». И от «Анимулы» Элиот пришел к чистому и светлому «Старому Опоссуму». Пришел в те годы, когда для него состоялось окончательное утверждение христианских ценностей. Что ж, это тоже не могло не повлиять на судьбу книги в нашей стране. Если в страну детской фантазии автора ведет один главный и исходный детский образ — образ Младенца-Христа, то такому автору трудно было рассчитывать на быстрое проникновение в советскую литературу.
Но для Элиота вера всегда была «веселой» — при всей трагичности проблем, которые он поднимал, при всей трагичности бытия. И он отказывал в истинности веры тем, кто — опять вспомним «Рождественские елки» — терял эту веселость
В усталой привычности, в пресной
томительной скуке,
В осознании смерти, в познании горя и
краха,
Или в заносчивой благочестивости, в
чванном
Любовании верой, присущем порой
нововерцам,
неприятном для Бога и неуважительном к детям...
Яснее не скажешь.
Л-ра: Детская литература. – 1991. – № 6. – С. 61-64.
Произведения
Критика
- Индивидуально-авторская специфика литературно-критического дискурса Т. С. Элиота
- Томас Стернз Элиот – образы детства
- Томас Элиот и вопрос об обязательном образовании













Поділитися