Джон Уэйн. Спеши вниз
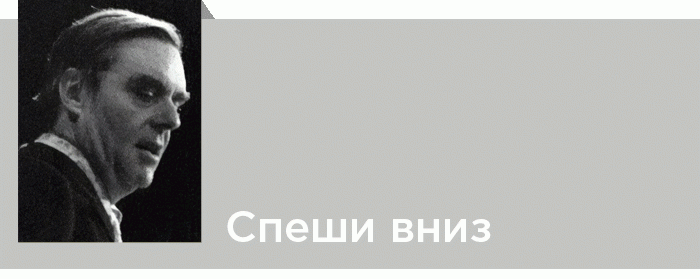
(Отрывок)
Спеши вниз ко мне, моя крошка,
Буду ждать тебя дома, один.
Старинная английская песня.
Быть может,
Моралист взыскательный придет
Когда-нибудь к моей заброшенной могиле.
Вордсворт, Эпитафия поэта.
I
— А может быть, вы все-таки скажете мне, мистер Ламли, почему, собственно, вам не нравятся мои комнаты?
В голосе хозяйки прозвучала и оскорбленная враждебность и нотка сверхчеловеческого терпения, готового наконец лопнуть. Чарлз с трудом удержал стон. Надо ли объяснять пункт за пунктом, почему он не может больше жить у нее? Кашель ее супруга по утрам, лай собаки при малейшем движении, зашарканный половик в прихожей? Нет, это невозможно. Ну почему не хватает у нее милосердия поверить его вежливой лжи? Ему, во всяком случае, придется стоять на этом. Он посмотрел на бусинки ее обличающих глаз и сказал как можно примирительней:
— Право, миссис Смайт, с чего это вы взяли, что мне не нравится комната. Я всегда был ею доволен. Но я же вам сказал вчера — мне надо жить поближе к месту работы.
— А где вы работаете? Я вас об этом не раз спрашивала, мистер Ламли, но вы так и не дали мне ясного ответа.
«А на кой черт тебе знать, где я работаю?» — чуть было не крикнул он. Но затем рассудил, что, собственно, она вправе задать ему этот вопрос. Он прекрасно знал, что с самого начала приводил ее в недоумение. Ни платьем, ни речью он не похож на щеголеватых клерков или учителей начальных школ, которые обычно снимали у нее комнаты. И все-таки нечего было и думать отвечать ей напрямик: «Я только что с университетской скамьи, с никчемным дипломом историка. У меня нет места и нет никаких перспектив, и живу я на те пятьдесят фунтов, которые сберег в банке на крайний случай». Ни за что! Он содрогнулся, как всякий раз при мысли, с каким дьявольским рвением она ухватилась бы за все с этим связанное: как выискивала бы для него в газетах объявления о найме, как «сочла бы своим долгом» справляться о состоянии его финансов. «Мне придется просить вас платить вперед, мистер Ламли. Деньги это небольшие, их, знаете, нам ненадолго хватает». Он, казалось, слышал, как она говорит это своим пронзительным голосом, выражавшим наихудшие подозрения.
— Понять не могу. Вы просто не хотите сказать мне, чем занимаетесь. Уж я-то, кажется, не навязчива, боже упаси!
И какой он дурак, что не придумал чего-нибудь на всякий случай! Ну кем он мог быть? Учителем? Но кого обучать здесь, в Стотуэлле? Надо было взять на заметку какую-нибудь школу в радиусе пяти миль, тогда бы еще можно было соврать. В сущности, что он знает о Стотуэлле? Есть здесь собачьи бега. Может быть, он там работает? Ну, скажем, на тотализаторе. Но тут же поймал себя на мысли, что ни разу в жизни не видал тотализатора. А кроме того, он слишком часто оставался дома по вечерам. Служба у какого-нибудь стряпчего? Но она непременно спросит, какого именно и где его контора, и напрасны будут выдумки, потому что, раз уж у нее возникли подозрения, она не пожалеет труда, чтобы разоблачить его. Надо отвечать. Он отдал приказ языку, вполне уверенный, что тот что-нибудь да скажет, сам по себе, без его помощи.
— Видите ли, какое дело, миссис Смайт. Слышали вы о… о «Свидетелях Иеговы»?
Она резко повернула голову. Ее испуганные глаза старались заглянуть ему в лицо.
— Так вы хотите сказать, что вы из этих…
— Собственно, не из них. То есть, не совсем из них…
— Мистер Ламли, чем вы занимаетесь?
— Я частный сыщик.
Слова эти сорвались с языка сами по себе. Была не была!
— Частный сыщик? «Свидетели Иеговы»? Что это значит? И отвечайте сейчас же, молодой человек, отвечайте сейчас же! У меня еще не было ни одного жильца, за респектабельность которого я бы не поручилась, и все они на приличной работе, а вы тут тянете, не хотите сказать, чем занимаетесь, а теперь оказывается, что вы сыщик, человек, связанный с преступниками… Еще, того и гляди, приведете их в мой дом, конечно, если все, что вы мне рассказываете, правда.
Чарлз вытащил пачку дешевых сигарет.
— Минуточку, — пробормотал он. — Оставил спички в спальной.
— При чем тут спички! — взвизгнула она, но он выбежал, захлопнув за собой дверь, и бросился вверх по лестнице к себе в комнату.
Первым побуждением его было спрятаться под кровать, но он знал, что это бесполезно. Надо собраться с духом. Закурив сигарету, он глубоко затянулся горьким дымом и повернулся лицом к хозяйке, которая уже настигла его в спальной. И вдруг ум его прояснился: она требует объяснений, ну что ж, он даст их. Не дожидаясь вопроса, он понес небылицы, пространно и подробно расписывая, как руководящий центр «Свидетелей Иеговы» направил его следить за одним из четырех окружных казначеев, Блэкволлским, которого подозревали в различных злоупотреблениях (тут он перешел на таинственный полушепот), и пусть она не обижается, если он о них не будет распространяться. Он тут же сочинил название юридической конторы, в которой был младшим компаньоном. Помнит ли она дело Эванса, то, что заняло так много места на столбцах «Со всего света»? Ну да, она, возможно, не читает этой газетки и не слыхала про Эванса; но, во всяком случае, именно Чарлз разоблачил этого человека. Он говорил внешне спокойно, но не переставал чувствовать себя прескверно. А что касается казначея, то он поселился в маленькой гостинице в самом городе (когда она открыла рот, чтобы спросить «в какой гостинице», он опередил ее, осведомившись, уж не собирается ли она выведать у него служебную тайну), и теперь он вынужден по долгу службы перебраться в ту же гостиницу.
— Так что видите, миссис Смайт, говоря вам, что мне необходимо переехать поближе к месту работы, — тут он веско улыбнулся, — я был скрупулезно точен.
Впервые за свои пятьдесят шесть лет миссис Смайт лишилась дара речи. Она уловила едва ли треть из того, что он говорил, и ее голова шла кругом. У нее было единственное желание — поскорее избавиться от Чарлза Ламли. Победа была за ним.
На утро с чемоданом в руке Чарлз в последний раз споткнулся о зашарканный половик и выбрался на июльское солнце. Лежа ночью без сна, Чарлз предвкушал удовольствие от того пинка, который он охотно и рассчитанно отпустит собаке, если та вздумает его облаять. Но именно сегодня, впервые со дня его появления в доме, собаки не было на месте, и он удалился без шума.
Чарлз был уверен, что миссис Смайт, высунувшись из-под пожелтевших кружевных занавесок гостиной, провожает его подозрительным, беспокойным взглядом, и постарался пройти по улице с самым независимым видом. Но ему ясно было, что три недели, проведенные в Стотуэлле, были напрасно потерянным временем: двадцать одно бесцельное утро и столько же отупляющих дней и гнетущих вечеров, которые ни на минуту не проясняли его безнадежно упорствующих мыслей. Как часто за последний проведенный в университете год он поздравлял себя с тем, что нашел выход из привычного тупика; в тех случаях, когда у него возникала назойливая мысль («а чем он будет жить через несколько месяцев?»), он гнал ее прочь, обещая себе заняться этим и всем остальным после нескольких недель покоя и одиночества. Тогда на все вопросы о планах на будущее он отвечал: «Простите, но сейчас я не принимаю никаких важных решений. Нельзя же все сразу, знаете ли. В данный момент я готовлюсь к экзаменам и, — добавлял он торжественно, — стараюсь жить, как подобает нормальному человеку. А когда с университетом будет покончено, тогда я подумаю, как мне зарабатывать на жизнь, не выделяя этого вопроса из ряда других важных проблем». Такие ответы очень подбадривали его. Он даже обставил свой отъезд незатейливым церемониалом. Тот город, куда он удалится, чтобы принять обдуманное решение, был выбран на дружеской вечеринке. Он попросил приятелей написать на листе названия десятка небольших городков, где можно снять комнату подешевле, и с великолепной небрежностью ткнул наугад булавкой.
— Мне совершенно безразлично, — высокомерно изрек он, — будет это деревня или промышленный центр: взор мой будет устремлен только внутрь меня самого.
По забавной случайности игла его в первый раз ткнулась в тот из всех городов Англии, который был для него ни к чему: город, где он родился, рос и где жили его родители; название города без всякой задней мысли было вписано одним из его приятелей. При второй попытке булавка ткнулась в самый край листа, и лишь в третий раз он угодил прямо в Стотуэлл. Полный надежд, он спешно прибыл на другой конец страны, в это скопище грязных улиц и фабрик, только для того, чтобы несколько драгоценных недель кусать себе ногти, не зная, на что решиться. Ничто так и не было решено, даже такой простой и насущный вопрос «чем заняться?», не говоря уже о более глубоких и сугубо личных проблемах, которые он годами накапливал в ожидании этой небольшой передышки.
«Почему бы это? Почему такая неудача?» — думал Чарлз, таща тяжелый чемодан по главной улице на станцию. Ответ, как и все прочее, был сбивчивый, отчасти потому, что университет, хаотично напичкав его за три года случайными знаниями, отучил его ум от серьезного мышления; отчасти из-за постоянного понукания обстоятельств («Непременно уходи с утра, а то она догадается, что ты без работы», «Решай сегодня же, не теряя времени понапрасну, ищи в газете объявления по найму»), а отчасти по той простой и ясной причине, что проблемы эти были для него вообще неразрешимы. Во всяком случае, утешал он себя, он остался самим собой. Ведь продолжай он жить среди самодовольной благожелательности тех, кто старался «руководить» им, какие гибельные шаги могли бы уже быть им предприняты! А сейчас он был, увы, все там же, что и в начале задуманной им поры решений. Он еще не представлял себе, какие обстоятельства скоро научат его уму-разуму, не понимая, что трудности, им испытываемые, не могут быть устранены путем размышлений.
И поэтому неизбежной была та горечь поражения, которая ссутулила спину Чарлза и избороздила его лоб морщинами, когда он уплатил свою последнюю фунтовую бумажку за билет до родного города, где его отец и мать, родные и знакомые уже давно готовились спросить его, где же он пропадает. Если бы не Шейла, угрюмо думал он, дожидаясь тех нескольких шиллингов сдачи, из которых состояли теперь все его ресурсы, он бы еще как-нибудь продержался, ночуя на садовых скамейках, перебиваясь продажей газет. Но ему необходимо было повидаться с ней, хотя он не мог ни объяснить свое молчание, ни ускорить их свадьбу или сделать ее более радостной. Что за нескладица! Чарлз глубоко вздохнул, засовывая билет в карман пиджака и забирая сдачу.
Прибыл поезд, и он нехотя вошел в купе остановившегося перед ним вагона, закинул чемодан на сетку и пристроился в уголке. Чрезмерная сдержанность, привитая воспитанием, не позволила ему разглядеть своих двух спутников по купе; они представлялись ему размытыми очертаниями пожилой супружеской четы, лишенной каких-либо определенных признаков. Только когда поезд отошел от станции и за окнами замелькали поля Мидленда, он почувствовал, что они его рассматривают, робко, но с острым интересом, который явно побуждал их нарушить молчание. Он поднял глаза и встретил их взгляд. Что это? Да он их где-то видел!
— Мистер Ламли, не правда ли? — сказал наконец сидевший напротив мужчина.
— Да, меня так зовут, — недоверчиво отозвался Чарлз и торопливо забормотал: — Не помню, когда имел честь… лицо ваше, конечно, знакомо, но, право же…
Женщина без малейшего смущения выдвинулась вперед с ободряющей улыбкой.
— А мы — папа и мама Джорджа Хатчинса, — мягко сказала она. — Мы вас видели, когда навещали его в университете.
Чарлз сразу же вспомнил сцену, которую охотнее позабыл бы. Джордж Хатчинс, невыносимо усидчивый, лишенный юмора студент, жил в соседней комнате и, вечно поучая Чарлза, бубнил о пользе упорного труда.
— Никакой системы, — снисходительно замечал он, оглядывая его книжные полки. — Совершенно случайный подбор без всякой системы. Вы просто забавляетесь. Ну, а я не могу позволить себе забавляться. Я последовательно закрепляю каждый шаг продуманной программы. Подготовительный обзор, потом чтение вплотную, а затем, через три месяца, проверка. И все накрепко и навсегда. Так поступали люди вроде Локвуда, и я следую их примеру.
Локвуд был скучный, кислолицый курсовой наставник, к которому Хатчинс питал чувство глубокого и неподдельного восхищения и который направлял его на путь самодовольного педантизма. После таких поучений Чарлз подолгу сидел в оцепенении, скорчившись перед камином и глядя в огонь — то смутные фантазии, то жар интуитивных откровений заменяли для него интеллектуальный метод, засушенный и выдохшийся в гнетущей атмосфере грубой активности Хатчинса.
— Полагаю, вы уже слышали об успехах Джорджа, — сказал мистер Хатчинс. Говорил он бодро и доверчиво, но с оттенком какой-то тревожной гордости. — Он получил аспирантуру, — прибавил он, произнося это непривычное для него слово так, будто прилаживал чужой черенок в расщеп низкорослого ствола своего просторечья.
Несколько минут разговор кое-как клеился, но чисто механически; на поток штампованных поздравлений Чарлза: «Заслуживает похвалы, упорно работал, вполне достоин» — увядшая супружеская чета мямлила: «Он всегда добивался, далось не без труда, вы сами знаете». Прикрываясь маской учтивости, Чарлз на самом деле жалел их: они были так явно встревожены, даже больше, чем в тот день два года назад, когда он случайно зашел в комнату Хатчинса за плиткой и увидел их там всех втроем. Старики сидели в напряженных позах, не произнося ни слова. Хатчинс явно и отталкивающе стыдился рабочего вида и простоватых манер родителей и даже не представил их, очевидно надеясь, а вдруг Чарлз не догадается, что это его отец и мать. Но семейное сходство говорило само за себя, и Чарлз задержался на несколько минут, болтая с ними, отчасти из желания досадить Хатчинсу, а отчасти из душевной потребности чем-то подбодрить этих приличных и приятных людей, а заодно показать им, что не все такие скороспелые снобы, как их сынок, и хоть чем-то скрасить явно гнетущее впечатление от этой сцены. Они больше никогда не показывались в университете, и Хатчинс никогда не упоминал о них. Однажды Чарлз, только чтобы сделать ему приятное, спросил, как поживают его родители, но рычание, которое он услышал в ответ, ясно показывало, что Хатчинс рассматривает это как оскорбление. Его откровенный культ успеха не позволял ему терпеть тех, кто произвел его на свет: они не были ни преуспевающими богачами, ни знаменитостями, их бирмингемский говор только подчеркивал искусственность его собственного произношения (в точности копировавшего педантичный выговор Локвуда), — короче говоря, все в них его раздражало. Поглощенный собственными заботами, Чарлз все же находил время радоваться, что не похож на Хатчинса, что душу его не сломила пытка нелепых затруднений, что душа не умерла в нем.
Он не любил изречений, но понравившийся когда-то отрывок невольно пришел ему сейчас на память, и он пробормотал: «Из тех я, кто всегда творит, хотя б то был и мир страданий».
— Простите? — недоуменно переспросил Хатчинс.
— Нет, ничего, ничего, — успокоил его Чарлз.
Он хотел загладить неловкость непринужденностью, но слова его прозвучали развязно и могли показаться невежливыми. Раздосадованный, он встал, снял чемодан с сетки, буркнул: «Мне, знаете, на следующей станции» — и выскользнул в коридор, надеясь отыскать где-нибудь свободное место. Но одно-единственное нашлось в купе, где четверо синещеких брюнетов шлепали картами по чемодану и с такой враждебностью посмотрели на него, что он тотчас же ретировался и, боясь, чтобы в коридоре его не настигли мистер и миссис Хатчинс, оставшиеся сорок минут провел в уборной.
Несмотря на такое обескураживающее начало, Чарлз к половине пятого успел одолеть поразительное число препятствий. Прибыв в родной город, он оставил чемодан в камере хранения и, решив как можно дольше оттягивать свое официальное прибытие, тотчас же прошел на станцию пригородного автобуса, чтобы поспеть на машину, проходившую через ту деревню в пяти милях от города, где жила Шейла и ее родные. И, в то время как автобус медленно пробирался по зеленым проселкам, все сильнее жгло тело и душу подавляемое уже несколько месяцев желание повидаться с ней. Это было так нужно ему — возвращение, признание, точка опоры, но без необходимости оправдываться или немедленно принимать решения. Однако этот душевный покой еще надо было завоевать. И настолько сильно было сейчас его внутреннее напряжение, что, ступив на дорожку сада, Чарлз весь дрожал.
Но случилось так, что ожидание его снова не оправдалось. В ответ на излишне громкий и продолжительный звонок, дверь ему открыл мрачный толстяк лет тридцати пяти. Это был Роберт Тарклз, муж старшей сестры Шейлы — Эдит. Мрачность его при виде Чарлза перешла в меланхолическое раздражение. Опять это дурак! И никак он не может привести себя в приличный вид. Да и никогда не сможет.
— Шейлы нет, — сказал он, не дожидаясь вопроса и не здороваясь с Чарлзом.
— Но все-таки можно к вам? Я издалека, — пробормотал Чарлз.
— Дома только мы с Эдит, — сказал Роберт, как бы предупреждая, что Чарлза ожидает здесь неприятное объяснение, как оно и случилось.
Чарлз молча протиснулся мимо Роберта в переднюю. Из кухни вышла Эдит и стала в дверях.
— Шейлы нет дома, — сказала она.
— Знаю, — быстро и невнятно буркнул Чарлз. — Роберт уже сказал. Может, вы мне все-таки предложите чашку чая? А когда Шейла вернется? Мне надо с ней повидаться.
Под их пренебрежительными враждебными взглядами он весь подобрался, вошел в кухню и сел на стул.
Так бывало всегда при его встречах с Робертом и Эдит. Не то чтобы они попрекали его за неудачи; по их мнению, за неудачи взыскивать не следует, неудачниками можно просто пренебречь. Раздражало их то, что он даже не старался добиться успеха. Хотя они и не смогли бы это выразить достаточно ясно, они винили его в том, что он не носит положенного стандартного костюма. Облекись он в костюм преуспевающего лавочника средней руки, такого, как Роберт, они бы его признали своим. Или же, если б он усвоил внешний безалаберный шик богемы, они по крайней мере поняли бы, кем он хочет быть. В их мире каждый должен был носить отличительные знаки, которые обозначали бы его положение, его призвание, его амбиции: бутсы и комбинезон землекопа или профессорский сюртук — все равно что, но необходимо, чтобы каждый носил свое, удостоверяющее его личность платье. Но Чарлз, видимо, не сознавал этого священного долга. Студентом он не носил вельветовых брюк и цветных сорочек. Даже не курил трубку. Ходил он в пиджаке, но не того покроя, который носят деловые люди, и его тяжелые башмаки не имели ничего общего с ботинками на сверхтолстых подошвах, какие носят модники спортсмены. К тому же все попытки Чарлза снискать расположение родных Шейлы были встречены весьма холодно. При первой же встрече он предложил Роберту смотаться выпить перед завтраком. Но Роберт не привык бегать ради стаканчика, а предпочитал откупоривать полупинтовые бутылки пенистого пива, которые важно извлекал из серванта красного дерева. Когда в один из выходных дней прислуги Чарлз взялся мыть посуду, Эдит уверенно предрекала, что он что-нибудь разобьет, и в конце концов он действительно уронил и разбил невосстановимый соусник из сервиза. Когда Роберт в качестве положительного и надежного супруга старшей сестры спросил претендента на руку младшей, чем, собственно, он намерен заняться и каковы его планы, Чарлз ответил по своей университетской привычке весьма уклончиво и шутливо. Чарлз не прижился в их мире, не усвоил их языка, и после недолгой попытки приспособить его к своей чопорной, серенькой, непостижимой для него рутине они с отвращением отвернулись от него, не оставляя, однако, в покое. Чувствуя на себе их взгляд, Чарлз с тоской подумал, что за чашку чая ему придется проглотить в придачу порцию советов, столь же неудобоваримых, как вата.
Начала наступление Эдит, уставив на него свои до смешного маленькие глазки. В своем уродливом платье и забрызганном переднике она заняла твердую позицию у посудной раковины — типичная Женщина в Своей Крепости.
— Вы, должно быть, хотите поговорить с отцом? — (Слава богу, она по крайней мере не звала это чучело гороховое «папочкой»!) — Теперь, когда вы получили диплом, вы, конечно, хотите привести свои дела хоть в некоторый порядок. — (Косвенный, хотя и прозрачный намек на его бестолковое отношение к жизни.) — Он и то уж удивлялся, когда же вы наконец пожалуете. — (Иными словами, имел в виду, что он уклоняется от ответственности.)
Чарлз сдуру попался на крючок.
— Собственно, я вовсе не намеревался говорить с вашим отцом, — сказал он. — В этом, по-моему, нет… нет никакой неотложной необходимости, и… — Тут он понял, что влип.
Последний десяток слов так легко было обратить против него («Вы дошли до того, что сказали…», «Вы, кажется, не отдаете себе отчета» и т. д.). Эдит уже раскрыла рот, чтобы выпалить заряд заготовленных обвинений, как вдруг неожиданно вмешался Роберт.
— На днях я встретил ваших родителей. Мы с ними перекинулись парой слов о вас и вообще. И я должен сказать, — тут он заговорил резко и твердо, тоном начальника, подводящего итог: — вам надлежит понять, что поведение ваше вызывает всеобщее неудовольствие. Ну чем, например, оправдать ваше исчезновение сразу же после экзаменов? Отец ваш сказал, что вы даже не оставили своего адреса. Он лишен был какой-либо возможности снестись с вами. Нечего сказать, достойное поведение!
Чарлз действительно прибег к этому единственно верному способу лишить родителей возможности вмешиваться в его жизнь, потрясая, коверкая ее, затемняя туманом родственных чувств все то, что он пытался прояснить под старательно налаженным микроскопом независимости. Но чем можно было ответить на дурацкое убеждение этих людей, что его отказ копошиться при каждом решении в том могильнике архаических чувств, который вот уж двадцать два года разрывали его родители, был просто «недостойным поведением». Полная неспособность найти с ними общий язык душила его, опустошала мозг. Так бывает в ночных кошмарах, когда представляется, что тебя сажают в сумасшедший дом и ты ничего не можешь поделать.
Голоса Роберта и Эдит назойливо зудели. Чарлз пытался не слушать, но самодовольство, наглая полуправда, откровенная грубость вызывали его на отпор. И, наконец, одно замечание Эдит заставило его вскочить в неудержимом порыве ярости.
— Вам никогда и в голову не придет воздать должное тем, кто старался вам помочь.
В вихре возмущения Чарлз представил себе лица тех, кто «старался ему помочь», а за лицами мелькало сияние, отблеск зари на снеговых вершинах, которые (это он внезапно почувствовал) могли бы быть и в его жизни, если бы его предоставили самому себе без их «руководства». Если бы всех, кто прикрывал свои притязания словами «старался помочь», каким-то чудом можно было убедить оставить его в покое. А она опять говорит о долге!
Ухватившись за спинку стула, Чарлз искал ответ, быстрый, сокрушительный: всего несколько слов, но таких убийственно-ядовитых, чтобы они впились в сознание Эдит и не покидали ее ни во сне, ни наяву до самой ее смерти.
Конечно, это бесполезно. Таких словами не проймешь. Невероятно, чтобы можно было что-нибудь внушить им с помощью слов, разве что повалив на землю и оставив связанными и с кляпом во рту перед граммофоном, бесконечно повторяющим простое и механическое суждение. Какое удовольствие доставила бы ему возможность заняться на досуге выработкой подобного суждения, чтобы в нем коротко и ясно сформулировать, какое преступление против человечества они и все им подобные совершают самим фактом своего существования.
— Ты, кажется, попала в самую точку, Эдит, — сказал ее супруг. — Наш друг не знает, что тебе ответить. Ты лишила его дара речи.
Точно прозрев, Чарлз уставился на Роберта. И вдруг ему начало казаться, что щеточка рыжеватых усов (для придания солидности, разумеется) просто нелепа на человеческом лице. Словно она пересажена с морды какого-нибудь эрдельтерьера.
— Я думал вовсе не о том, что сказала Эдит, — ответил он полуизвиняющимся тоном. — Просто я недоумевал, как это никому не придет в голову состричь ваши нелепые усики и употребить их на щетки, вроде тех, что висят возле унитаза.
Чарлз говорил спокойно и вежливо, но после короткой паузы, которая потребовалась им, чтобы понять смысл его слов, они тем не менее осознали, что он их определенно оскорбил. Лицо Эдит словно увеличилось вдвое, она выпучила глаза и разразилась громкой и бессвязной тирадой, истеричной и в то же время угрожающей. Роберт со своей стороны без колебаний избрал линию поведения. Он стиснул зубы, напыжился и шагнул вперед — легко, но решительно, как Рональд Колман. Когда же его жесткое и размеренное «А теперь хватит об этом разговаривать!» не дошло до сознания Чарлза и кудахтанье Эдит стало все больше походить на рыдания, тогда Рональд Колман исчез и его место занял Стюарт Грэйнджер,[3] настороженный, быстрый, неотразимый. Он схватил Чарлза за лацканы пиджака. На мгновение его неожиданный наскок застал Чарлза врасплох. Как быстро и каким роковым образом развернулись события! Теперь всю вину взвалят на него: «Оскорбление! Что было делать Роберту, как не выставить его вон? И, конечно, теперь мы его на порог не пустим!»
Одутловатое, глупое лицо Роберта угрожающе надвинулось. Черт! Ну, так пусть получают сполна. Резким движением Чарлз вырвался, бросился к умывальнику и схватил таз: Эдит перед его приходом мылась и почему-то не успела вылить воду. Чарлз рванул таз из подставки — часть серой лены вылилась на него самого, а остальная вместе с водой расплеснулась по всей кухне, когда с чувством огромного облегчения он широко размахнулся тазом, почти одновременно в кухне раздались три звука — всплеск воды, громкий взвизг Эдит и грохот пустого таза. Не успел еще таз закатиться в угол, как Чарлз распахнул дверь и выскочил на улицу. Оглянувшись, он успел заметить лицо Эдит, обрамленное мокрыми кудерьками, и Роберта, протиравшего глаза от мыльной пены.
Когда за Чарлзом захлопнулась калитка и он побрел по дороге, ему вдруг стало ясно, что, собственно, сейчас произошло. Разорвал-то он не с Робертом и Эдит, а с Шейлой. Чарлз любил ее с пассивным упорством еще с того самого жаркого, вскружившего ему голову вечера, когда семнадцатилетним юношей он впервые почувствовал, что такое любовь. С тех пор Шейла вошла в его существо, заполонила его сердце. После разумного периода колебаний она согласилась выйти за него замуж, когда будет возможно, и надежда сделалась основой его жизни и в мыслях и в действиях. Теперь, идя по сумрачной улице, он слышал, как даже собственные его шаги отстукивают, что это невозможно. Перед его глазами возникло ее лицо: выражение полного покоя, доверчивого нежного умиротворения каждый раз поражало его, еще задолго до того, как привычным гостем водворилось в его сознании. Но сейчас сквозь глаза Шейлы просвечивали глаза ее матери, они смотрели на него из-под стекол очков, торжественно строгие, осуждающие. В линиях ее подбородка он видел острый подбородок ее отца, то начисто выбритый, то заросший седоватой щетиной, под плотно сжатым, нервным ртом. Нет! Никогда он не боялся, что с годами она потеряет свою стройную округлость — расползется или засохнет, но сейчас он представлял ее не только постаревшей, — он видел, как с каждым днем она все более будет смыкаться с той чопорной, ограниченной средой, в которой она расцвела. В его ушах все еще раздавались самодовольные нравоучения Роберта и яростные выкрики Эдит, и он знал, что именно этого он не потерпит в Шейле. Все кончено. Шейлы больше нет!
И при мысли о непоправимом нахлынули образы: гладкая, как слоновая кость, кожа у нее за ушами, дрожащий кончик ее подбородка, когда она подняла к нему лицо и он в первый раз поцеловал ее, и ее тонкие руки… Сердце у него в груди колотилось, словно крикетный мяч, скачущий по неровной площадке; он вздрогнул, и так сильно, что его шатнуло и он ударился о каменную изгородь сада какого-то преуспевающего фермера. Грубая прочность камня словно вышибла на миг эти образы, но тотчас же перед ним замелькали новые: он увидел лицо Шейлы, бледное, просветленное, полное решимости, а за нею четкое в своем убожестве лицо ее отца, покорное, сморщенное лицо матери, злобно вздернутые выщипанные брови Эдит, и надо всем этим ненавистная телячья морда Роберта, размахивающего пухлыми кулаками.
— Не могу я жениться на Роберте! — громко, с невыразимой болью произнес Чарлз.
Стоявшие у автобусной остановки пожилая женщина и мальчик обернулись и уставились на него с нездоровым любопытством. Чарлз прибавил шагу. Скорей бы завернуть за угол и скрыться с их глаз, но, и убегая, он знал, что бежит от всего, что до этого времени было смыслом его жизни.
Все кончено. «Шейлы больше нет» и «Уют» — эти слова перекрещивались на ярко освещенном окне. Еле живой, он ухватился за медную ручку и ввалился в пивную.
— Я знаю одно, — говорил хозяин пивной, — когда он у меня работал, он ни черта не стоил.
Он говорил запальчиво, словно оспаривая чье-то неверное суждение. Его краснорожий собеседник возражал спокойно, но убежденно:
— Он может купить вас со всеми потрохами, если ему вздумается… все ваше заведение. Каждый кирпич и каждую кружку…
Хозяин, видно, начинал сердиться не на шутку. Он злобно поглядел на пустой стакан, протянутый ему Чарлзом, и нахмурился так, что его и без того низкий лоб совсем съежился.
— Я, видите ли, не хочу сказать, что на него совсем нельзя положиться, — продолжал он с таким видом, словно старался выискать хоть какие-нибудь положительные черты у вовсе никудышного человека, — не могу сказать, чтобы он стащил что-нибудь, ну, положим, деньги из кассы, или вино из погреба, или стаканы какие-нибудь, или пепельницы, — не в пример другим. Но что я знаю, то знаю, — произнес он угрожающе, перегнувшись через стойку, — он не может отличить правую руку от левой. А насчет грамоты, то едва ли он способен был написать что-нибудь, кроме своего имени. Иногда, стоя рядом с ним за стойкой, я сомневался, да разбирает ли он надписи на бутылках? Спрашивают, положим, «Двойной алмаз», и хорошо еще, если он не нацедит им «Гиннеса».
Чарлз, который терпеливо стоял у стойки, стараясь не думать ни о чем, кроме трех уже поглощенных пинт пива и о четвертой, которую он тщетно старался получить, вдруг пробудился к жизни при слове «Гиннес».
— Нет, благодарю! «Гиннеса» не надо, — сказал он поспешно. — Мне все того же.
Хозяин, не обращая на Чарлза никакого внимания, лег животом на стойку, злорадно усмехнулся в лицо краснорожему. Он-то воображал, что ведет спокойный спор.
— Да он недотепа, — выставил он последний довод.
Но краснорожий по-прежнему твердил:
— Пожелай он только, и он мог бы купить все ваше заведение.
Хозяин, позеленев от злости, нажал на рукоятку пивного сифона и пустил в кружку Чарлза сильную струю пенистой жидкости.
— Я знаю двух парней, которые работают у него, — пользуясь паузой, продолжал краснорожий. — Шесть фунтов десять шиллингов в неделю и двойная плата в субботние вечера… конечно, по желанию.
Хозяин угрюмо подвинул кружку и смахнул шиллинг Чарлза под стойку.
— Он этого добился контрактами, — сказал краснорожий. — Все дело в контрактах. Он отправляется в какое-нибудь большое учреждение или, скажем, отель и берет подряд на мытье окон. А потом каждые три месяца, знай, посылает им счета.
— Счета! — взорвался хозяин. — Да когда он работал у меня, я бы ему не доверил получить и медяка за полпинты пива. Бывало, как только прослышат, что он за стойкой, так и соберется к нам шпана со всей округи, знают, черти, что он считать не умеет. Закажут пять кружек, а платят за три. А как стал работать на себя, — хозяин произнес эти слова так, словно выбранился, — теперь, оказывается, он может посылать счета по всей форме. И, конечно, без ошибок.
— Ну, не сказал бы, — ввернул краснорожий. — Думаю, что он порядком присчитывает. — И он засмеялся, восхищенный собственным остроумием.
Чарлз поставил пустую кружку и зашел в уборную. Когда он вернулся, говорили уже о другом; очевидно, хозяина не так уж волновала судьба разбогатевшего невежды. То, что казалось крайним проявлением гнева, на самом деле было только манерой разговаривать, должно быть недешево обходившейся фирмам, пиво которых он продавал в своем заведении.
— Повторить? — сердито буркнул он, когда Чарлз вернулся к стойке.
— Нет, виски, пожалуйста, — ответил Чарлз, потому что сейчас ему больше всего на свете хотелось напиться, а в кармане у него оставалось только шесть шиллингов. Может быть, если он смешает напитки, денег хватит. После виски можно будет взять джину, а зятем, если останутся деньги, доканать себя стаканом портера.
До сих пор их в пивной было только трое, но теперь начал подходить народ. За какие-нибудь десять минут здесь появилось с полдесятка еще не старых, здоровенных бабищ, по-видимому постоянных посетительниц, и они начали свое обычное вечернее бдение за кружкой пива и нескончаемыми пересудами. Совершенно случайно Чарлз оказался в самом центре сдвинутых полукругом стульев, их стульев, закрепленных за ними привычкой, и женщины перекрестным огнем многозначительных взглядов и недвусмысленных замечаний попытались выжить его. Но смесь виски и пива, выпитых на голодный желудок, уже начинала производить свое действие, и он сидел с полузакрытыми глазами, почти не ощущая ни их рассерженных взглядов, ни замечаний по своему адресу. Перед ним мелькали расплывчатые очертания хозяина, обтиравшего тряпкой стойку, и вдруг в тумане своего опьянения Чарлз увидел себя, протирающего не стойку, а окно.
«Берет подряд на мытье окон. Каждые три месяца посылает счета».
Женщины бесцеремонно переговаривались через его голову; обрывки их болтовни перемешивались в его мозгу с назойливо всплывавшими фразами.
— Ну я и говорю: если хотите знать, почему он не в школе, подите на задворки…
«Может купить вас со всеми потрохами».
— …и посмотрите, что он написал на стене сарая, говорю я…
«Двое парней работают у него. И двойная плата в субботние вечера».
— Ну где еще мог он услышать подобные слова? — говорю я. — Неприличные, грязные слова. Если такому у вас обучают…
«Он недотепа. Когда он у меня работал, он ни черта не стоил».
— Надеюсь, вы не хотите сказать, говорю я ему, что он слышит подобные слова д о м а.
«Думаю, он порядком присчитывает… Каждый кирпичик, каждую кружку…»
— А какое мне дело, что вы школьный инспектор, говорю я ему.
В верхнем кармане у Чарлза была пачка с последней сигаретой. Он осторожно вытащил ее, но она согнулась, и гильза лопнула. Чарлз раскурил ее; прикрывая пальцем разорванное место, и глубоко затянулся. Горячая волна алкоголя, поднимаясь из желудка, столкнулась с никотином, застрявшим в легких, бремя вины и усталости скатилось с его плеч, и он с благодарностью воздал немую хвалу двум божествам мира сего.
Но, лишь только прояснилось его сознание, он почувствовал окружавший его холодок неприязни. Смущенный и даже испуганный, он вскочил со своего табурета и постарался смешаться с толпившимися возле стойки посетителями. Хозяин и две его дочери проворно наполняли кружки и получали деньги, но ему казалось, что его они никогда не обслужат. Несколько раз он пытался приблизиться к стойке, пережидая при этом всех устоявших перед ним, но, лишь только он открывал рот, его тут же оттесняли. Минут через двадцать все возбуждение от виски и сигареты испарилось, и он чувствовал только усталость, — попробуй-ка постоять так долго, почти не евши с утра. Решительным жестом он протянул свой стакан и постучал им о прилавок.
— Пожалуйста, джину, — пронзительно крикнул он.
— Четыре горького, одну «Гиннес», три булочки, и еще Марта просит пачку сигарет, своих обычных, — рявкнул над самым его ухом какой-то плотный мужчина.
— Позвольте, — огрызнулся на него Чарлз, — я пришел сюда гораздо раньше вас.
Мужчина холодно посмотрел на него, но не успел ответить: заказ его полностью, вместе с пачкой сигарет был ему подан на подносе; торопливо отсчитав следуемую сумму, он скрылся в толпе.
Чарлза словно окунуло на самое дно Атлантики, такое он почувствовал унижение. Даже для его рассудка, притуплённого усталостью и огорчением, было ясно, почему ему ничего не удается. Заведение это, или по крайней мере этот зал, было облюбовано простым людом, и его посетители были грубы, угловаты — сама жизнь снабдила их одними острыми углами. А у него углы, наоборот, были стесаны, сглажены и семейной средой и университетом. С пеленок его приучали не повышать голос, не выделяться, уступать другим. И вот результат! Его воспитывали в расчете на более благополучные времена, а обстоятельства ввергли его в джунгли пятидесятых годов нашего века. Улей был полон ос, все до единого — рабочие, и все совершенно одинаковые, но он, ничем другим не отличаясь от них, лишен был их жала.
— Эй, вы, освободите место, коли вас обслужили! — заорал ему хозяин, перегибаясь через стойку со своим обычным задиристым видом.
— Никто меня не обслужил! — взвизгнул Чарлз, взрываясь от ярости. — Один джин и стакан портера!
Все вокруг замолчали и обернулись; взглянув на Чарлза, они затем с безразличным видом возвратились к прерванным разговорам. Этим они еще раз показали ему то, что было для него жизненно важно: для них он чужак, пленник своего класса, и, отбившись от своих, он обречен на одиночное заключение. А в то же время он ненавидел людей своей среды: Роберта Тарклза, Джорджа Хатчинса, Локвуда. Чарлз проглотил джин и тотчас же принялся за портер. Долгое ожидание у стойки немного протрезвило его, и теперь, чтобы добиться облегчения, необходимо было поскорее смешать напитки.
И облегчение пришло. По мере того как за джином до желудка доходили медленные глотки портера, все до этого выпитое им пробудилось. Один за другим наступали знакомые признаки приближавшегося опьянения. Язык его одеревенел и, судорожно прижатый к нижним передним зубам, весь словно окутался ватой. Когда Чарлз поглядел вдоль светящейся огнями пивной, все начало слегка колыхаться. А три электрические лампы на потолке, мерцавшие в клубах дыма, закружились в медленном танце.
— Нет у тебя огоньку, приятель? — прохрипел кто-то сзади.
Прежде чем ответить, Чарлз поднял стакан и неторопливо вылил остаток портера прямо в глотку. Когда эта последняя волна, пенясь, сплеснулась с пляшущей крутовертью всех прежних стаканов, для него наконец наступило полное освобождение. Трезвым он сейчас же обернулся бы, спеша услужить, снискать расположение; он потянулся бы за спичками и, вероятно, расплескал бы при этом свой стакан. Но теперь он был спокоен, дерзок и способен был жить на том же уровне, что и большинство окружавших его собутыльников.
— Огоньку, приятель, — раздался все тот же хрип, и без всякой укоризны: ну что стоило обождать тридцать секунд! Чарлз осторожно обернулся, изо всех сил стараясь сосредоточить внимание на то раздувавшемся, то съеживающемся лице. Не произнеся ни слова, он вытащил коробок и с величайшей тщательностью стал доставать спички. Он держал их вверх дном, и все спички высыпались на пол. Чарлз нагнулся, чтобы подобрать их, и сильно стукнулся о чьи-то ноги. Человек пошатнулся и крепко выругался, но Чарлз, и не думая извиняться, упорно собирал спички. То ли они действительно плавали в луже пролитого пива, то ли кружились, извиваясь в его расстроенном воображении, но только прошло немало времени, прежде чем он собрал их все до единой и аккуратно уложил в коробок головками в одну сторону. Распрямившись, Чарлз повернулся к человеку, просившему огонька, и теперь лицо его больше не расплывалось и не съеживалось, но попеременно то приближалось, то отступало куда-то вдаль. Он снова открыл коробок и, достав спичку, чиркнул ею и протянул. Но в это мгновение лицо, только что вплотную придвинутое, стремительно уплыло куда-то в пространство. Недовольно буркнув, Чарлз рывком сунул ему зажженную спичку.
Тотчас же лицо перестало быть лицом и превратилось в багровую маску ярости с двумя горящими глазами. Спичка, ткнувшись в вислые усы, зашипела, пламя лизнуло ноздри, и человек отшатнулся, грубо выругавшись от боли и злости. Чарлз тоже отступил, испуганный этим неожиданным криком. Но теперь теснота в пивной не допускала таких резких движений, и, когда заработали локти, пиво расплескалось во все стороны, и над гулом разговоров раздался дружный залп ругательств.
В нормальном состоянии Чарлз был бы вне себя от ужаса и стыда. Он стал причиной скандала! Он нарушил священный закон самообуздания, безропотной уступчивости, он, как говорится, проявил себя. Обычно он тотчас же забормотал бы извинения; выкрики обожженного: «Это все он! Вышвырните этого сопляка! Еще пить вздумал!» — настигли бы его уже на полпути к двери. Но теперь спасительный дурман алкоголя, придававший ему не то легкую развязность, не то яростную наглость, защитил его даже при появлении грозного хозяина. Вместо того чтобы сникнуть под градом брани, раздававшейся со всех концов бара, он благодушно поморгал в лицо хозяина — оно странным образом вращалось, то надвигаясь на него выпяченным носом, то уходя под насупленные брови, — а потом прехладнокровно повернулся на каблуках, спокойно отворил дверь и вышел туда, где его встретила теплая тишина летней ночи и сельская улица то раскрывалась, то закрывалась перед ним, словно створки большой устрицы.
Опершись о забор, он пережидал, пока она успокоится; и действительно, вскоре она улеглась и колыхалась только чуть-чуть, так, что пройти было можно. Собственно, идти было некуда; нет ни денег, ни планов, но ночь была теплая, душная, луна ярко светила, отбрасывая густые тени, и он достаточно нагрузился, чтобы не испытывать тревоги. Не твердо, но весело он принялся пробираться по какому-то проулку вдоль садовых изгородей. И на ходу мысли его разгонялись, набирая лихорадочную скорость, — этим у него всегда сопровождалось опьянение.
Действительно, Чарлз часто потешался над тем, как обычно описывают это состояние в романах. Нет, это вовсе не летаргическое состояние полупаралича; наоборот, при опьянении его мыслительные способности напоминали мотор на максимальных оборотах и с выключенными тормозами. Освобожденные от обычных оков — не только оков страха и вины и давящего гнета въевшихся в него условностей, но даже от элементарной необходимости соблюдать физическое равновесие и чувство направления, — мысли его мчались, и он способен был на быстрые и важные решения, которые ему редко приходилось пересматривать, когда возвращалась «нормальная» нерешительность. Теперь, когда он плюхнулся в густую траву, в которой усыпляюще стрекотали и копошились в лунном свете цикады, затруднения последних дней вплелись в уже полученные им жизненные уроки, и здесь, на лоне кружащейся и вздымающейся земли, для него началось врастание в новые условия.
Происходило это не по холодному расчету, потому что анализ положения мог оказаться обманчиво-простым и, вероятно, привел бы к утомительному, полуциничному повторению пройденного, к решению повернуть вспять, приспособиться, связать порванные волокна и свить из них новый кокон. Нет. Новая ясность пришла к нему как ряд четких проблесков, как быстрый поток основных запомнившихся ему переживаний. Они возникали яркими вспышками и были несложны; вот он, склоненный над книгами, слушается указаний, вносит поправки, и его без конца вводят в рамки и поучают, вот он годами протискивается бочком меж сфер чужих переживаний и чувствований. Всего один лишний шаг в любом направлении, и кто-нибудь непременно будет задет, обижен, разочарован. Его школьные наставники покачивают головами, отец возмущен и разгневан, мать то склоняет его на откровенность, то обижена его замкнутостью — и так все, вплоть до назойливых вопросов миссис Смайт и визгливых упреков Эдит; как все они топтали его душу! Бег мыслей ускорился; Чарлз перекатился на спину так, что ему стал виден посеребренный луной шпиль деревенской церкви, качавшийся в спокойном небе, как тонкая камышинка, и образы замелькали еще быстрее. Шейла наклонилась над ним, глаза ее нежно искали его глаз, но вдруг линия волос на ее лбу спустилась почти к бровям, и лицо было уже не ее, а хозяина пивной, грубое и властное. В его мозгу вдруг зашуршала, как прибрежная галька, строка из недавно прочитанного им современного поэта:
Крутясь, люблю я скудно то, что ненавижу.
Возник Джордж Хатчинс, яростно забивающий гол, а в воротах стоял Локвуд в зеленой фуфайке и кепке; через мгновение Чарлз увидел, что забивают не простой мяч, а голову Хатчинса-отца, который своим простецким говором умоляюще шепчет: «Не сердитесь, мистер Ламли. Наш Джордж так трудился, чтобы добиться успеха». Снова зазвучала стихотворная строка, но как-то вывернутая наизнанку: это было у него обычным признаком опьянения.
И, ненавидя скудно, я кручу любовь.
Чарлз вскочил и заставил себя шагать дальше. На ходу легче было думать. Думать о чем? Над вопросом, как лучше заложить первые двадцать два года жизни в основу следующих пятидесяти. Если только вообще будут эти пятьдесят: грибообразное облако, которое всегда жило в глубине его подсознания, на мгновение выдвинулось на первый план и оттеснило все остальное.
Я, ненавистник скудный, и любовь скручу.
Но как бы то ни было, а надо верить в то, что они будут. Иначе одна дорога: покончить с собой.
Вдруг выпрыгнула канава и ухватила его за ногу. Он свалился в ворох сухих листьев, который определенно стал колыхаться под ним взад и вперед. Чарлз понял, что скоро его вырвет, но мозг его оставался ясным и расторможенным. Ворох листьев навалился на него, но и в своей физической мерзости он испытывал какой-то новый порыв, какое-то освобождение. Его обременяли еще несколько выпитых пинт и, может быть, немного непереваренной пищи из его скудного завтрака. Через минуту-другую он освободится от них.
Любя, скручу я ненависть-паскуду.
Если бы ему с такой же легкостью освободиться от своего класса, своей среды, от невыносимого бремени предпосылок и усвоенных рефлексов. Он выбрался из канавы и с минуту стоял, закинув голову и уставившись в точку, вокруг которой вращалось звездное небо.
Любовь, скрути паскуду, что я ненавижу.
Почему бы здесь и не кончиться всему, чтобы, возрожденный, он вступил в мир под звуки стрекочущих цикад и собственной рвоты?
Произведения
Критика













Поділитися