Кингсли Эмис. Девушка лет двадцати
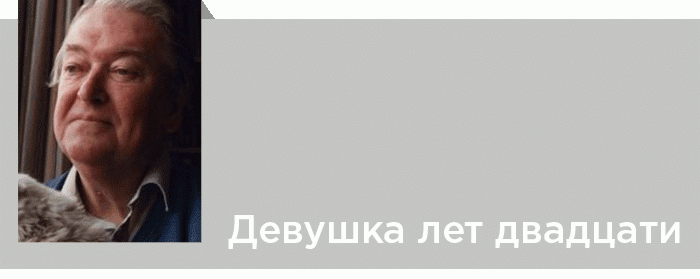
(Отрывок)
Посвящается Мери и Маку Кили
Глава 1
Империалист, расист, фашист
– Неужто этот малый и впрямь так хорош, как вы его расписываете? – спросил Гарольд Мирз.
– Вроде да. Может, и лучше. В том смысле, что пока еще трудно сказать определенно. На этой стадии нелегко оценить, насколько он…
– Вы технику его имеете в виду?
– Не только, – сказал я. – Просто… Он соображает, что играет. Сами увидите, я не…
– Разве не все музыканты соображают?
– Как правило, нет, уверяю вас!
– На то они и музыканты! – внезапно и как бы в удивлении произнес Гарольд. – Он, кажется, из Восточной Германии?
– Совершенно верно.
– Там самый отсталый, продажный и деспотичный режим на планете. Разумеется, не считая Черной Африки.
– Несомненно. Что не помешало этому Колеру сделаться классным пианистом. Могло бы, но не помешало.
– Настоятельно напоминаю вам, я не без оговорок согласился на музыкальную колонку. Теперь на концерты никто не ходит, покупают пластинки. Все домоседами заделались. Такая вот теперь у нас публика. Здесь по крайней мере. В Манчестере. В Бирмингеме. В кои-то веки материал публикуем! Сколько можно твердить, у нас не лондонская, у нас общегосударственная газета. Он еврей?
Гарольд говорил с обычной размеренностью и обычным своим тоном, при этом его кургузые ручки (с кургузыми предплечьями при кургузых же плечиках) застыли ладошками вверх на письменном столе и слабый солнечный луч покойно мерцал на его практически лысом черепе. Обычна была и манера разговора: несколько напрягать внимание и память собеседника. Одна фраза в самом деле заставила-таки меня здорово напрячься. Я и не подозревал, что у Гарольда были сомнения, когда пару месяцев тому назад он взял меня в газету музыкальным критиком, точнее, репортером музыкальной жизни. Тогда он уверял, что подобное новшество он лично задумал как первый прорыв в кампании по всеобщему подъему культурного уровня журналистики, лично отвоевав свое детище в суровой борьбе как с собственным патроном, так и с редактором текущих новостей и даже с лифтером. Глядя Гарольду в глаза в его просторном и по-современному убогом кабинете, я честно ответил на его вопрос:
– Не знаю!
– Надо ли пропагандировать всякий сброд? Например, что там раздули из истории, помните, с боливийским ансамблем песни и танца? Понаписали, как на концерт ворвались хулиганы, как их арестовывала полиция и все такое прочее, а что все-таки они играли-то? Всякую заумь вроде Телемана, или Прокофьева, или кого там еще?
– Они и Бетховена играли. Я был у этих боливийцев на репетиции; и не думаю, чтоб они в самом деле…
– Не надо в критике перебарщивать с похвалой! – Лучистый взгляд карих глаз Гарольда упал на мою рукопись, лежавшую прямо перед ним, и на мгновение показалось, будто он погрузился в чтение. – Мы не должны мешать искусство с политикой, – почти не прерываясь, продолжал он. – Это те мешают. Неужели вам не ясно, что малого пустили за границу только потому, что он верный и преданный слуга их кошмарного, возмутительного режима? Его ходячая пропаганда!
– Ясно или нет, к моим задачам это не имеет никакого отношения. Вы меня взяли, чтобы я отражал в прессе важнейшие явления музыкальной жизни, важнейшие с точки зрения музыкальных достоинств, а не всяких…
Один из телефонов Гарольда слабо затренькал, и Гарольд, подхватив трубку одной своей маленькой ручкой, другой махнул, чтобы я сел.
– Да! – произнес он фальцетом. – Да! Кто? Пусть оставит номер телефона, – и, положив трубку, сказал: – Хорошо-хорошо, но, может, все-таки не упоминать, из какой он страны?
– Просто указать, мол, немец и все?
– Вообще ничего о нем не говорить. К чему нам широко его рекламировать?
– Послушайте, Гарольд, если вы против стран Восточного блока, так и…
– Хорошо! – снова сказал он: ни раздраженно, ни с подвохом, просто без всякого выражения. – Хорошо! Не будем. Но, я считаю, надо поменьше специфических терминов. Не забывайте, пишете не для профессионалов.
– Могу я хотя бы упомянуть о смене темпа или пройтись насчет темы с вариациями, ведь это элементарно даже для…
– Идет! Звякните, как обычно, в районе полшестого в редакцию, вдруг придется слегка подсократить материал. Все! А звонили, между прочим, вам.
– Кто?
– Китти Вандер… дальше не разобрал. Не супруга ли сэра Роя Вандервейна, случаем?
– Похоже, что она.
– Должно быть, присуждение титула повлияло на него не лучшим образом. Похоже, служение музыке оборачивается прислуживанием премьер-министру.
– Что вы, Гарольд, он не такой!
– Ах да, ведь вы работали у него, верно?
– При его оркестре.
– Чудно! Ну, пока!..
В коридоре редакции я соединился по коммутатору с номером, оставленным Китти, сообразив или припомнив, что Вандервейны переехали на несколько миль к северу от Хэмпстеда, где я в последний раз навещал их год или больше тому назад, – и, по слухам, в весьма шикарный дом на окраине сельской части Хартфордшира. Примерно полминуты я пережидал гудки, потом где-то на том конце провода сняли трубку, однако привычного обращения не последовало. Вместо этого я услышал нечленораздельный вой, довольно громкий, хотя и не прямо в трубку, а также приглушенный мужской голос, утверждавший, что от этого воя можно с ума сойти. Вой слегка поутих, и последовал долгожданный вопрос:
– Алло! Да! Извините, кто говорит? – раздраженно произнес в трубку мужской голос. Судя по интонациям, принадлежавший цветному.
– Это Дуглас Йенделл. Мне звонила леди Вандервейн.
Я не удостоился ничего такого, из чего можно было бы заключить, что моя информация достигла цели; наступила пауза, вой сник до едва уловимого; наконец трубку взяла Китти:
– Дуглас, это вы?
– Я, Китти!
В этом начальном вопросе было столько стоически подавляемого надрыва, что вполне реально было ожидать его продолжением бурный всплеск типа: «Ах, слава богу, слава богу, ты жив, любовь моя, мое счастье, и, значит, я снова могу вернуться к жизни!» Однако я знал, что Китти всегда изъясняется с таким накалом, и за сим впрямь последовала всего лишь фраза, произнесенная с царственным укором, приправленным невыразимо глубокой скорбью:
– Мы не виделись целую вечность!
Возразить мне было нечего, и тут же с ходу, без всякой формалистики насчет того, какие я имею планы на остаток дня, Китти принялась подробнейше излагать, как добраться от меня до места, где находится она. Китти утверждала, что жизненно необходимо повидаться, в том смысле, что я ей очень нужен, а значит, без всяких разговоров обязан явиться как можно скорей. Что ж, может, заодно таким образом удастся повидать и Роя?
– А Рой дома? – спросил я, едва сумев вставить слово.
– Нет, его нет, сейчас нет. По правде говоря, как раз… – тут я мгновенно представил взгляд, который она горделиво бросает исподволь через плечо, – …как раз на этот счет мне необходимо с вами лично переговорить. По-моему, Дуглас, у него назревает очередное увлечение. Если уже не началось…
– Он что, сам сказал?
– Нет, я это поняла!
– Неужели снова по белью?
– Именно! Надо же, вы помните!
– Как же, как же!
Такое забудешь! Не вонючка от природы, Рой не был и каким-то отъявленным чистюлей, за исключением тех случаев, когда устремлялся или же только-только погружался в одно из своих «увлечений», как именовала Китти его любовные похождения. За годы их случившейся в 1961 году женитьбы Китти выучилась определять эту фазу по стопочке трусов в его бельевом ящике. Внезапное и мгновенное похудание этой стопочки, сопровождаемое равно внезапным шквалом назначаемых в неурочное время и вне дома интервью с иностранными журналистами, безрезультатными встречами с представителями компаний грамзаписи и т. п., являлось для нее сигналом к началу очередного «увлечения». Несколько лет назад, когда я еще служил секретарем при оркестре, постоянным дирижером которого был Рой, Китти доверилась мне. Из соображений чисто мужской солидарности я походя намекнул тогда Рою про такой его явный прокол, о чем, видимо, он, в отличие от меня, уже успел позабыть. А может, не забыл? Разве такое забывают?
Слушая и отвечая Китти, я обдумывал свое положение. Как раз полдень. Я планировал прогуляться до Флит-стрит, пропустить в «Эль вино» пару стаканов пива под бутерброды с копченой лососинкой, затем приятно провести дневные часы у себя дома, прослушивая новые записи, на которые предстояло написать рецензию в журнал «Проигрыватель», потом не поздно поужинать в «Бьяджи» и, наконец, посетить на южном берегу довольно рядовой концерт из произведений Баха и Генделя. И еще, как всегда, вернуться (а может, и нет) к работе над своей монографией о Вебере, чтобы вырваться наконец за пределы главы «Юные годы». Однако ощутимого внутреннего сопротивления призыву Китти я не испытывал. Странно, но я всегда оказывался уступчив перед мощным давлением проблем Вандервейнов, хотя в данный момент что-то подсказывало мне не вмешиваться. Расспрашивать Китти по телефону, чем ей помочь, повлекло бы за собой кучу беспрерывных, еще минут на двадцать, патетических недомолвок. Я сказал, что приеду немедленно, поинтересовавшись из чистого любопытства:
– Откуда вы узнали, где я сейчас работаю?
– Ах, это Гилберт! В таких делах он просто чудо!
– Кто такой Гилберт?
– Сами увидите.
Я уж было повернулся уходить, но редактор текущих новостей, толстяк Коутс, спросил, заходясь отчаянным кашлем:
– Что босс?
– Будто ты не знаешь?
– Знаю-знаю! Просто интересно твое мнение. Немного подумав, я сказал:
– Как бы ты назвал мастера от всего отмахиваться и ни в ком не видеть ничего хорошего?
– Я бы сказал: дерьмецо, но я-то мужик простой! Он что, колонку твою снял?
– Пока не снял. Снова в политику ударился.
Коутс сделал затяжку и жестоко закашлялся. Казалось, толстяк не уловил никакой связи между двумя вышеуказанными действиями. Откашлявшись, он сказал:
– Слабо из греческих полковников сваять симфонический оркестр и с этим заявиться? Тут бы ему и крышка! Увидимся на будущей неделе, если я доживу.
Проехавшись по Стрэнду на автобусе номер одиннадцать, я сел в метро на поезд в направлении Норт-Вестерн. Когда поезд грохоча выбрался из тоннеля позади Голдерс-Грин и апрельское, теперь более щедрое солнышко принялось высвечивать наугад убегавшие назад деревья и кусты, а также временные на вид постройки, я погрузился в размышления по поводу увлечений Роя.
Их нынешний цикл начался, должно быть, года через четыре после его женитьбы, которая тоже в свою очередь была результатом застоявшегося увлечения, так как последовала за разводом Роя с его первой женой. Когда мы в последний раз виделись с Китти, она говорила, что дела у них все хуже и хуже, в том смысле, что девицы у Роя с каждым разом все моложе и чудовищней, а Рой с каждым разом увязает все глубже и глубже, и я чувствовал, что так оно и есть. В ту пору Рой как раз только что возвратился домой, весь уикенд – впервые за второе супружество – проведя с некой особой, назвавшейся актрисой и певицей, хотя никто и никогда не видел и не слышал ее ни в одном из названных качеств. Китти утверждала, будто живет в жутком страхе, что Рой буквально в любой момент может уйти, причем насовсем, и что пребывает в полном отчаянии, чему бы я с готовностью поверил, не имей она обыкновения представлять все свои проблемы в виде нагромождения кошмаров и не повергай ее каждый раз в прострацию запаздывание женщины, прибирающей в доме. И все же, мне кажется, я понимал переживания Китти в ее сорок шесть или сорок семь и никак не мог понять, почему Рой, дожив почти до пятидесяти четырех (через неделю он станет старше меня ровно на двадцать лет), с каждым годом впадает во все большую дурь, так что на его примере сложно утверждать, будто с возрастом люди становятся мудрее.
Поезд остановился у дальнего конца платформы, я сошел в числе других немногочисленных пассажиров. Следуя указаниям Китти, позвонил из автомата у входа на станцию и доложился, теперь уже женскому (хотя, может, и не женскому) голосу, что прибыл. Мне было велено направиться вперед по шоссе и идти, пока меня не подхватит автомобиль. На вопрос, как я выгляжу внешне, я вполне честно сообщил, что ростом шесть футов, рыжий и в очках. И пошел, сперва круто вверх, затем вниз по сельскому шоссе, миновал садик с искусственным водоемом, на глади которого колыхалось множество раскрашенных гипсовых уток.
Но вот показался огромный, блиставший хромом автомобиль и, поравнявшись со мной, резко притормозил. За рулем сидел молодой чернокожий в строгом черном костюме, белой рубашке и при галстуке, и в тот же миг меня осенило, что это и есть Гилберт и что это его голос отвечал мне по телефону. Я уселся на сиденье рядом с ним. Не удостоив меня взглядом и не ответив на мое приветствие, чернокожий водитель развернул машину и стремительно газанул с места.
– Какой прекрасный автомобиль! – сказал я. – Ваш?
– Полагаете, тупой черномазый может заработать на эдакий символ благосостояния?
– Раз уж вы сами обмолвились, не скрою, было б удивительно.
– Это автомобиль Роя, если вам угодно.
– У него превосходный вкус!
Мы свернули в сторону, поднялись по пологому холму и влились в магистраль, по одну сторону которой сначала живописно тянулся лес, потом выгон, а по другую изредка мелькали большие виллы.
– Откуда вы? – полюбопытствовал я.
– Из Лондона.
– Ах вот как!
– Вам не все равно?
Посреди выгона возник пруд, на сей раз настоящий, и машина свернула с шоссе к внушительного вида дому с гипсовыми вазонами и огромными кустами рододендронов перед ним. Помнится, Рой говорил, что купил этот дом за одну свою песню: ну да, как же, ораторию – для смешанного хора, большого симфонического оркестра и органа. В этот момент я обнаружил, что автомобиль стоит перед деревянными, выкрашенными голубой краской воротами, а мой попутчик сидит рядом, не двигаясь с места.
– Вы хотите, чтобы я открыл ворота?
– Если, конечно, не боитесь замарать свои нежные пальчики.
– Рискну!
Я открыл ворота и вступил на мощеный двор, обрамленный деревцами весьма заморенного и худосочного вида. Едва я сделал шаг, как по дому разнесся дикий лай, временами перемежающийся каким-то захлебывающимся скрежетом. Я узнал голос Пышки-Кубышки, принадлежавшей Вандервейнам рыжей суки кавалер-спаниеля. Мне всегда казалось несколько странным, что человек с такими политическими взглядами, как Рой, может терпеть рядом с собой, больше того, именно обожать такое реакционное существо в собачьем обличье: деспотичное, чувствительное к иерархии, высокомерное, утверждающее приоритет семьи, заведенный порядок, презирающее перемены, отстаивающее неприкосновенность собственности, а также, как я вскоре обнаружил, непреложность расовых барьеров.
Непосредственный объект последнего из предрассудков стремительно въехал во двор и резко остановился, словно перед невидимой рытвиной на своем пути. Хлопнул дверцей, подошел ко мне и сказал:
– Вы – империалист, расист и фашист!
– Помилуйте, с чего вы взяли?
Последовало упоминание о моей работе в газете, редакцию которой я не так давно покинул.
– Ну и что из этого?
– Это рассадник крайне расистских и колониалистских взглядов!
– Пусть так, но я же не штатный сотрудник, просто регулярно пишу для газеты. А называть колониалистской музыку, это уж что-то…
– Пока вы работаете на эту газету, знайте, иначе, как фашистом и всем отсюда вытекающим, вас никто и не назовет!
– Что ж, придется с этим смириться!
Несмотря на вышепроизнесенное, пока тон Гилберта был на удивление далек от враждебности. В особенности последнее замечание, казалось, содержало чисто назидательный подтекст. Но внезапно в выражении его лица, на мой взгляд в чем-то более европейского, чем африканского, а также в его тоне, в целом дружелюбном, послышался вызов:
– Неужели вас вовсе не уязвляет, что вас назвали фашистом?
– Нисколько! Пусть зовут хоть коммунистом, хоть буржуа, хоть кем угодно. Видите ли, мне на все это совершенно наплевать.
Гилберт уставился на меня, явно обескураженный:
– Так ведь это же главные темы нашего времени!
– Вы хотите сказать, вашего времени! Основные темы моего – мои собственные интересы, преимущественно из сферы музыки. Не пора ли нам войти в дом?
В сопровождении притихшего, с побитым видом Гилберта я прошел через застекленную веранду недавней пристройки со свалкой поношенных старых пальто, старой вешалкой на одной ноге и множеством пустых бутылок из-под вина и виски. Дверь выводила в коридор. Открылись ближняя и дальняя лестницы, а также прибитая к стенке пустая плексигласовая коробка с наклейкой «Фонд в помощь антиапартеиду». Сперва возвещая о себе, а затем сопровождая свое появление истошным лаем и рычанием, из-за угла, цокая коготками, явилась Пышка-Кубышка и завертелась под ногами. Склонившись к ней, я отметил, что с момента нашей последней встречи она еще более разрослась в пышку-кубышку (только с приросточками сосков). Псина то ли признала меня, то ли сочла, что я, по ее представлениям, свой, ибо, оборотившись на Гилберта, слегка рыкнула. Я мог бы заверить его, что, как бы собака свирепо ни лаяла, она в жизни никого не укусит, однако на Гилберта, несомненно, все еще шарахнутого моими откровениями, казалось, ее рык произвел устрашающее воздействие. В этот момент появилась Китти и, поздоровавшись со мной, более или менее незамедлительно собаку прогнала. Мы прошли в гостиную с огромным, во всю стену, окном в глубине и с роскошным старым концертным творением Швандера, «Блютнером», – чуть правее центра. На диване сидели, беседуя, молодой человек с девушкой. Юноша взглянул на меня, дернул головой то ли в приветствии, то ли подавляя отрыжку, отвел взгляд, и лишь тогда я узнал в нем Кристофера, двадцатилетнего сынка Роя. Девушка в платье – я бы даже не сказал «как у», именно «в платье» – гувернантки времен королевы Виктории и головы не подняла.
– Узнаешь, Кристофер, – это Дуглас Йенделл! – сказала Китти. – Дуглас, познакомьтесь – Рут Эриксон.
Молодой человек явно – на сей раз уж вне всякого сомнения – кивнул. Молодая особа глянула на него, потом на меня, снова на него в каком-то заторможенном испуге. Лицо Китти выразило немой призыв ко мне не судить о молодежи слишком строго по первому взгляду.
– Привет! – сказал я. – Как тебе Нортэмптон? Я намекал на тамошний университет, вдохновляясь своей попыткой блеснуть памятью.
– Да ну, обычное дерьмо! Ничего особенного.
– Что изучаешь?
– Я? Социологию, политику, экономику и социологию… антропологию то есть.
– Ага! Звучит впечатляюще и, гм, масштабно! – Я силился не допустить старческого дребезжания в голосе, чего эта парочка, несомненно, от меня ждала. – Вы тоже там учитесь?
– Нет! – отрезал Кристофер на вопрос, который я адресовал Рут.
– Ах так!
– Дорогой, – вставила Китти, улыбаясь и моргая, – если хочешь успеть показать Рут до обеда наш сад, тебе следует поторопиться!
– Угу, потороплюсь!
И эти двое возобновили свой еле слышный разговор. Китти потащила меня к окну, откуда открывался вид на скользящие вниз лужайки, на залитую солнцем кирпичную изгородь с деревьями вдоль нее и дальше – на огромные деревья, кедры всяких разновидностей. Совсем вдалеке крыши домов городка довольно скорбно проглядывали над верхушками дальних деревьев. В ближайшем поле зрения повсюду валялись детали для игры в крокет.
– А Гилберт где? – бросил я небрежно.
– Знаете, на самом деле он совсем не такой, каким кажется, – сказала Китти, подтверждая истину, что не всем эгоистам свойственно отсутствие наблюдательности. – Он считает, что вести себя надо только вызывающе. Иначе его запрезирают друзья. Скорее даже белые, чем черные. Он ужасно милый, стоит узнать его поближе.
– Это приятно!
– Он, должно быть, вернулся наверх к Пенни и Эшли. Они изумительно ладят.
Я исключительно зримо представил себе Пенни, старшую дочь Роя от первого брака; скажем прямо, если бы я обладал хоть малейшим даром рисовать, я смог бы в тот миг сделать легкий набросок внешнего очертания ее грудок, которые как-то раз безуспешно попытался потискать в такси в промежутке между концертом Роя и приемом в Хэмпстеде. Насчет Эшли дело обстояло совсем иначе; то было относительно недавнее произведение Роя и Китти, его я видел мельком всего однажды и успел совершенно позабыть, какой он из себя. Что и попытался скрыть.
– Ему, э-э-э, сейчас, должно быть, года четыре?
– На днях исполнилось шесть!
Взгляд, брошенный Китти на меня, отразил сложные чувства, и трудно было понять, относится она к своему единственному отпрыску со смесью гордости и рабской признательности или же с чувством вины и страха. Тут она не без энтузиазма предложила:
– Не хотите ли осмотреть дом?
– Может, после? – рискнул я с надеждой избежать этого испытания. – Хотя… гм, внешне он просто великолепен. Должно быть, недешево вести такое хозяйство?
– Мы управляемся. Знаете, Дуглас, Рой просто кошмарно много сейчас зарабатывает. Он поистине достиг вершин. Ну, разумеется, уже многие и многие годы он пользовался уважением в музыкальном мире, но сегодня сделался фигурой государственной важности, по высшему счету. Причем не снизив своих художественных критериев.
Тут юная пара с дивана, видимо решив, что они выдержали достаточно времени, чтоб не показалось, будто ушли, едва их попросили, встала и удалилась. Китти немедленно метнула на меня пронзительно многозначительный взгляд, но, так же быстро погасив его, заметила, что неплохо бы выпить. Когда я запротестовал, умоляющим голосом заверила: чтобы выложить все, что накипело, ей просто необходимо чего-нибудь выпить, а пить одна она не может, или не должна, или не будет, или что-то в этом роде. Я заикнулся насчет пива, и Китти вышла.
Мне было приятно видеть и слышать, что у Роя все обстоит прекрасно. Он того заслуживал, особенно в «музыкальном мире», где так редко можно заработать себе даже на ежедневное пропитание. Более сомнительным представлялось то, что этот мир когда-либо питал к нему уважение, однако Роя неизменно, хоть и со скрипом, признавали добросовестным профессионалом. Ему удавалось и со средненьким оркестром добиться большего исполнительского блеска, чем иным дирижерам, превосходившим его в смысле музыкальности, и все за счет собственного обаяния, а может, и за счет определенной толики добродушной ругани во время репетиций, подпаивания активистов, а также всяких прочих хитростей. Его так и не получившая должного признания карьера в качестве скрипача-солиста оборвалась рановато, хотя не слишком давно он предпринимал достойные похвал выступления, исполнял Моцарта или Вивальди на благотворительных и тому подобных сборищах. Кроме того, Рой был, а может, и остался, как утверждали злые языки, композитором околорахманиновской ориентации, хотя, на мой взгляд, подобная локализация отнюдь не зазорна. Его собственные произведения исполнялись не часто, если не считать Nocturne, сладковатого, из ранних, опуса для скрипки, струнного оркестра и ксилофона, а также двух-трех новинок того же, если не более раннего периода. Где-то году в 1950-м Nocturne перевоплотился в популярную песню, а совсем недавно обрел новую жизнь, если не сказать тягучее бытие, преобразившись в досадно отличную от популярной – в поп-песню. И в качестве последней, должно быть, немало содействовал увеличению суммы заработка Роя до устрашающих размеров.
В пору нашего наиболее тесного знакомства Рой как раз пытался предстать композитором, причем самого серьезного толка. Но уже тогда было очевидно, что по времени он чуть-чуть запоздал с демонстрацией вершин своего вкуса и таланта. Кое-кто считал, что Вандервейн отлично бы вписался – и, как мне всегда казалось, не просто благодаря имени – в эпоху, когда композиторы в Англии имели преимущественно неанглийские фамилии: Делиус, Хольст, Ван Дирен, Мэран, Руббра. Однако Рой возродил к жизни добрую половину музыкантов следующего поколения, но опять-таки характернейшим для себя образом не смог полностью вписаться и в него по причине англизации своей фамилии, произведенной его дедом ван дер Вейном по прибытии в Англию из Роттердама столетие назад. (Иногда Рой горячо отстаивал англизацию своего имени, порой огорчался и грозился все восстановить, – все зависело только от его настроя, вовсе не от того, как воспринимали или не воспринимали его соотечественники.)
Не успел я пуститься в мысленные рассуждения насчет нынешнего уровня художественных критериев Роя, как вернулась Китти, неся мне пиво, а себе бокал, содержимое которого по виду напоминало разбавленный на глазок джин. При ближайшем рассмотрении Китти показалась мне слегка сдавшей со дня нашей последней встречи, несмотря на то что еще оставалась привлекательной в своей румяной, не в моем вкусе, упитанности. Наверное, она была просто измотана и взвинчена – взвинчена гораздо сильнее и круче, чем обычно. Поношенная линялая ковбойка и грязноватые джинсы – на той, кому к завтраку надлежало разряжаться не иначе как Марии Стюарт, – свидетельствовали о тяжелом моральном состоянии их обладательницы. А сухость истончившейся кожи в уголках глаз говорила уже о процессе необратимом.
Мы уселись рядышком на диване, освободившемся после ухода Кристофера и бессловесной особы женского пола. Подавшись ко мне, втянув голову в плечи и, как боксер в низкой защитной стойке, выставив вперед кулак со сжатым в нем стаканом и сигаретой меж пальцев, Китти начала рассказ:
– После вашего звонка я просмотрела трусы на полке. Их оказалось определенно на три пары меньше, чем в конце недели. Но что меня крайне ужасает, так это открытость, с которой все делается. Ведь он знает, что на мне стирка и все такое прочее. Должен же он понимать… Он даже как бы не прочь, чтобы я знала! Хочет, чтобы я знала. Бравирует этим. Буквально перед носом моим размахивает! Демонстрирует, до какой степени меня ненавидит! – выкрикивала она еле слышно, подтверждая в привычных для нее красках уже зародившееся у меня предположение.
– Не думаю! Он поступает так без всякой задней мысли…
– Почему же тогда не купит пару трусов и не переоденется где-нибудь? Нет, вы ответьте… ответьте! – угрожающе наседала на меня Китти. – Что ему мешает купить в магазине пару новых и надеть, скажем, в своем клубе? Ну, скажите, что?
– Китти, я не знаю! Просто ему это не приходит в голову. Его это не заботит.
– Господи, как бы мне узнать, кто она! Или нет, не надо. Особенно после той художницы-ювелирши!
– А что, у него еще и художница-ювелирша была?
– Специалистка по поясам, браслетам и всяким этим штучкам. Да вы, должно быть, слыхали. Он возил ее в Глайндборн, в Ковент-Гарден, в Олдборо,[1] повсюду. Это-то меня и спасло. У них уже все было готово, чтобы ехать в Байрейт,[2] а она только под конец узнала, что это за место.
– В каком смысле?
– Про Байрейт. Что это Вагнер! Опера! Музыка! Клянусь, Дуглас!
– Сочувствую. Где же он сейчас?
– Спросите что-нибудь полегче! – И Китти продолжала, изображая интонацией курсив, зримо помечая кавычки, жирный шрифт и заглавные буквы: – На каком-то деловом обеде, сам не знает где, ведь и тот, с кем он обедает, этого точно не знает, и имя его Рой не помнит, потому что как-то сложно произносится, но у этого непонятно кого есть кое-какие соображения по поводу предстоящего турне в Бразилию, которые Рою кажутся, наверное, даже наверняка, малостоящими, но все равно надо же выслушать человека, да к тому же тот платит за обед, который неизвестно сколько продлится, и так далее…
– Ясно. Похоже, что и в самом деле…
– Я не против, чтоб Рой иногда имел увлечения. Наверное, это ему необходимо. Или он думает, что необходимо. Ведь не он же девиц тащит в постель.
– Не он? – как и положено, переспросил я.
– То есть да, разумеется, он тоже… В общем, хоть для меня все это – ножом по сердцу, я сумею с этим примириться. Но что меня повергает в кромешный ужас, так это мысль, что он уйдет совсем!
– Но сейчас, конечно же, ничто этого не предвещает? Этот ужин, разговор о Бразилии. Он действует в высшей степени не нарочито. Во всяком случае, пытается действовать. Не похоже, будто собирается в очередной раз в Байрейт…
– Это все впереди! Ах, дорогой Дуглас, я знаю все наперед! Видите ли, я сама через это прошла. Изучила по собственному опыту.
– Он и вас возил в Байрейт?
– Вроде того. Словом, я с ним поехала. Это была моя победа. После первой его жены я оказалась лучшей слушательницей его рассказов о музыке. Так явственно помню: он наигрывает на рояле всякие фрагменты, потом это прослушивается в записи. А когда он брал меня с собой на концерт, я узнавала знакомые темы и репризы, ну и так далее… Впрочем, почему бы мне не помнить? Ведь прошло всего-навсего лет десять.
Глаза Китти наполнились слезами, хотя такое с ней случалось частенько. Неужели Рой и в самом деле женился на ней потому, что она умела слушать?
– Скажите, Китти, вам и в самом деле это нравится? Музыка, я хочу сказать…
– А как же, конечно! – официально-сдержанно отозвалась она. – Я обожаю музыку. Всегда обожала.
– Ну и… Скажите, вы что-нибудь знаете об этой новой девице? Сколько ей лет?
– Ничего я о ней не знаю, только в последние годы у него стали появляться двадцати-двадцатидвухлетние. С годами они все юнее. Похоже, с каждым его лишним десятком будут становиться вдвое моложе прежнего. Когда ему стукнет семьдесят три, начнет заглядываться на десятилетних.
Прикинув в уме, я отметил, что, пожалуй, последнее наблюдение Китти при определенных посылках верно. Мне показалось невероятным, чтобы человек, способный поставить именно эти посылки во главу угла и затем подвести их к соответствующему «логическому» выводу, мог (что в случае с Китти было очевидно) представлять себе финал исключительно в трагических и неприглядных тонах.
– И когда стукнет восемьдесят три – на пятилетних? – испытующе поинтересовался я.
– Вот именно! – согласилась она, обрадованная, что я внемлю ее логике.
Продолжать я не стал.
– Собственно, я говорю, если ему нужна ученица, не там ищет. Это поколение совершенно музыкой не интересуется. За исключением чересчур пресных любительниц лошадей, а также строчить по списку открытки к Рождеству. За нынешними молодыми Рою не угнаться.
– Возможно, в его возрасте учить музыке не так уж важно, – сказала Китти и как бы походя спросила: – Скажите, поп – это музыка?
– Нет! Так все-таки, чем я могу помочь? Я готов, но не совсем себе…
– Милый, милый Дуглас! Первым делом разузнайте, кто она такая и…
– Но ведь вы сказали…
– …и насколько далеко это у них зашло, а потом мы сможем наметить кое-какой план действий.
– Но это же шпионаж! А что за план?
– Я не против, чтобы вы сказали Рою, что я просила вас переговорить с ним об этому. Убеждена, вы сделаете все возможное, чтобы его образумить, разве вы не согласны, что глупо ему кидаться на прыщавую дикарку-малолетку? Ведь это же просто преступление, это так ужасно для всех: для меня, для детей и, разумеется, будет для него самого, когда она ему надоест, и еще, например, для молоденького виолончелиста, в ком он принимает такое участие, для стольких людей, которые находятся на его попечении, для всех, по отношению к кому у него есть обязательства…
Ну да, до кучи – и для этих, которые ведут переговоры начет разоружения!
– Наверное, вы правы. То есть, конечно же, правы; я тоже так считаю. И все же не вижу, как могу я или вообще кто-либо остановить его, если он решил.
– Но если вы что-то этакое разузнаете, чтобы в конце концов можно было…
Из глубин верхнего этажа послышался, быстро нарастая, какой-то беспокойный гул, слагавшийся из бессловесного, уже слышанного мною в телефонной трубке воя, громкого, захлебывающегося скрежетом лая Пышки-Кубышки, раздраженных реплик Гилберта, какого-то четвертого голоса, а также топота многочисленных ног. Китти вскочила, на несколько мгновений приняв облик жертвы грядущего артобстрела, затем переместилась на, похоже, заранее подготовленные позиции. И тут в комнату, все громче и визгливей заходясь ревом, ворвался мальчишка в ладненьком бархатном костюмчике бутылочно-зеленого цвета и уткнулся к ней в колени: насколько я понял, то был Эшли Вандервейн. Следом за ним явился Гилберт с последующей перебранкой. В процессе выяснилось, что Эшли удирал от Гилберта всего-навсего затем, чтобы заручиться поддержкой матери в отстаивании за собой чего-то – то ли одиннадцатого за день шоколадного батончика, то ли бутылки с соляной кислотой, – чему гнусно противился Гилберт.
Но особо в суть я не вникал, так как мое внимание было целиком приковано к Пенни Вандервейн, также представшей в общей группе, – и главным образом к ее груди, обозреть которую особого труда не составляло, в том смысле, что она хорошо просматривалась в глубоком V-образном вырезе темно-коричневой, с пестрым шотландским рисунком кофточки, или рубашки, или, может, даже пижамной блузы. Грудь Пенни поражала не столько своей величиной, сколько своей чрезвычайной выпуклостью, и еще тем, что торчала высоко и была какая-то монолитная, так что, казалось, ткни ее пальцем, и упрешься во что-то жесткое, как в коленку. Именно так: грудки ее походили на пару коленок изумительной формы, обтянутых новенькой первоклассной нежнейшей кожей. Теперь я отметил, что крепились они на довольно высокой, с длинными руками и ногами фигурке, увенчиваемой аккуратно подстриженной головкой с личиком, поражавшим глазами удивительной широты и голубизны.
Последние скользнули в ответ на мой пристальный взгляд, на мгновение задержались на мне, не отражая ни малейшего узнавания и даже с меньшим любопытством, чем пассажир в лифте уделяет своему попутчику. Что из того: мне уже было ясно – вот она, причина мгновенно вспыхнувшего во мне любопытства, едва Китти утром пригласила ее посетить. Однако было так же очевидно, что мне предстоит ждать долго, может быть бесконечно долго, того момента, когда можно будет изложить Пенни свои соображения насчет ее грудей.
Заключенный в материнские объятия, Эшли, засунув большой палец одной руки в рот, растопыренными большим и указательным другой – жеста в такой комбинации, ей-богу, я ни у кого доселе не встречал – размахивал в воздухе. Он вынул изо рта большой палец, только чтобы сообщить матери, что Гилберт его стукнул. Гилберт это отрицал, и я ему поверил, однако Пышка-Кубышка, порыкивая на лодыжки Гилберта, придерживалась явно иного мнения. Китти разрешила эту проблему тем, что увела сына из комнаты в сопровождении собачонки, увязавшейся вслед за ними.
– Вы воспитываете мальчика в нездоровом духе, – заметил Гилберт.
– Насчет его воспитания – это не ко мне! – отозвалась Пенни своим вывернутым выговором, точнее, совмещая худшее из по крайней мере двух диалектов.
– Похоже, это никого не интересует. Игрушки, подарочки, конфетки, мороженое. Почему он сегодня не пошел в школу?
– Не захотелось – не пошел.
– Надо было заставить! Ему еще шесть, его пока винить нельзя. Что можно ожидать от ребенка, которому позволяют спать в родительской постели!
Пенни повела плечами, что благотворно отозвалось колыханием верхней части ее торса, и вот уж было повернулась в мою сторону, но передумала и сохранила прежнее положение.
– Я Дуглас Йенделл! – произнес я, решив, ведь надо же с чего-то начать.
Криво усмехнувшись, Пенни бросила:
– Знаю!
Гилберт устремил на нее осуждающий взгляд и не отрывал, пока Пенни взгляд не перехватила. После чего мне сказал:
– А я – Гилберт Александер!
И протянул руку, которую я пожал.
После тяжкого минутного колебания я спросил у Пенни:
– Как ваш отец?
– Кирюха-то? Прекрати идиотничать, Гилберт, не выставляй себя чистоплюем, это всего-то допотопный шантанный жаргон. На самом деле никакой он не кирюха. Нет, папаша вполне молодцом, по птенчикам ударяет, чтоб взбодриться.
Издав негодующий возглас, Гилберт покинул комнату.
– Правда, обхохочешься с этими? – Пенни начала уделять мне прямо-таки преувеличенное внимание. – Гляди, какой аристократ! Этот даже в постели малость версаль изображает. Правда, поначалу, когда мы только сошлись. С тех пор здорово поднаторел. Знаешь, у него такой прибор! Клянусь, в полном порядке!
Меня слегка взволновало то обстоятельство, что Пенни взяла на себя труд выдворить Гилберта и тут же с ходу применила, на мой взгляд, запрещенный прием – ниже пояса, хотя я вполне отдавал себе отчет, что другой на моем месте мог бы воспринять это как поощрение к действию. Я прикидывал, что это: просто так или безупречный инстинкт. Канув взглядом в глубину ее голубых глаз, я твердо решил, что инстинкт.
– Дико рад за тебя! – сказал я весело. – Что ж у Роя за птенчик на сей раз?
– Без понятия. Зелененький. Это она вас сюда зазвала, чтоб… как это… повлиять на него?
Я смекнул, что теперь речь о Китти.
– Она мучается.
– Да ты видал когда, чтоб она не мучилась? Такая натура. Такая, старик, идиотская натура! Наверное, и этого сопляка, Эшли, родила, чтоб прибавить себе мучений. Чуть что – трагедь! Понятно, что этот за птенчиков принялся, – продолжала Пенни в своей навороченной манере. – Потом все этой выложит, и опять по-новой. Не сомневайся, теперь тем же кончится. Прямо скажем, никаких особых волнений.
– Ты с ними живешь?
– На халяву, – ответила она на мой мысленный вопрос.
– Ну а Гилберт? Он что, тут живет или так?
– Ну, он считает, что здесь.
– А ты как считаешь?
Она снова пожала плечами, поймала мой взгляд и придвинулась чуть поближе.
– А ты где живешь?
– На Мейда-Вейл. У меня там квартира.
– Один?
– В настоящий момент, к сожалению, да.
– Угу!
Пенни прикрыла позелененные веки.
Даже абстрагируясь от ее похвал в адрес физических достоинств Гилберта, я прекрасно понимал, что меня ждет на этом этапе, однако есть ситуации, когда приходится с копьем бросаться на броневик. Раздались шаги, кто-то приближался к нашей двери по дощатому, не покрытому ковром коридору.
– Можно тебя как-нибудь пригласить к себе? – спросил я.
– Нельзя! – отвечала она, расплываясь в улыбке и качая головой. И повторила: – Нельзя!
Вошла Китти, не только всем видом, но и голосом смахивавшая на человека, только что перенесшего допрос в тайной полиции. Сказала, что можно, если угодно, отобедать вместе со всеми, и мы отправились в гостиную. Я раздумывал про себя, с чего это у Пенни ко мне такая неприязнь: ведь не из-за того же, что пару лет назад я тискал ей грудь. Она, то есть грудь, наверняка с тех пор обрела надлежащий опыт в таких вещах. И еще, я чувствовал, здесь дело посложней, чем просто настороженное отношение ко мне как к возможному союзнику мачехи. Не исключено, что я просто противен ей сам по себе. Затем я подбодрил себя мыслью, что мне решительно необходимо, пусть формально, из чистого тщеславия, возобновить свой приступ, памятуя о непреложной истине, что, чем дольше оставлять девушку без внимания на первом этапе, тем дороже это обойдется впоследствии, когда дойдет до дела.
Я проследовал за дамами через комнатушку с множеством паровых котлов, баков, труб и иного сопутствующего оборудования в очередное помещение.
– Пригнитесь, Дуглас! – предупредила Китти как раз в тот самый момент, когда я с размаху пришелся лбом о притолоку.
Обожгла резкая боль. Спустившись на пару ступенек вниз, мы оказались в просторной и величественной кухне с видом во двор. Присутствующие в целом отреагировали на приключившееся со мной несчастье – Китти бесконечными аханьями и прикладыванием мокрого кухонного полотенца к моему лбу; Гилберт довольными взглядами в процессе доставания из буфета и расставления посреди накрытого стола всяких бутылочек с соусами и баночек с чатни и маринадами; пожилая прислуга участием и сочувствием; Рут и Пенни соответственно с тайной и явной насмешкой. Лишь Кристофер остался безучастен, спешно и шумно нагружая снедью и посудой на двоих свой поднос. Каковой мгновение спустя в сопровождении Рут и вынес из кухни; прислуга вскоре также покинула комнату, восприняв выражение признательности со стороны Китти как знак очистить помещение. Таким образом, за столом остались лишь Китти, да я, да Гилберт, да Пенни. Гилберт находился при исполнении, протягивая тарелки с супом, передавая мясные закуски и салат, извлекая из кладовки, исторгавшей дыхание Арктики, жестянки с пивом. У женщин осведомлялся, не хотят ли чего, при помощи слов, у меня – при помощи вздымания бровей или подбородка, а иногда и того и другого одновременно. В ответ на приказание Китти поведать мне о своих занятиях изрек в весьма, если так можно выразиться в данных обстоятельствах, учтивой манере, дескать, является работником сцены (вероятно, передвигает туда-сюда декорации, домыслил я) и что почти закончил работу над книгой о проживании выходцев из Вест-Индии в Лондоне.
– Роман? – осведомился я.
– Ни в коем случае! Культура, вызвавшая к жизни роман, умирает. Нечто по форме более свободное от традиционных рамок и вместе с тем более смелое. Близко к музыке и изобразительному искусству. Я постепенно осваиваю трактовку книги как некой «Лондонской сюиты», трехцветной и в трех частях.
Я подумал про себя, если он еще только в процессе осваивания, стоило бы, пока не поздно, остановиться, однако удержался, чтобы произнести это вслух.
– Книга в целом автобиографическая?
– Считаю вопрос бессмысленным. Мы способны воспроизводить только то, что чувствуем, или испытываем, или переживаем в жизни.
Пока я, не вполне осознанно, пытался совместить его высказывание со звучавшей увертюрой к «Поэту и крестьянину» Суппэ, Китти полюбопытствовала:
– В ней есть сюжет?
– Сюжет! Ритм! Персонажи! Пластика! Форма! Мелодика! Композиция! – припечатал Гилберт столь патетически, что никак нельзя было разобрать, то ли он издевается над этими понятиями, то ли утверждает, что в его «Лондонской сюите» этого всего – сколько душе угодно. Похоже, Китти, как и я, осталась в недоумении. Вид сидевшей по другую сторону от меня Пенни свидетельствовал, что та с момента своего появления на свет никогда и ни по какому поводу недоумения не испытывает.
– А какие у тебя планы на ближайшие дни, Пенни? – с трудом выдавил я из себя.
– Жаль, тебе не видно, какую ты себе на лоб здоровую впендюрил шишку! – Смех Пенни прозвучал весьма непринужденно, даже как-то обаятельно-наивно. – Так и торчит, прямо накладной носина! Вот умора!
Гилберт прищелкнул языком, а Китти обескураженно и с осуждением произнесла:
– Пенни! – и тут же добавила: – Она учится в колледже домоводства, это…
– Ни в каком собачьем колледже, никакого домоводства! Бросила, ясно? Никуда не хожу. Завязала. Хотя чего было вязать-то. Теперь полная свобода. Не делаю ни-че-го.
В голосе Пенни, можно сказать определенно и без всяких сомнений, прозвучала только холодная ярость. Глаза тоже злобно блеснули, хотя взгляд не был направлен ни на кого конкретно. Почувствовав, что к этому обеду душа у меня как-то не лежит, поскольку привык днем перехватывать что-нибудь легкое, я принялся раздумывать, как бы удрать. Но тут заметил, как чья-то тень мелькнула в окне и как кто-то направился к застекленной веранде, но кто именно, я разобрать, не смог. Через мгновение откуда-то из глубины дома послышалось громкое мужское пение, сочные гортанные звуки лились, как бы подражая валлийскому говору, хотя в замысел исполнителя это, очевидно, не входило:
Я вно-авь с тобо-ай душо-ай, англис-с-ски са-адик,
Среди кусто-ав ма-аих англис-с-ски красных ро-аз…
Музыканты в большинстве своем глуховаты к произнесению или звучанию слов, а многие и к мелодике текста, однако для Роя, который столько раз в моем присутствии пел эту песню и в этой самой манере, характерно утрированное «англис-с-ски» вместо «английский» как бы содержало намек на тех, кто произносит наши слова так, как они пишутся. В самом деле, это все приближавшееся и приближавшееся к нам, сидевшим за столом, пение производилось в явно издевательски-обидной, уничижительной манере, хотя вряд ли Рой предполагал, будто в его отсутствие в дом тайно просочились обладатели вокального стиля, который он в данный момент пародировал. Однако ярость к отсутствующим и зачастую воображаемым врагам составляла часть его сущности. Разумеется, самым очевидным объяснением такой выходки было стремление рассмешить, если бы не тот факт, что нередко подобное в его исполнении никто, да и сам он, как шутку не воспринимал. Аналогичный ход рассуждений мог привести к предположению, что это просто рисовка. Скорее всего, Рой просто забавлялся, не более, привыкнув, должно быть, – дитя уже немолодых родителей, явившееся на свет младшим в подростковом коллективе сестер и братьев, – так забавляться с детских лет. Но почему Рой именно в данный момент завел песню про «англис-с-с-ки садик»? Заострить внимание на своем нежданно раннем возвращении домой еще до фактического появления, почти так, как однажды проделал Джонас Чеззлвит, совершив проступок куда серьезней, чем тот, на который мог отважиться Рой.
Произведения
Критика













Поділитися