Десмонд Стюарт. Круглая мозаика
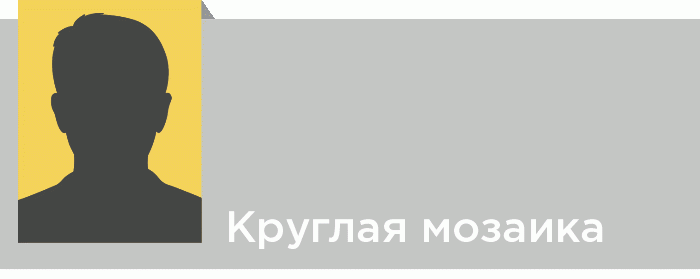
(Отрывок)
ПРОЛОГ
Джебель — называли арабы обрыв, обращенный на север, к морю, но он не был горой. И все же позади этого гребня львом, притаившимся в пустыне цвета его шкуры, весь подобравшись, лежал континент. На этих песчаных ролмах греки, явившись из-за моря, построили свои города. Трагедии Софокла уступили место римским спектаклям, где кульминацией было распятие раба. Храмы превратияись в церкви более кроткого бога. Все эти циклы ушли в прошлое. Только оливы, из чьих плодов неуклюжие прессы отжимали масло, сохранились — сначала сами, затем в своем потомстве, и потому там и сям на джебеле виднелись купы старых деревьев, кольцом окружавшие исчезнувший центр — своего прародителя.
А сейчас под палящим солнцем полдесятка арабов лениво следили за взволнованными движениями седого иностранца, чья нервная кирка тревожила мозаику, высвобождая ее из-под тактичных корней одной из этих олив. «Тут, наверное, обедали греки эпохи Империи, — размышлял иностранец. — Им нравился этот вид — море до самого Крита. Под окном росла матерь этих деревьев, и ее плоды объясняли их пребывание тут. А теперь матерь исчезла. Остался вид на море и эта мозаика под корнями оливы».
Арабы больше не следили за ним. (Им было запрещено всякое вмешательство с той минуты, как на свет начал появляться узор.) Теперь они смотрели со склона вниз, туда, где итальянцы посадили кипарисы, на белый крестьянский дом. Они смотрели на молодого чернокожего слугу, который взбирался к ним, размахивая конвертом. В дрожащем мареве англичанин глядел и глядел на сплетающиеся ромбики мозаики: большеглазая, вся в драгоценностях императрица, обнаженный мужчина на башне, плоды, круглые, как во сне, прыгающий олень и припавший к земле тигр. Англичанин поднял глаза на лоснящееся преходящее лицо негра из оазиса.
- А! Телеграмма. Ашкурак.
Он вскрыл конверт, взял протянутый юношей огрызок карандаша и расписался с быстротой тех, для кого писать естественней, чем чувствовать. А земля качалась у него под ногами. Он испытывал то же, что, возможно, испытывал владелец этого каменного ковра, когда императрица умерла или когда легионы, охранявшие его поместье, были отозваны в Италию.
Телеграмма была от его сестры: Диана уложилась в двадцать два слова ночного тарифа, и тем те мене «возможно» встречалось в тексте дважды.
После пометки «Шотландия», от которой этот солнечный полдень пронизала холодная дрожь, после его собственного адреса
«Джею Ломаксу вилла Савойя Триполи» шел текст:
«Крошка возможно смертном одре тчк тревожусь другому поводу возможно момсес но пожалуйста приезжай ейли сумеешь Диана».
Диана писала телеграмму не одна. «Смертный одр», слишком официальный для Дианы, показывал, что кладбищенская точность его зятя устояла против цензоров; «момсес» — вероятнее всего, «нонсенс» — демонстрировал шотландский оптимизм, предполагавший классическое образование у дежурных на арабских телефонных станциях, а кроме того, в нем сквозила та сухая улыбка, какой Поль ответил на панику Дианы. Он повернулся к рабочим:
- Закройте ее, — сказал он по-арабски. — Если будет угодно богу, я вернусь.
Он начал вслед за посыльным спускаться но пыльной дороге, которая вела к деревьям. Внизу сверкало Средиземное море. Ему придется расстаться с этим январем ради совсем иного. Сменить свободу рубашки в сандалий на дождевик и шляпу, поиски мозаик на стычки желаний и воль. Трепет надежды, не было ли первое «возможно» Дианы намеком на то, что болезнь их матери — это в какой-то мере «спасите, волк, волк»? Употребив прозвище, которое на протяжении всей его жизни было гротескным и тем не менее неизбежным, не хотела ли она его успокоитъ? И — очевидная нелепость такой надежды. Его крошке матери в октябре должно было исполниться девяносто.
В самолете у него началось несварение желудка — над Альпами ему предложили обед, обещавший в дальнейшем запор. Он мучился, его панцирь дал трещину. Неужели она умерла? И ее тирания стала частью истории? Тираны правили Северной Африкой: Феодосия с огромными глазами и Север, поднявший Лептис над барханами, точно оперную декорацию. Они были ненавидимы и любимы, они умерли. Он вспомнил мальчика-бербера, чей гроб на прошлой неделе трясся но рытвинам к могиле (и ни одна женщина не смотрела ему вслед) между сухими желтыми стенами без единого глазка. Босой мальчик наступил в пещере на скорпиона; он умер, не прожив и двенадцати лет. Крошка прожила почти девяносто; ее старший внук прожил тридцать пять, а он сам, ее оставшийся в живых сын, прожил уже почти шестьдесят; но никто не проживет тысячелетий, как эта мозаика.
Вызов не казался таким уж безоговорочным. В первую минуту он даже решил было не лететь прямо в Англию, а прежде проехать но побережью на автомобиле в Египет. Тогда он но крайней мере избежал бы шотландского февраля и узнал бы, в Каире ли еще его племянник, сын Дианы. Он проехал бы мимо башни их отца, мимо того места, где он, Диана и остальные были юны, — возрожденная земля, земля пустыни, где в сухих просторах отрочества впервые воспламенилось его воображение. Если бы его позвала Ливия, их старшая сестра, он мог бы воспротивиться, может быть, отказался бы или, во всяком случае, медлил. Ее жесткая сила убила в нем сочувствие. Но просящей Диане он никогда не умел отказывать. Ее ранимая доброта превращала его в ее щенка. Она могла вывести его из себя, но не потерять.
И вот из-за паники сестры он смирился с зимним Файфом, оставил в Ливии своих слуг, свои интересы. От песка, сжигавшего всё неглавное, он уезжал в страну двойных рам и центрального отопления, в страну, где двойное виски выпивалось в глубоком молчании и где всех в первую очередь занимало неглавное. Он уже видел шотландские улицы, где восточный ветер превращал женщин в краснокожих индианок и где они покупали шерстяные колпаки омерзительных расцветок, чтобы украшать свою костлявость.
В Юстоне он был уже на прямой. В северном экспрессе мест в спальных вагонах не оказалось. А потому он сидел, прислонись к душной обивке диванчика, в купе, опустошенном его резкостью. Как раз перед тем, как поезд тронулся, в купе ворвалась молодая женщина в сопровождении поклонника. Она сделала вид, что не замечает таблички «курить воспрещается», ногтями, темносерыми там, где они не были лиловыми, с кокетливым нахальством сорвала целлофановую обертку и ткнула локтем спутника, который объявил театральным шепотом:
- Я думаю, что джентльмен не будет...
На что ливийский беженец мило улыбнулся:
- Буду. Видите ли, я нарочно выбрал это купе. У меня гайморит.
И вот он сидит наедине с английской ночью за окном, а под полом погромыхивают колеса, и вонь не поддающихся чистке сидений спорит с ароматом «Писем» Уайльда, купленных в Лондоне. Он восхитился ими, прикинул цену — очень высокую, — а потом, так как продавщица явно решила, что он не берет книгу, сказал «заверните их», чтобы поубавить ей надменности и опровергнуть ее мнение о шотландцах. «Эту завернуть, сэр, а что еще?» Для нее эти письма существовали в единственном числе и не были «они».
Его мать, высчитал Джей, была на семнадцать лет моложе Уайльда. А когда Джею было семнадцать лет, она весила двести семнадцать фунтов и не смогла высечь его, как пригрозила, за «Портрет Дориана Грея», найденный у него под подушкой. Это было в Лондоне, в страшный год. Он еще помнил ее гнев. Решила ли она, что пример отца обратил его в уайльдовскую веру? Это был год тысяча девятьсот семнадцатый, год революций. Возможно, она предпочла бы истине, означавшей поражение, непристойную тайну; молодой человек — это было бы не так больно, как женщина лишь несколькими годами моложе ее. Но тут Джей остановился. Все это было не так. Его родители принадлежали к миру, в котором подобные альтернативы еще не стали заурядностью.
Его мысли, погромыхивая, летели дальше, как колеса под ним, и, подобно им, не сходили с рельсов, проложенных другими. Он открыл «Письма» О Христе. «Со времени его пришествий история каждого отдельного индивида представляет собой историю мира или может быть превращена в нее». Джей закрыл книгу. Кардинал Нью-Мен сказал, что пусть лучше погибнет мир, чем одна крестьянка совершит один смертный грех.
Пока поезд мчался на север сквозь мрак, тревога замыкала провода, сходившиеся в нем. Оскар Уайльд... Крошка... его тетки... его отец... его брат... его сестра... он сам, Джей Ломакс — все это было скручено в один жгут. Смерть отца или матери заставляет ребенка думать о собственной неизбежной смерти. Он пока еще не одряхлел. Зубы благодаря тщательному уходу производили впечатление совершенно целых; он был худощав, и ценой отсутствия честолюбия его глаза не были ничем обременены; но все эти активы висели на волоске, как биржевые курсы накануне кризиса — скоро, через считанные годы или даже месяцы, начнется падение. Уайльду повезло, что он умер, еще не достигнув пятидесяти.
Когда Джей впервые читал Уайльда, он читал его вперемежку с классическими авторами, помогавшими ему уходить в грезы наяву. Когда кругом говорили о Пашендейле, каким облегчением было думать о Мессалине и ее ночных оргиях! Елагабал, умирающий в римском нужнике, также служил немалым подспорьем. Жизнь все еще обещала очень многое. Он копался в словарях, ища слова более грубые, чем cinaedus. В те дни он эксплуатировал свою болезненность, как теперь укреплял здоровье, и проходящему мимо школьному старшине, несомненно, казался зубрилой, щурящимся сквозь очкила страницу латинского текста. Он же был римский eques, всадник, известный всем ночным сторожам, один из тех, кого выбрала императрица, когда состязалась с проститутками. Он ахнул, когда солнце опустилось за лиловые холмы, а он еще пролагал себе путь между повозками, скрипевшими на улицах высокого кирпичного города. На нем была туника, на бедре — меч, его завитые волосы курчавились, как шерсть барашка. В нем было жесть футов роста, и он изумил императрицу.
Такие символы расширяли пределы фантазии. Тетки, дядья, матери и отцы расширяли пределы мира; а потом ты возвращался в джунгли, щупальца которых нельзя разрубить, — в семью. Шлюхи-императрицы и цезари-гладиаторы отступали, рассеивались. Символы жизни приходилось завоевывать в тусклых спальнях, в странах, где солнце опускалось не за садистические холмы, а в заводской дым... Если ты мог принять такие символы и понять их.
На утренний Эдинбург падал мелкий мокрый снег. На север, к стылому морю, тянулись серые угрюмые здания узловой станции — не столицы. Поезд на Файф простучал по мосту через Форт, повернул на восток ж шел вдаль черных скал побережья, вдоль железных кранов над верфями, пока не оказался в Керколди, месте, достойном Италии, но заливаемом дождями, унылом, где вонь линолеума от высоких черных фабрик сэра Майкла Нейрна стлалась над закусочными. Это была шотландская Ривьера; черные скалы с неистовством Кальвина рвались ввысь вулканическими конусами; утесы Басс-Рок были выбелены чаячьим пометом. Повсюду за соснами и домами таилась эта скрытая мощь, точно шотландская воля. Зубчатая гряда прижимала к земле отели с гольфовыми полями, сводила к истинным размерам крытые дранкой бунгало с пристроенными оранжерейкамж. Вы выращивали цветы к рождеству, но вы де могли забыть скалы, мокрый снег, холод и почерневших шахтеров, трудящихся внизу, под вами.
Поезд остановился в двенадцатый раз. На серой шлаковой платформе стояла его сестра. В тяжелом пальто из тяжелого твида, с шарфом на пышных волосах. В поезде он вспоминал босоногую девочку на египетском пляже.
- Поль извиняется, что не смог тебя встретить. Он нездоров.
- Очень грустно. А мама?
- Похудела до ста сорока фунтов, но она рада, что ты решил приехать.
- Не на таком уж смертном одре?
Постороннему наблюдателю улыбка Дианы могла бы показаться бессердечной.
- Она тебе расскажет — вот увидишь — про свой гроб. Она ненавидит коттедж: ее беспокоит, что придется выставить окна, когда настанет ее час. Она говорит это всем — доктору, кузине Мейбл, монтеру, который приходит чинить кипятильник. Мы с Полем, наверное, выглядим ужасно жестокими, потому что не обеспечили более величественных декораций для ухода со сцены. Но эта клиника... мы не могли оставить ее там.
— Почему Ливия...
— ... не увезет ее в Англию? Мама ненавидит Англию.
Вернувшись в нутряной лес к лианам взаимно разделяемых допущений, он в холодное шотландское утро шел туда, где она лежала в последнем из своих обиталищ (не считая самого последнего открытого всем ветрам кладбища возле разрушенного собора у моря, серого, как форменное платье кастелянши).
- Как странно, — сказал он, когда они приблизились к скучным каменным домам скучной улицы (когда-то тут жили рыбаки, но теперь в каждом доме обитал отставной полковник, учитель или банкир), — что мама найдет свой конец здесь. Дом ирландского священника, Шепперд, птолемеевский маяк, Далви, Эшли-Гарденс и теперь — это. Лицо его сестры напряглось, словно она была виновата в том, что живет здесь, а не в каком-нибудь другом месте, более приятном для языка и чувств.
Маленький дом безмолвствовал, пока, оставив его багаж в передней, они шли к ее комнате. Оттуда, где в кровати лежал его зять, неслись мощные звуки симфонического концерта.
Когда она, заерзав, приподняла на подушке бледное напудренное лицо, хитроватое в розовом обрамлении ночного чепчика, она заговорила не о своем гробе. Едва Диана втолкнула его в комнату, где стены были увешаны охотничьими трофеями и картинами, старуха облизнула губы (как неукоснительно делала с 1918 года, когда ей сказали, что это симптом сердечного заболевания) и приветствовала кого-то совсем другого:
- Так ты приехал, Фил, приехал спасти свою старую мать? Что ты поделывал? Застрелил медведя или тигра?
- Я никого не застрелил, мама. Только нашел мозаику.
И он понял, что она не умрет. Чтобы умереть, она должна была кончить играть спектакль. А она все еще играла. Когда он подошел ближе — мимо фотографии брата с юными усиками и шотландской сумкой, — когда он нагнулся навстречу запаху талька, она продолжала играть. Ибо ее маленькие руки с внезапной тревогой вспорхнули между ними.
- Но вы же не мой Филип? Вам шестьдесят, а не двадцать. Вы никогда не убьете ни медведя, ни немца.
- Да, мама, я не Филип. Я не Пифагор. Не участник и не сторонник — просто наблюдатель. — Он произнес эти слова не запнувшись, потому что выучил их давным-давно.
Но она не слушала. На исчезнувшее видение смотрели ее глаза, и на миг она отвела их, сухие, на юг, в подушку, а потом подняла, чтобы спросить:
- Значит, Джей, они тебе сообщили, что я умираю? Будь честен, скажи правду.
Она прочла то, что ожидала, и со вкусом вознегодовала:
- Разрази меня бог, если я умру раньше кузины Мейбл. Ну, так поцелуй меня, ведь за грош всего не получишь... Да и притворяться тоже незачем.
Притянутый совсем близко, он увидел ее глаза. Ясные в мутной оболочке — рыбки, тыкающиеся ртами в стекло аквариума, тревога, томящая смертную плоть. Но свое сочувствие он перенес на сестру, чья смутная фигура маячила в дверях. Диана столько раз уже страдала на этих спектаклях. А сейчас она страдала не только от смущения, но и от нетерпения. В телеграмме она упомянула о тревоге по другому поводу. Она тревожилась не только из-за матери, но и из-за мужа. Поль Эйвер в постоянном общении с этой жизнью, угасающей на смертном одре, заразился от своей тещи и считал, что тоже умирает. Его воображение было обострено великолепным умением ставить диагноз. Утрированной старческой походкой — семенящей рысцой — он, пошатываясь, подходил к кровати Крошки с большой рюмкой виски; и она приветствовала члена братства Уходящих. Сын Дианы также был причиной для тревоги. Его восторженное увлечение Египтом теперь, когда в большинстве англичане были по меньшей мере холодно-враждебны, Джей и Диана понимали. Их отец был ксенофилом, оба они привыкли к Египту. Но говорить о ее сыне с соседями было трудно. Со сдержанностью шотландцев и с их кислой злобой они чернили его только за спиной близких. Но это был практичный городок, гордящийся своим умением говорить Haчистоту. И при удобном случае он был готов выложить все, что думал о египтянах и о тех, кому они нравятся. Диана хотела поскорее излить Джею обе свои тревоги.
За ужином ей это сделать не удалось. Может быть, Поль почувствовал себя лучше, может быть, ему не терпелось посмотреть, как возраст справляется с братом Дианы, но как бы то ни было, он вышел к столу, а едва ужин кончился, сразу увел Диану к телевизору.
Тут же раздался звонок Крошки. Ноги Дианы вскинулнсь, словно докторский молоточек ударил ее под коленными чашечками. Никто не мог бы выразить свое врожденное отсутствие эгоизма так неэгоистично, как Диана. Это не доставляло ей никакой радости, а потому давало ее подопечным меньше радости, чем должно было бы. Ведь мягкое сердце Дианы, полное жалости к матери из-за ее беспомощности, становилось каменным, когда беспощадные старые глаза взглядывали на нее и старые губы растягивались для каких-нибудь морозящих слов. Диана, лишенная профессиональной бодрости сиделки, не умела улыбаться, когда ей было не до улыбок.
- Нет, ты отдохни, Диана. Дай я пойду. — Джей уже встал.
Она была оживлена и почти приподнялась на подушках.
- Ты рассмотрел мои сокровища?
- Нет. Я торопился, думая, что, быть может, я вам нужен.
- Ну, так вернись и погляди хорошенько. Они меня переживут.
Он вышел из спальни в примыкающую комнату, ее разубранную гостиную, где никогда не бывало гостей. Он зажег лампу, которую держал каменный негр, и оглядел сокровища. Стол со столешницей из наборного мрамора — ни единая пылинка не затормозила скольжения его ладони. Из хороших картин не осталось ни одной. Она в панике распродала картины после смерти их отца. И купила акции. Безликое право владения, а не реберновские портреты — вот что в какой-то части достанется ему, когда вслед за предками она уйдет в Неведомее. Он впадал в ее манеру выражаться. Она была скептикон с неизлечимой склонностью спекулировать Будущим, своим сомнительным капиталом. Он обвел взглядом стены. Его брат в двадцать лет на слоне с одним годом, жизни впереди — нереализованный актив. Силуэт их отца, еще более молодого, чем Филип, бедра подростка, обрисованные узкими брюками: «Эндрю Ломаке, Дартмут» — надпись тушью. Она всегда любила мужчин, всегда ненавидела (ее собственные слова) женщин и стариков. Свет лампочки, которую держала статуя, был холодея, как сама комната. Окна были плотно закрыты, чтобы не пускать внутрь изморось, и из ее комнаты иод дверью просачивался слабый запах физической немощи и шуршал образами, которые эта комната вызывала из прошлого.
- У вас там все выглядит очень мило. — Он снова сел у ее розового изголовья.
- Льстец! Там же ничего нет — все мало-мальски приличное сдано на хранение, и знал бы ты, сколько мае приходится платить! Мальчик Дианы был без ума от Сталина, ну, так ее ждет сюрприз! Как и вас всех, если уж на то пошло (тон ее был веселым), — после. — Затем (все то же кельтское непостоянство) ее слова исполнились ада. — Так тебе понравилась моя гостиная? Им она тоже нравится. Я умею читать по глазам, я знаю, когда их одолевает жадность.
- Но только слепой не заметил бы, как мило вы ее обставили...
- «Мило» — не мужское слово. Нет, бабушкина гостиная их злит — так мало свободного места, а тут комната, которой никто не пользуется. Они думают, раз я стара, то ничего не вижу; но я не слепая, и нечего oтрицать — они все это продумали. Чтобы съехаться вместе — они из этого дурацкого огромного дома, а я на клиники; ах, как уютно! Дорогой доктор хворает, а мамочка — милая мамочка! — уложена в постель. Ах, тая удобно! Твоя сестра плетет свои интрига так сладенько - милая девочка! Ты знаешь, что она меня чуть не убила?
- Своим появлением на свет? Да, я слышал.
- Ах, ты слышал!
Она погрузилась в застойную ярость, в бессвязность в только не забывала быстро проводить языком по сухим губам. Затем движение руки отослало Джея. И назад мимо сокровищ, туда, где ее измученные надзиратели смотрят, как калифорнийские полицейские арестовывают женщину. Джей увидел их, оставшись неувиденным, надел пальто, которое купил в Лондоне, и открыл входную дверь навстречу мягкому топоточку снега. Город безмолвствовал. Он прошел мимо пустой автобусной остановки, управление угольной промышленности сняло отель с полем для гольфа под дом отдыха для выздоравливающих шахтеров: только два окна светились бледно-желтыми прямоугольниками. Вздохнув, большая ветка стряхнула с себя снег. Узкая улочка спускалась туда, где полный прилив плескался о городок, дремлющий под лесом антенн. Он проходил мимо безмолвных пивных.
Это селение посылало свои корабли и своих солдат в прошлое. Однажды в Курдистане, когда он ехал через Ровандуз в Персию, он увидел могилы пяти стрелков, вычеркнутых из жизни в забытой стычке. Один, несмотря фамилию, был не из горной Шотландии, а из этого городка. В здешней церкви его фамилия была запечатлена на табличке. Высокий дом, где водились привидения теперь начальная школа, послал трех братьев на усмирение сипаев, и все трое остались в Индии, погребенные в ее земле. Возле общественной уборной экономичный мятник нес на себе пятнадцать фамилий. Так много, так много их ушло отсюда! На свой угрюмый современный манер городок был не менее героичен, чем городки Гомера, внесшие свою лепту в список кораблей и воинов.
Произведения
Критика













Поділитися