Историческая достоверность и символика в новелле Натаниэля Готорна «Кроткий мальчик»
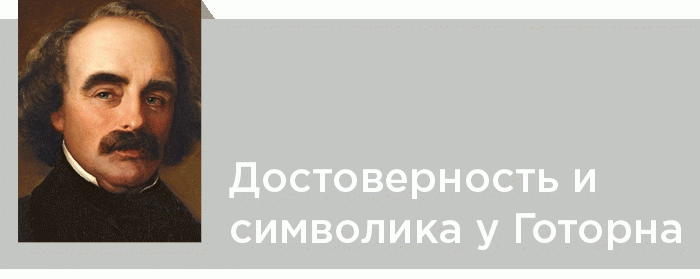
В.Н. Шейнкер
Видный американский литературовед Фред Пэтти еще более полувека тому назад назвал подлинным отцом американской новеллы (short story) великого романтика Натаниеля Готорна (1804-1864), от творчества которого тянутся многочисленные нити к современным произведениям этого жанра Весь дальнейший опыт американской литературы подтвердил справедливость этого суждения, поскольку наиболее репрезентативные черты большинства новелл последних десятилетий — минимум внешнего действия, углубленный психологизм, параболичность повествования, насыщенность его символикой — можно в немалой мере обнаружить уже в готорновских рассказах. Поэтому не случайно в трудах, посвященных современной американской новелле, неизменно фигурирует имя Готорна: и американские и отечественные исследователи указывают на его традиции в творчестве целого ряда новеллистов США XX века.
Новелла Готорна «Кроткий мальчик», которую поэт Лонгфелло назвал «самой прекрасной вещью из тех, что он написал», относится к его наиболее ранним творениям. Рассказ был написан в
История Илбрагима, шестилетнего ребенка из квакерской семьи, затравленного фанатиками-пуританами, показательна для творчества Готорна как в отношении использованного материала, так и в смысле общей проблематики. В «Кротком мальчике» были намечены многие черты дальнейшей писательской деятельности Готорна.
Фабуле новеллы предшествует исторический экскурс, вводящий в атмосферу пуританских нравов и религиозных преследований инакомыслящих в Новой Англии в середине XVII столетия. Рамки сюжета ограничены точными датами, связанными с конкретными историческими событиями: действие начинается 27 октября
Для Готорна национальная история — это прежде всего необходимая составная часть современной действительности, важнейший и неизбежный детерминант национального сознания, психологии, образа мыслей и образа жизни.
Прошлое, особенно своими дурными сторонами, злом, «грехами отцов», постоянно влияет на сегодняшнюю жизнь человека и в значительной степени определяет ее. В предисловии к роману «Дом о семи фронтонах» Готорн писал, что его задача — «связать прошедшие времена с самой что ни на есть современностью». «Преступления, совершенные одним поколением, живут в последующих поколениях и, лишившись всяких временных выгод, превращаются только в одно зло, не поддающееся никакому учету». Известный американский поэт Джеймс Рассел Лоуэлл отмечал в произведениях писателя «тесную связь между Настоящим и Прошлым, тянущуюся от предков к потомкам, связь, которой историки столь упорно пренебрегают».
Размышляя над истоками пороков современности, Готорн находил их уже на заре американской цивилизации. Большинство его рассказов и роман «Алая буква» посвящены именно этому периоду — XVII веку.
Пуританское общество Новой Англии претендовало на избранность, исключительность вследствие того, что якобы только оно было основано на нравственных заветах Христа. Но из практики новоанглийских поселенцев было вычеркнуто то, что, по мнению Готорна, должно составлять суть христианства: любовь к ближнему, сострадание к человеку. Даже детям в этом обществе были чужды добрые качества, ибо и они — дети — с самых малых лет оказывались зараженными нетерпимостью, ненавистью ко всякому, кто не следовал пуританским религиозным догмам. И потому уже в XVII в. в новом обществе безнадежно разошлись идеалы и практика. Такова суть того «изначального зла», которое возникло на заре американской цивилизации.
Прошлое является для Готорна, так сказать, «парадигмой всеобщего». За внешними покровами каждого частного случая скрыт глубинный внутренний смысл вневременного, всеобщего характера. В прошлом, как и в настоящем, существует, по мнению Готорна, один неизменный критерий оценки общества — подлинное соотношение реальной практики с такими нравственными категориями, как человечность, любовь к ближнему, сострадание. Поэтому писатель осуждает не только и не столько XVII век, сколько свою современность, ибо не видит торжества этих ценностей вокруг себя.
Ослепленность абстрактной идеей восходит к рационалистическому типу мышления. Категории «головы» и «сердца» играют большую роль во всех произведениях Готорна. Эти два начала должны уравновешивать друг друга. И если начинает преобладать рационалистическое начало («голова»), то оно постепенно вытесняет все человеческое из «сердца» индивида, делает последнего способным на самые мерзкие поступки и даже преступления. Таковы естествоиспытатель Рапачини (из новеллы «Сад Рапачини»), фактически отравивший ради эксперимента собственную дочь, человеконенавистник Ричард Дигби (из новеллы «Человек — кремень»), Итен Брэнд (из одноименной новеллы). Торжество однобокого рационализма ведет к страшным последствиям не только для отдельных индивидов, но и для целого общества. Так, в пуританской Америке тирания, угнетение, эгоизм, многочисленные исторические преступления — следствия рационалистического фанатизма.
В рассказе «Кроткий мальчик» писатель язвительно говорит о пуританском проповеднике, который еще до своего переселения в Америку, в молодые годы узнал в Англии «на собственном опыте.., что представляют собою религиозные гонения, и не был склонен забыть теперь те уроки.., против которых он когда-то восставал». Когда мать Илбрагима обнимает его в церкви, то многие пуритане, тронутые этой сценой, оценивают свои естественные человеческие чувства, прорвавшиеся сквозь толщу предрассудков, как греховные. Нельзя не согласиться с американским литературоведом Даблдеем, который пишет, что едва ли во всей американской литературе XIX в. есть более жуткая картина, чем та, в которой дети пуритан набрасываются на Илбрагима и безжалостно избивают его.
Абсолютное неприятие автором пуританского фанатизма станет еще более очевидным, если сверить окончательную редакцию рассказа для отдельного издания «Дважды рассказанных историй» с первым журнальным вариантом. В новой редакции Готорн решительно вычеркнул целые абзацы из первоначальной публикации, и сокращения внесли очень важные идейно-художественные коррективы в небольшую новеллу.
В журнальном тексте он объяснял казнь двух квакеров и вообще жестокость пуритан по отношению к этой секте исторической необходимостью: религиозные принципы пуритан были тем цементом, который скреплял их единство; на американской земле пуритане не нашли града обетованного, но стремились построить его, подвергаясь ежедневно тысячам смертельных опасностей, отчего всякое противоречие своим религиозным принципам они рассматривали как попытку подорвать их мощь, разрушить их единство. Носителями таких злокозненных устремлений пуритане считали квакеров, тем более что им была почти неизвестна суть учения последних. Однако это рассуждение автора приходит в вопиющее противоречие с его концепцией исторического зла: никакая историческая необходимость не оправдывает бесчеловечия. Поэтому Готорн опускает все рассуждение, занимавшее чуть ли не страницу текста в рассказе.
Точно так же он поступает и в отношении еще одной важной сцены. В журнальной публикации, рисуя пуритан, собравшихся в церкви на воскресную службу, писатель отмечал хорошенькие лица женщин и мужественный облик руководителей общины, который привлекал взоры и мысли многих юношей, желавших походить на своих вождей. Но такие чисто человеческие штрихи в наружности собравшихся должны были неизбежно вызвать у читателя сочувствие и уважение к посетителям этой церкви. И Готорн вычеркивает эти детали в окончательной редакции, ибо его основная цель — изобразить безликую массу, которая погубила Илбрагима, приветствовала казнь его отца и изгнание матери и с презрением и ненавистью обвиняла в вероотступничестве Пирсонов, усыновивших мальчика.
Однако автор рассказа «Кроткий мальчик» осуждает не только пуритан. Не меньшими фанатиками представлены здесь и квакеры, хотя они и вызывают больше сочувствия как люди, подвергающиеся гонениям. И у квакеров и у пуритан, как будто бы резко противостоящих друг другу, тем не менее оказывается немало общего: и те и другие в своем фанатизме предали забвению основной принцип, на котором, по мысли автора, должны покоиться отношения людей: принцип любви человека к человеку. В изображении Готорна пуританские преследования были не только причиной, но и следствием квакерского экстремизма, восторженного фанатического энтузиазма сектантов.
В практике квакеров точно так же, как и у пуритан, на деле восторжествовал принцип «головы», а «сердце» оказалось преданным забвению. В своей речи в церкви мать Илбрагима Кэтрин с яростью призывает смерть и муки на головы врагов, она преисполнена «почти дьявольской злобы», принимая свои человеконенавистнические чувства за божественное откровение. Движимая фанатическими абстрактными идеями, она забывает о своих конкретных человеческих узах и привязанностях. Следуя догматическому «долгу», она забывает о своем первейшем человеческом долге, долге матери и пренебрегает поэтому «самой святой обязанностью, выпадающей на долю женщины». Она оставляет сына чужим людям и в течение двух лет не видит ребенка, с энтузиазмом подвергает себя мукам и лишь случайно возвращается в миг кончины Илбрагима. Ее образ дополняется и углубляется соотнесением с образом старого квакера, который с гордостью рассказывает, как он оставил умирать в полном одиночестве любимую дочь, когда услышал «внутренний голос», позвавший его идти и проповедать «слово божье». И это пренебрежение истинно человеческим ради отвлеченного, надчеловеческого заслуживает, по Готорну, не меньшего осуждения, чем пуританская жестокость.
Единственный взрослый человек в рассказе, возвышающийся над всеми остальными, — это Дороти Пирсон. Она не разделяет воинствующего фанатизма ни одной из сект, ибо руководствуется не отвлеченными мотивами, а человечностью. Это персонаж, у которого «голова» и «сердце» не находятся в войне друг с другом. Не случайно автор обнаруживает иносказательный смысл сцены в церкви, когда мать держит Илбрагима за одну руку, а Дороти — за другую: «Обе эти женщины, в то время как они с двух сторон держали Илбрагима за руки, являли собою как бы живую аллегорию: с одной стороны разумное благочестие, с другой — безудержный фанатизм, борющиеся за власть над юной душой».
Здесь в прямой авторской декларации открыто демонстрируется одна из характернейших особенностей творчества Готорна — насыщенность его аллегориями и символикой. В предисловии к «Дважды рассказанным историям» он назвал большинство своих рассказов аллегориями. В другой работе он также указывает на свою «ненасытную любовь к аллегориям». Сам писатель не делал теоретического различия между аллегорией и символом, называя часто одни и те же картины и аллегорическими, и символическими, и эмблематическими. Однако с точки зрения современной науки символ «делает акцент... на выхождении образа за собственные пределы, на присутствии некоего смысла, интимно слитого с образом, но ему не тождественного», и в отличие от аллегории «смысл символа нельзя дешифровать простым усилием рассудка... он не существует в качестве некоей рациональной формулы, которую можно «вложить» в образ и затем извлечь из образа». Согласно приведенному разграничению отметим, что Готорн значительно чаще прибегал не к аллегории, а к символике, которая придавала его образам и ситуациям второй, глубинный смысл.
Исходя из стремления «связать прошедшие времена с самой что ни на есть современностью», Готорн широко использует символические ситуации, поскольку они являются эффективным генерализующим средством. Символ, «просвечивающий» сквозь материал прошлого, обращен не только к этому прошлому, но и к настоящему, ибо он выражает общие закономерности.
Так, столкновение Илбрагима с другим мальчиком, к которому он привязался всей душой и который столь подло предал его, является не просто бытовым эпизодом, но сценой, полной внутреннего смысла, глубоко символичной. Илбрагим постоянно характеризуется как воплощение «трогательной человечности», доверчивости, любви, «крепкой привязанности ко всему окружающему», беззащитной сердечности. Его же мнимый друг представлен как человек угрюмый, скрытный и коварный. Но тем не менее Илбрагим погибает, а этот негодяй, несмотря на свои скудные успехи в учении, пошел, очевидно, весьма далеко, о чем писатель упоминает в одной фразе: «В более поздний период жизни он проявил честолюбие и весьма своеобразные таланты». Годы зрелости юного пуританина приходятся на время знаменитых сейлемских процессов над «ведьмами», из чего можно предположить, что именно во время этих процессов, в атмосфере, породившей их и усугубленной ими, он проявил «своеобразные таланты». Но для автора за частным случаем скрывается нечто большее: в судьбах обоих детей воплощена мысль — процветает тот, кто нравственно более низок, тогда как беззащитные, сердечные люди обречены на страдания.
Илбрагим и пуританские дети — это символическое воплощение тех двух возможностей, которыми располагала Америка в своем историческом развитии: путь «мечты», человеколюбия, т. е. идеальный, и тот реальный путь, которым она пошла.
Сцена, которая завершается столкновением Илбрагима с пуританскими детьми, начинается как мирная, не предвещающая ничего дурного идиллия. И тем более трагичным — по контрасту — оказывается ее финал. Готорн начинает этот эпизод с рассказа о том, как в ясный весенний день группа мальчиков играла в роще и их «беззаботные голоса... звонко перемешивались под деревьями словно солнечные лучи, ставшие звуками», так что взрослые, слыша их, задумывались о том, почему столь приятна жизнь в детстве и столь тосклива впоследствии. Они могли бы ответить сами себе: «детство счастливо потому, что оно невинно». Вся глубокая ирония этого рассуждения становится очевидной уже в следующей строке, когда это «невинно-чистое сообщество», завидев Илбрагима, превращается в убийц с жестокостью «гораздо более отвратительной у детей, чем даже кровожадность у взрослого человека». Несомненно, что помимо своего непосредственного смысла вся эта сцена несет и второй более глубинный смысл: предрассудки, невежество, зло, свойственные отцам, переходят в следующие поколения, усугубляются и продолжают свою разрушительную работу.
Многозначительно также имя заглавного героя новеллы. Это явно неевропейское, нехристианское имя как бы отчуждает его от остальных, указывает на его одиночество, изоляцию среди соотечественников. Одиночество мальчика подчеркивается описанием того, при каких обстоятельствах находит его Пирсон — заброшенного, изгнанного из общества ребенка, обреченного на голодную смерть, скрючившегося в ночном мраке на свежей могиле отца. Известно, что тема одиночества индивида в дегуманизированном мире стала одной из ведущих в зарубежной литературе наших дней, особенно в американской. И это наряду с прочими моментами объясняет «современность» Готорна для читателей XX века.
В имени героя скрыт и другой смысл. Он был назван так в память о том, что родился в Турции, единственной стране, где семья за всю свою многострадальную жизнь ни разу не подвергалась преследованиям, хотя эта страна и не была христианской и, следовательно, в ней не проповедовалась официально любовь к ближнему.
Превосходство «человеческого» над религиозными, социальными или расовыми признаками акцентируется в новелле прямой репликой Пирсона. Когда Дороти Пирсон впервые увидела изможденного бледного Илбрагима, она спросила у мужа, не был ли этот ребенок украден у христианской матери дикарями. «Нет, Дороти, — ответил муж. — Этот несчастный ребенок не был украден дикарями. Язычник-дикарь поделился бы с ним своей скудной пищей и дал бы ему напиться из своей берестяной чашки, но христиане — увы! — изгнали его из своей среды, чтоб он умер с голоду!».
Новелла «Кроткий мальчик» глубоко трагична, как трагично и все творчество Готорна, увидевшего, что американская цивилизация уже в XVII в. не реализовала положительных нравственных ценностей, которые, по мысли писателя, потенциально могли быть заложены в ней, оказалась неспособной к осуществлению «американской мечты», отчего на всю ее дальнейшую историю и ее «дух» легла печать зла. Американский литературовед Мэйл обратил внимание на то, что трагическому звучанию новеллы соответствует точно найденное автором ключевое понятие, которое несет значительную смысловую нагрузку и проходит через все произведение, — слово «home», означающее дом как укрытие, убежище, место обитания, в отличие от более конкретного «house», которое больше употребляется в смысле дома как строения. Домой направляется Пирсон в самом начале новеллы. На могиле повешенного квакера он спрашивает Илбрагима, где находится дом мальчика, и получает ответ, что его дом здесь. Это слово несколько раз повторяется в их разговоре. Когда Пирсон подводит ребенка к своему дому, то говорит ему: «Взгляни сюда, дитя мое, вот это наш дом». При слове «дом» дрожь пробегает по телу Илбрагима. В конце рассказа в жилище Пирсона вернулась мать Илбрагима, и оно «сделалось ее домом». Но это был уже опустевший, мрачный, печальный дом, совсем не тот, каким он предстал перед читателем в начале повествования. Ключевое слово, постепенно меняя свою окраску в контексте рассказа, подчеркивает крушение всех надежд Пирсона сделать землю за океаном своим родным домом, начать иную жизнь, чем в Старом Свете, откуда он бежал. Судьба Пирсона, таким образом, приобретает глубокий смысл, символизирует крах «американской мечты».
Новелла «Кроткий мальчик» может служить типичным примером того, как Готорн использовал реальные исторические события, чтобы изобразить стоящие за ними нравственные и психологические закономерности в истории американского общества. Важнейшим средством раскрытия того, что он назвал «высшей реальностью», была для него символика.
Л-ра: Филологические науки. – 1979. – № 4. – С. 32-37.
Произведения
Критика
- Готорн-рассказчик
- Историческая достоверность и символика в новелле Натаниэля Готорна «Кроткий мальчик»
- О символике солнечного света в романе Натаниэля Готорна «Алая буква»
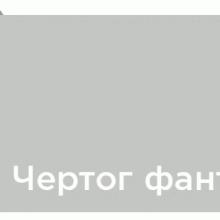
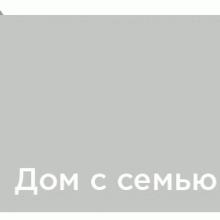
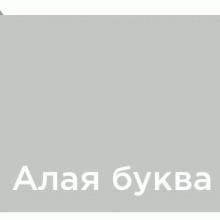










Поділитися