Р.У. Эмерсон и искусство поэзии
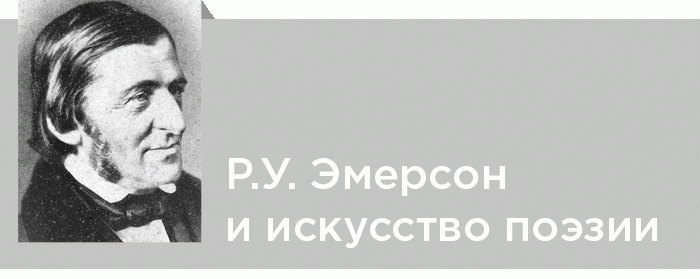
Т.Д. Венедиктова
«По рождению я — поэт, низшего класса, конечно, но все же поэт». Современниками его стихи оценивались сдержанно, считались «темными», неблагозвучными, — скорее, рифмованной, притом небезупречно, прозой. Это мнение оказалось живучим. Вплоть до середины XX в. литературоведы не проявляли серьезного интереса к поэтическому наследию Эмерсона.
Положение стало меняться в 1960-х годах, когда в США были опубликованы две работы, ныне признанные фундаментальными: «Преемственность в американской поэзии» (1961) P.X. Пирса и «Американская поэзия от пуритан до современности» (1968) X. Вэггонера. Монографии различны по подходу к материалу и методике исследования, но в одном из выводов сходятся: в процессе становления и развития национальной поэтической традиции Эмерсону отведена «стратегически» важная роль. «Эмерсон стоит у начала американской поэтической традиции», — писал, в частности, Вэггонер. В последующие десятилетия авторы ряда монографий и статей (Н. Bloom, L. Buell, R.A. Joder, Т.В. Lieber, D. Porter и др.) развивали этот тезис, по-разному, подчас субъективно, его интерпретируя. В отечественной американистике поэтическое творчество Эмерсона и его эстетические взгляды до сих пор специально не исследовались.
Задача данной работы — оценить своеобразие и значение Р.У. Эмерсона как теоретика и практика искусства поэзии.
Американский трансцендентализм, духовным лидером которого Эмерсон выступил в 1830-1840-х годах, как движение был аморфен, как учение эклектичен: отечественные традиции пуританизма соединились с мощным импульсом заокеанской романтической мысли, влиянием неоплатонизма, восточной философии, теософии Сведенборга и т. д. Эмерсон предостерегал от попыток определять сущность его учения, исходя из какого-либо одного или даже нескольких источников. Современнику, заинтересовавшемуся этим вопросом, он дал однажды такой совет: «Отбросьте все, что в вашем сознании обусловлено традицией, остаток и будет трансцендентализмом». Новейшие исследования подтверждают, что заимствованность, архаичность отдельных элементов трансценденталистского учения не только не исключали его самобытности, но сочетались с оригинальными попытками исследовать новаторскую по тому времени философскую проблематику. Доказано и то, что при всей «провинциальности» Эмерсон отнюдь не был изолирован от новейших веяний европейской мысли.
Учение Эмерсона об истине, постигаемой интуитивным, сверхрациональным путем, оформилось первоначально в 1820-1830-е годы как реакция на механистические концепции сенсуалистов (прежде всего Локка), авторитет которых в духовной жизни США того периода был незыблем. Впоследствии задача была им переосмыслена более широко и современно — в плане полемики с позитивистским строем сознания, быстро утверждавшимся в американской культуре. Вот почему, по меткому замечанию американского литературоведа Ш. Пола, «раздраженная мысль Эмерсона оказалась созвучной следующему за ним поколению, хотя коренилась в XVIII веке».
Трансцендентализм рассматривается обычно историками культуры как один из важных этапов развития романтического направления в США. «Только с приходом трансценденталистов романтический дух в американской литературе воплотился во всей полноте своих возможностей», — писал Т.Б. Либер. Запоздалое, сравнительно с Европой, рождение за океаном «романтического духа» заслуживает особого рассмотрения.
В силу своеобразия исторического развития США оптимистические иллюзии, универсализм мировосприятия, свойственные Просвещению и раннему романтизму, оказались здесь более живучими, чем в Старом Свете, — с одной стороны. С другой — социальное отчуждение, противоречия, характеризующие духовный статус уже вполне созревшего буржуазного уклада, здесь обнаружили себя рано, в форме «наглядной» и резкой. Все это не могло не сказаться косвенно и на литературном развитии. Творчество крупнейших представителей «Американского Ренессанса» (термин Ф.О. Матиссена) 1840-1860-х годов запечатлело высший взлет утверждающегося романтического мироощущения и почти одновременно отход от него, в направлении уже постромантического художественного сознания (как реалистического, так и нереалистического типа).
Это относится и к Р.У. Эмерсону, творческое развитие которого охватывает четыре десятилетия: 1820-1860-е годы. Период романтического бунта оказался сравнительно недолгим, по единодушному мнению исследователей, он ограничивается началом 1840-х годов. В произведениях Эмерсона 1850-1860-х годов явственно ощущается влияние позитивистской мысли, звучат мотивы, по пафосу близкие натуралистическому мировосприятию — пассивность перед лицом судьбы, примирение с обстоятельствами и т. д.
«Творческий расцвет Эмерсона-поэта, — пишет американский критик Р.А. Йодер, — совпал для него с периодом нарастающих сомнений и отчужденности». Поэтические размышления Эмерсона над общими проблемами бытия: отношениями идеального и действительного, субъективного и объективного, индивидуального и всеобщего — сводятся в целом к пессимистической переоценке устоев романтического мировосприятия.
В лирике 30-40-х годов Эмерсон утверждал величавый образ поэта как Орфея, Мерлина, Пророка (the bard, a crystal soul, sphered and concentric with the whole), в глазах которого пестрый мир становится «прозрачным». «Испытание для поэта — взять проходящий день с его новостями, заботами, страхами, как он их переживает вместе с другими людьми, и представить его на свет божественного разума с тем, чтобы прозреть в нем цель и красоту, связь с... извечным мировым порядком».
Лирический герой позднейших стихов Эмерсона — творец не столь совершенный: если и «бог», то «бог-калека» (“a cripple of God, half true, half formed”, “a dull uncertain brain”). Он не выдерживает испытания проходящим днем. Такова тема одного из лучших стихотворений Эмерсона «Дни» (1857). Вереница дней, закутанных в покрывала «дервишей», проходит мимо поэта, принося и унося прочь сокровища, так и оставшиеся неузнанными, неосвоенными человеческим духом, — на повернутом к нему лице уходящего дня герой ловит презрительную усмешку.
Способность и склонность романтического героя видеть жизнь в соотнесении с возвышенной и требовательной нормой идеала для позднего Эмерсона предстает сомнительным даром. С одной стороны, он продолжает верить в то, что мир обыденный, реальный тем самым в глазах человека чудесным образом возвеличивается, с другой — у него возникает мысль о «всепожирающем» (devouring) идеале, который «сводит все к далее несводимому», чем обесценивает доступный человеку мир явлений, делает его излишним и выморочным, как бесконечное, навязчивое варьирование одной единственной идеи. В стихотворении «Ксенофан» (1853) природа сравнивается с попугаем, на тысячи ладов повторяющим известное ему слово, с зеркальным лабиринтом, множащим огонек свечи.
В ранних стихах Эмерсона часто встречается традиционный для английской романтической поэзии образ эоловой арфы — души поэта, чутко улавливающей и воспроизводящей дыхание «космоса». Для молодого Эмерсона поэтическое вдохновение в его высшем взлете предполагает растворение в стихии бытия (I yielded myself to the perfect whole), слияние со «Сверх-Душой», универсальным духовным началом. Благостное самоотречение — путь к обогащению личности, вбирающей в себя целый мир.
В стихах 1850-1860-х годов мы чаще сталкиваемся с противоположной мыслью о роковой необходимости самообособления:
When I would spend a lonely day,
Sun and moon are in my way.
Человеческая субъективность трактуется уже не как врата к постижению универсальной истины (The infinite // Enbosomed in a man), а как тюрьма, вырваться из которой можно лишь ценой героического усилия. В стихотворении «Пределы» (1867) эта мысль выражена в сжатой афористической форме: человек в плену у самого себя, в жизни он способен читать лишь тот «текст», что запрограммирован его судьбой, темпераментом, обстоятельствами.
Присущая молодому Эмерсону вера в безграничность духовных способностей человека пошатнулась. Отношения лирического героя с миром принимают характер «оборонительной войны, борьбы с осаждающим Всем, которое грозит нас поглотить». В стихотворении «Синица» он один в пустом заснеженном лесу, как в окружении, в сжимающемся кольце осады: зимняя стужа — тысячерукий беспощадный враг. На помощь герою, готовому впасть в отчаяние, приходит «маленький поэт» — синица:
Here was this atom in full breath,
Hurling defiance at vast death;
The scrap of valor just for play
Fronts the north-wind in waistcoat gray.
Крошечный живой комочек хранит свое тепло, сопротивляясь всесилию зимы и смерти. Поэт извлекает из этого урок выживания, духовного самосохранения в отчужденном, враждебном мире, «противоядие страху»: сжаться, уйти вовнутрь, сосредоточиться в себе.
Мысль — последняя неотчуждаемая собственность и гордость человека. Но и с ней происходит парадоксальное превращение: освобожденная от «плена» обстоятельств, независимая, кажется, даже и от самого субъекта, она из собственности грозит превратиться в собственника-тирана:
Thought is the wages For which I sell days,
Will gladly sell ages And willing grow old
Deaf and dumb and blind and cold.
«Когда я слаб, я говорю о Судьбе. Когда Бог наполняет меня своей полнотой, я вижу, как Судьба исчезает». Отходя от романтического нормативизма, Эмерсон все более склоняется к пониманию истины как «величины текучей», субъективной, бесконечно изменчивой и неуловимой, как Протей.
Современность для Эмерсона — эпоха науки, философии, рефлексии. Она предъявляет свои требования и к искусству. Поэт должен догнать ученого в широте и зрелости мышления: «Естественные науки затмевают и подавляют многое из того, что называлось поэзией. Их великие всеобобщающие открытия из жизни природы требуют и от поэзии соответствующих высоты и размаха, в противном же случае грозят положить ей конец». Не в полноте лирического самовыражения, не в возвышенности тем и красоте описаний, не в совершенстве языка и стиля живет, по Эмерсону, душа поэзии, но именно в проникновенности и масштабности мысли. Последовательно проводя этот принцип в собственном творчестве, стремясь сосредоточить внимание читателя на интеллектуальном содержании поэзии, Эмерсон нарочито упрощал, даже огрублял ее форму, использовал простейшие поэтические размеры, привычные по детским песенкам и религиозным гимнам, допускал разнобой ритма и заведомые несовершенства рифмы. Стилистические красоты и музыкальный «перезвон», могущие стать препятствием между мыслью автора и сознанием читателя, допустимы с его точки зрения лишь в поэзии низшего сорта, той, что «годится только на глазурь для пирога».
Современники находили, что стихи Эмерсона близки к прозе. Его это не смущало. Союз прозы и поэзии он считал в современных условиях плодотворным: тем самым последняя освобождалась от условностей и проформ, в ней раскрепощалось интеллектуальное начало.
Подобное направление творческого поиска в контексте позднеромантического искусства середины — второй половины XIX в. не было, конечно, исключительным. Потребность привить искусству поэзии, — которое ранние романтики развивали по преимуществу в направлении стихийности, непосредственности, эмоциональности, — строгую культуру мысли ощущалась как насущная представителями разных национальных литератур (Арнольд, Браунинг, Мередит в Англии, Бодлер, Л. де Лиль во Франции, Тютчев в России). При этом Эмерсона, как и всех романтиков, интересует мысль не рассудочная, абстрактная,, схематизирующая, а та, что зачинается в глубинах индивидуального «я», созревает и рождается во плоти художественного образа. Философ, чтобы оказаться на высоте своих задач, должен, по его мнению, шире обращаться к формам художественного выражения: «Эти сложные формы позволяют ему выразить свое знание жизни косвенным путем... дать выражение текучим величинам и ценностям, которых никогда не уловит ученое рассуждение».
Поэт (подобно ангелу Уриэлю в одноименном стихотворении) видит мир, в котором нет прямых линий и жестких границ (“Line in nature is not found”): на взгляд непосвященного это сумятица и хаос, в действительности — непривычная, парадоксальная гармония. Мир открывается поэту как бесконечно густая сеть взаимосвязей и взаимопревращений: малейшее зернышко песка «может быть, представлено как центр творения, ось, вокруг которой вращается все». Стремясь подчеркнуть органичность, а главное «текучесть» взаимосвязей человека с миром, Эмерсон приходит к такой дефиниции: «...человек — это связка отношений, узел корней, чьи цветы и плоды — мир». И даже: «...человек — это метод... принцип отбора».
Творческий труд поэта, по Эмерсону, — форма приобщения к живительной диалектике бытия, к бесконечному празднику естественных «мутаций» (mutations) и «метаморфоз». Это также форма подвижничества — борьбы с духовным отчуждением, «проклятием» (blight) современного человека.
В метафоричности, изначально присущей языку, Эмерсон, подобно многим романтикам, видел свидетельство «кровного» родства, соединившего человека с природой и распавшегося по вине человека. Поэт заново открывает и восстанавливает родственные узы, и это ему тем более удастся, чем более он доверится внутренним, органическим потенциям языка, чем менее будет руководствоваться рассудочными правилами и канонами. Вывод: законом поэтического творчества должна стать абсолютная свобода воображения, купающегося в языковой стихии, обнимая предоставляемые ею бесконечные возможности выражения «текучей» правды жизни. Любая метафора, будучи художественно состоятельной может стать средством глубокого постижения бытия: «...в языке нет ни одного слова, которое не могло бы стать для нас воплощением природы в целом, если только придать ему должную весомость. Мир это Танцовщик; это Четки; это Поток; это Ладья; это Туман; это Паучья Западня; это все, что вам угодно, — метафора будет неизменно верной к доставит острое наслаждение воображению». В другом сочинении Эмерсон пишет: «Счастливо найденный символ (понятия «символ» и «метафора» Эмерсоном использовались, как взаимозаменимые. — Т. В.) — своего рода свидетельство в пользу истинности вашей мысли. Хороший символ или хорошая аналогия для меня предпочтительнее, чем одобрение моей мысли Кантом или Платоном... хороший символ — лучший аргумент, это миссионер, способный убедить тысячи».
Свой теоретический идеал Эмерсон сумел реализовать в поэтическом творчестве лишь в очень небольшой степени. Впрочем, даже и это немногое читателями-современниками было оценено скорее негативно. В силу своей повышенной метафоричности стихи Эмерсона представлялись «странными», «чудными»: «В его мысли нет развития, в его сочинениях нет связного течения». Непонимание если и удручало, то не удивляло Эмерсона. В дневнике он пишет: «Общество давится тропами, как ребенок при крупе. Оно предпочитает мистера Прозу и мистера Хрипуна опасным беседам Гавриила с архангелом Михаилом, в которой нарушаются все правила и вы то и дело скачете с земли на небеса».
Профессиональный оратор, Эмерсон, поскольку это касалось поэзии, был принципиально против риторики — той поэтической «элоквенции», которой впоследствии грозил «свернуть шею» Поль Верлен. Язык, на котором говорили и писали его современники, представлялся ему стертым, выхолощенным, в значительной мере утратившим поэтические потенции. Мысль поэта должна целиком, без остатка раствориться в конкретном, зримом образе, чтобы посредством него перейти в сознание читателя и в нем возродиться. Мысль в поэзии, — утверждал Эмерсон, — должна быть доведена «почти до уровня чувственности. Его (поэта. — Т. В.) слова должны быть картинами, его стихи должны быть сферами и кубами, они должны быть видимы, обоняемы, осязаемы». Этим требованиям отвечают только единицы среди стихов Эмерсона. На новом поэтическом языке, созданном им в теории, он заговорить не сумел. На страницах дневника он то и дело корит себя за скованность, недостаток эмоциональности и пластичности в выражении.
Впрочем уже теоретический идеал Эмерсона заключал в себе возможность эстетического парадокса. Он исходил из того, что идеальная поэма — это Истина, которая развертывается перед нами во всем своем богатстве посредством стихийного движения метафор. Однако не исключен в принципе и другой вариант: метафоры, нанизываясь одна на другую, лишь намекают бесконечно на нечто, долженствующее быть Истиной, может быть, и не существующее. В последнем случае «метод» становится чисто формальным, отчуждается от содержательного пафоса. На страницах дневника мелькает такая мысль: «...в сочинительстве что не имеет решительно никакого значения по сравнению с как». Теоретический рецепт абсолютно спонтанной, никаких границ не признающей формы мог обернуться и отрицанием поэтической формы как таковой. Не случайно один из американских исследователей сравнивает метод Эмерсона с «пожаром, пожирающим неистощимое количество горючего материала в форме бесконечной цепочки символов».
В развитии поэтического искусства США теория (и в меньшей степени практика) Р.У. Эмерсона сыграла роль своеобразного «катализатора». Переживание глубинной парадоксальности бытия, человека, творчества; попытки увидеть и представить истину в ее диалектичности и относительности; стремление сделать центром лирического выражения индивидуальную личность, утверждая эстетическую значимость ее эмпирического опыта; отмена границ между поэтическими и непоэтическими сторонами жизни; наконец, убеждение в том, что «двигатель» поэтического произведения — мысль, самовыражающаяся «косвенно», посредством образа, — эти и другие открытия Эмерсона явно восходят к романтической эстетике, но в чем-то и выходят за ее пределы. Нет, по-видимому, оснований считать Эмерсона прямым предтечей или тем более ранним представителем символизма (как это делает Ч. Файдельсон в книге «Символизм и американская литература»), или сюрреализма (как Р. Мишо в книге «Эстетика Эмерсона»), или новейшего антиискусства. Очевидно, однако, что будучи фигурой переходной, он оказался неоднозначен и в своем значении, и в своем влиянии. При его участии, усилиями во многом им воодушевленных У. Уитмена и Э. Дикинсон в американской поэзии второй половины XIX в. была осуществлена переоценка эстетических ценностей, до некоторой степени подобная той, что осуществили одновременно или чуть позже символисты в европейской поэтической культуре. Именно на этом рубеже американская Муза обретает язык и формы выражения, которые будут подхвачены и развиты поэтами XX столетия.
Л-ра: Филологические науки. – 1987. – № 1. – С. 66-69.
Произведения
Критика
- Некоторые проблемы изучения творчества Р.У. Эмерсона
- Р.У. Эмерсон и искусство поэзии
- Трансцендентальное учение Эмерсона и его литературная теория














Поділитися