Хижина, устоявшая столетия
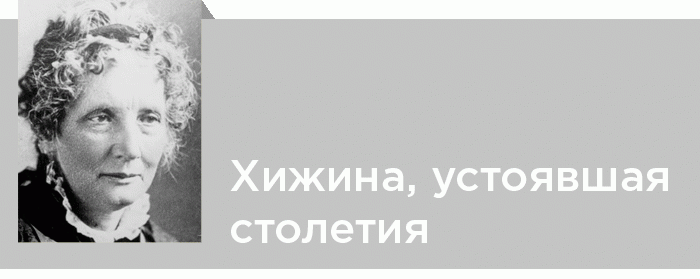
Р. Орлова
Второе столетие живет на земле «Хижина дяди Тома». Роман, написанный скромной учительницей из Цинцинати, вызвал при своем появлении в 1852 году такую бурю похвал, такой шквал проклятий, которые выпадали на долю немногих произведений мировой литературы. Книгой восхищались миллионы читателей в разных странах мира, ее приветствовали замечательные современники Бичер-Стоу — Герцен, Гейне, Лонгфелло, Л. Толстой.
Книга стала тезисом в дискуссии, оружием в борьбе против рабства. Президент США Линкольн, встретившись с писательницей, сказал ей: «Так это Вы — та маленькая женщина, которая начала большую войну?»
С годами остывала жгучая злободневность страстей, бушевавших вокруг книги. После гражданской войны рабство негров было отменено законом. Сменялись поколения. А книга продолжала свой путь. Теперь ее повсюду читают, преимущественно дети. Она и сейчас живет: разговаривает с нами, веселит или печалит, отходит на время и снова возвращается.
Почему так происходит?
Потому ли, что «вспышка ума и сердца Бичер-Стоу зажгла миллионы огней, помогла создать фронт врагов рабства и эти огни уже не могут погасить воды реки Миссисипи, в которых струится кровь рабов»? Так говорил Фредерик Дуглас, современник писательницы, негр, ставший борцом за свободу.
Что может быть общего у нас — людей иной страны, иной эпохи, по иному воспринимающих мир, — с истово религиозной пуританкой прошлого столетия?
Каждый по своему отвечает на вопрос, чем именно его волнует сегодня книга о давно прошедших событиях, в которой звучат давно умолкнувшие споры. Но в противоречивом множестве ответов возникает и то общее в восприятии книги, что объединяет читателей разных возрастов, наций, стран.
Главной язвой Америки в середине XIX века было узаконенное рабство негров на Юге. Тогда и кристаллизовались те неразрешимые противоречия, которые в конце концов привели к гражданской войне 1861-65 гг.
Против рабства выступили аболиционисты. Сейчас аболиционизм — один раздел в учебниках американской истории, а было это сложным, драматичным движением, рождавшим яркие характеры.
Первые аболиционисты были самозабвенными борцами за дело, казавшееся безнадежным. Их побуждали выступать против рабства не материальная заинтересованность, не чьи-то приказы и даже не надежда на успех. А только веления совести, только преданность идеалам добра и справедливости.
В
Началось с небольших кружков, клубов, сообществ. В 1831 году их в разных штатах насчитывалось около ста.
Чтобы стать аболиционистом, требовалось огромное мужество. Отец Гарриет Бичер-Стоу, Лимен Бичер, говорил: «Истинная мудрость состоит в том, чтобы отстаивать любое справедливое дело только в том случае, если община поддерживает реформатора». Так рассуждали многие. А в большинстве случаев общины вовсе не поддерживали аболиционистов. Более того, каждый, кто выступал против рабства, тем самым противопоставлял себя почти всем окружающим — родне, соседям, вчерашним школьным товарищам.
В 1835 году Конгресс США принял закон, запрещавший распространение аболиционистских изданий, а в 1836 году постановил отвергать, не рассматривая, все аболиционистские петиции, прошения и запретил впредь подавать жалобы или законопроекты, направленные против рабства. Конгресс штата Джорджия установил премию в пять тысяч долларов тому, кто доставит Гаррисона в суд штата. Газеты Юга изображали аболиционистов бессовестными разбойниками, грабителями, завистливыми тунеядцами, которые стремятся разорить цветущие плантации.
Тем не менее аболиционистское движение росло, становилось массовым. Противники рабства уже к 1837 году организовали 412 тысяч петиций, обращенных к правительству США с требованием запретить рабовладение. Более двух миллионов свободных американцев подписали эти петиции.
Одним из руководителей движения стал бывший раб, негр Фредерик Дуглас. Как Гаррисон и Филипс, Дуглас был прекрасным оратором, часто выступал с лекциями. С 1848 года стал издавать еженедельную газету, которую назвал именем боевой газеты английских чартистов «Полярная звезда». В газете и с кафедры он утверждал, что освобождение негров — общеамериканское дело.
Общественные порядки в США критиковали не только политически активные аболиционисты, а и многие писатели, богословы, философы. В частности, основатели трансцендентализма («трансцендентальный» — значит находящийся за пределами материального опыта) — Ральф Уолдо Эмерсон и Генри Торо. Они подвергли критическому пересмотру многие ходячие представления современников. Они выражали разочарование в буржуазном прогрессе, критиковали нравственные результаты этого прогресса. Эмерсон и Торо с горечью писали об «одичании души» людей, которые становились придатком к имуществу.
Бичер-Стоу жила в свободном штате Огайо в городе Цинцинати, где не было рабов, но в 1850 году Конгресс принял закон о беглых рабах. Теперь и жители северных штатов обязаны были ловить беглых негров и передавать их в руки хозяев.
Лучшие литераторы той эпохи возмущались: Эмерсон писал в дневнике: «Подумать только, что этот грязный закон принят в XIX веке людьми, умеющими читать и писать. Клянусь богом, я не стану соблюдать его».
Торо говорил: «Мои мысли убийственны для государства, они, независимо от моей воли, принимают враждебный для государства характер... Теперь я со всех сторон слышу голоса, призывающие попрать этот закон... Он рожден грязью, взлелеян в грязи и пребывает в грязи».
Законом о беглых рабах — этой победой рабовладельцев начиналась вторая половина века в США.
Гарриет Бичер-Стоу думала об этом сидя у колыбели своего шестого ребенка. Повторяя уроки со старшими детьми, читая с ними ежевечернюю молитву, она вспоминала о черных матерях и черных детях, искавших убежища в их старом доме в Цинцинати. Теперь их всех должны были хватать полицейские, заковывать в кандалы, отправлять на Юг... А ее братьев, ее друзей, всех, кто помогал несчастным, должны судить как преступников.
В начале февраля 1851 года Гарриет причащалась в домовой церкви в Брунсвике. И с ней произошло нечто странное. Она увидела: вот явственно, прямо перед ней, перед ее глазами распинают на кресте живого человека. Это была галлюцинация. Не первая в ее жизни и для истово религиозной женщины не такая уж необычная. Она вскрикнула от ужаса и сострадания... Так началась знаменитая книга — криком.
На кресте корчился в страшных муках большой черный человек.
Это был не просто мираж. Это художник увидел прообраз не написанной еще картины. Это писатель почувствовал толчок не написанной еще книги. Она сделала первый набросок и прочитала своим близким, прочитала неуверенно, словно страшась чего-то.
А 9 марта 1851 года она сообщала деловым тоном редактору еженедельника «Нейшенел Эра»: «Дорогой сэр, я пишу сейчас рассказ, который будет гораздо длиннее, чем те, которые я писала раньше. Это будет серия очерков; они должны представить свет и тени «патриархального порядка». Пишу о том, что видела я сама и о том, что видели мои друзья. Я намерена изобразить лучшие стороны рабства, быть может, лишь приблизиться к худшим... Мною движет призвание художника и моя цель — в наиболее жизнеподобной, графически резкой манере представить рабство...» «Длинный рассказ» по первоначальному замыслу был рассчитан на 3-4 номера.
Большинство белых американцев той поры просто не представляли себе иного устройства жизни и тем самым вольно или невольно поддерживали рабовладение. Для них рабы — неотъемлемая часть установившегося, охраняемого миропорядка. Противники рабства вызывали сомнения в разумности, в справедливости этого миропорядка. Люди, которые хотят жить в мире со своей страной, со своими соседями и со своей совестью, — таких всегда большинство. И они не допускают до себя опасных сомнений, не думают о жестокости плантаторов, о страданиях черных рабов. Поэтому — лучше же не читать аболиционистские листки, не брать в руки «Либерейтор».
5 июня 1851 года первая глава «Хижины дяди Тома» была напечатана, — напечатана задолго до того, как автор кончил книгу. И затем, в течение десяти месяцев каждую неделю Бичер-Стоу должна была сдавать в еженедельник очередную главу.
[…]
Публикацию последней главы издатель сопроводил таким заявлением: «Госпожа Бичер-Стоу довела до конца свое великое произведение. Мы не помним, чтобы какое-нибудь сочинение американского писателя возбудило бы такой всеобщий, глубокий интерес, как ее повесть». И это не было обычной рекламой своего автора. 20 марта 1852 года вышло отдельное издание «Хижины», распродали его за два дня. Первоначально предполагался тираж в пять тысяч экземпляров, но уже в первый день было продано три тысячи, а за три недели — 20 тысяч экземпляров. Успех, в том числе и финансовый, превзошел все ожидания.
Давно остыли страсти, бушевавшие в первые годы вокруг «Хижины дяди Тома». Тогда одни восхищались, другие неистовствовали, проклинали.
Но, как ни трудно бывает отвлечься от всего, сказанного раньше, попытаемся сегодня открыть «Хижину дяди Тома» как будто мы — ее первые читатели.
Мы попадаем в гостиную южного плантатора мистера Шелби, который запутался в долгах и вынужден расплачиваться рабами. Ему очень не хочется этого делать, он человек не злой, но иного выхода он для себя не видит. И соглашается продать лучшего своего слугу Тома.
Романы Вальтер Скотта — а на них была воспитана и Бичер-Стоу и ее читатели, — большинство американских романов середины прошлого века обычно открывались описанием места действия, предысторией героев. Бичер-Стоу вводит и предысторию и описание, но по мере необходимости. Противопоставлены два внешне различных характера. Но злой работорговец Гейли не может существовать без мягкого, снисходительного, жалостливого Шелби.
Гейли спрашивает, не найдется ли в придачу к Тому какого-нибудь мальчишки или девчонки. Шелби отвечает отрицательно. Однако «в эту минуту дверь открылась и в столовую вошел очаровательный мальчик-квартерон лет четырех-пяти. Во всем его облике было что-то необычайно милое. Тонкие черные волосы обрамляли шелковистыми локонами круглое, в ямочках лицо; большие, полные огня, темные глаза с любопытством посматривали по сторонам из-под пушистых длинных ресниц». Такие характеристики были стертыми уже в то время. Столетие тому назад литераторы «обрамляли шелковистыми локонами» лица детей и девиц, и «пушистые длинные ресницы», и «полные огня глаза» — все это было из расхожего словаря средней беллетристики. Этого в книге много, и в характеристиках и в описании природы. Это нравилось, да и сейчас нравится, многим читателям. Так неторопливо низались успокоительные строки.
Гейли восхищен мальчиком и просит продать Гарри. Шелби колеблется... «Будучи человеком гуманным, я не могу отнимать ребенка у матери». Но, оказывается, и у Гейли «все строится на гуманном обращении», и он противник жестокости. Просто надо куда-нибудь отослать мать Гарри — Элизу, пока он заберет мальчика, а потом подарить Элизе сережки. И не надо равнять негров с белыми: все они совершенно по-разному чувствуют. «Такое понимание принципов гуманности было настолько своеобразно и неожиданно, что мистер Шелби не мог не рассмеяться за компанию со своим гостем».
Внутренний смысл сцены передан в столкновении четко намеченных характеров и в самом предмете их сделки. Но Бичер-Стоу не полностью доверяет этим средствам. И она вмешивается в собственное повествование. «Может быть Вы тоже рассмеетесь, дорогой читатель? Но в наши дни гуманность, как вам известно, принимает самые разнообразные и весьма странные формы, а гуманные люди говорят и делают такое, что просто диву даешься».
Много раз на протяжении романа звучат прямые обращения к читателям. Публицистические страницы, порою целые публицистические трактаты, — неотъемлемая часть художественного сплава книги.
Однако задевала книга прежде всего не этими трактатами, а живыми картинами.
Служанке Элизе грозит потеря ребенка. Ее хозяину грозит неприятный разговор с женой. Так и в патриархальной усадьбе Шелби действуют две системы нравственных оценок: одна для хозяев, другая — для рабов.
В основе этих первых же сцен — убеждение писательницы в том, что черные люди, низведенные до положения вещи, способны, как и белые, ощущать радость, любовь, гнев, горе. Так думали и чувствовали в ту пору немногие. Не только для южных родичей Гейли, но и для северных родичей Шелби это были взгляды новые, беспокоящие.
С первых же глав читатель ощущает в книге два противоречащих друг другу настроения: это книга обычная, похожая на те, что уже читаны, — спокойное, благополучное чтение. И в то же время это книга, начиненная динамитом. Это и увлекательная книга. Драматически развиваются события, постоянно возникает все новое напряжение: погони, столкновения людей, резкие переходы от жестоких сцен насилия к бытовым зарисовкам, к мягкому юмору, даже к идиллии, — все это захватывало читателей.
«Из глади посредственного повествования, неряшливого, неизящного, выныривают характеры, наделенные необыкновенной жизненной силой, которая тем более поразительна, чем менее искусна проза, представляющая эти характеры» — так пишет о героях «Хижины дяди Тома» Эдмунд Уилсон, один из крупнейших и самых требовательных современных американских критиков.
Писатель, как путешественник, отправляется в плавание по глубинам душ. И если ему удается найти, открыть нечто новое, до него неизвестное, то созданные его воображением персонажи становятся нарицательными, т. е. он, писатель, впервые нарекает, дает имя определенному сочетанию человеческих качеств, как путешественник дает названия неизвестным ранее горам, рекам, морям. Бичер-Стоу это удалось. Писательница приводит нас к главному герою книги неторопливо, останавливаясь по пути, настраивая читателей, подробно описывая сад, цветы, обстановку в комнате, ее идеальную опрятность, литографии из Священного писания и портрет Вашингтона на стенах.
Лоснящееся лицо жены Тома, добрейшей тетушки Хлои, несравненной поварихи; милая, предвечерняя возня ребятишек. Это добрый дом, это уважаемый дом. После ужина сюда собираются негры из других хижин. Здесь поют песни. Здесь молятся. Обитатели этой хижины «знают свое место», как почтительно угождают они и самому молодому белому хозяину — тринадцатилетнему Джорджу Шелби.
И во время и после молитвы замедленно развертывается традиционное описание обстановки, в которую прочно, как бы навечно, вписан большой добрый негр. Это тоже настраивает читателей на приятие мира. Затем повествование переносится в городской дом, а после разговора супругов Шелби опять возвращается в хижину. И тут происходит взрыв: в хижину прибегает Элиза с сообщением, что Тома продали. И предлагает бежать вместе. Но он отказывается. «Если меня не продадут, тогда все пойдет прахом... Ну что же, пусть продают, я стерплю это... Хозяина нечего винить, Хлоя». Это слова раба, которому кажется естественным заботиться прежде всего об имуществе хозяина. Рабство не только цепи и наручники. Рабство — искалеченная душа.
Том считает, что хозяин и раб — существа разной породы и что позволено хозяину, то не позволено рабу. Он искренно думает и чувствует так же, как думали и чувствовали его отец, дед, прадед.
Впрочем, язык жестов несколько противоречит словам. Том «стоял будто окаменев. Руки у него так и остались воздетыми к небу... А когда смысл этих слов постепенно дошел до него, он рухнул на стул и уронил голову на колени... Том повернулся к кровати, посмотрел на курчавые головы ребятишек и силы оставили его. Он поник на спинку стула и закрыл лицо руками. Тяжкие, хриплые рыдания сотрясали его грудь, крупные слезы, стекая по пальцам, капали на пол». Приказать себе не испытывать горя даже этот идеальный раб не может.
Том очень добрый человек. Он добр не рассуждая, инстинктивно. Когда маленькая Ева упала за борт с парохода — на этом пароходе Гейли вез Тома с другими рабами на невольничий рынок на Юг, — он, ни секунды не колеблясь, первый кинулся в реку. Он менее всего думал о том, что может убежать. Он спасал ребенка.
Для Бичер-Стоу евангельский Христос был прежде всего очень добрый человек. И ее идеал — истинный христианин. Библия для Тома — часть его жизни, его дома, его семьи. Он не просто верит в библейские сказания, он видит, слышит, ощущает непосредственно все, что написано в Библии. Евангельский призыв — душу свою за други своя — для Тома не книжная премудрость, а закон его повседневного существования. Он сам следует этому закону и даже не представляет себе, как можно иначе.
Легри, третий хозяин Тома, выбросил его вещи из сундучка, выбросил и Библию: «Теперь вместо церкви мне будешь подчиняться. Понял? Теперь над тобой будет моя воля». И в ответ на это послушный раб сказал хозяину «нет». Пусть не вслух, а лишь про себя. Но сказал. Впервые в жизни. Сказал прежде всего потому, что не мог принять кощунственного пренебрежения религией. Но неосознанно это неприятие становится защитой личного достоинства. И вместе с решимостью защищать своего бога в Томе пробуждается стремление защитить и свои человеческие права.
В новых чудовищных условиях, на заброшенной плантации, где царит кулак Легри, он помогает другим. То подкинет горсть хлопку в корзину уставшей женщине. То уступит свою очередь на мельнице или сам смелет для других маис — жалкое пропитание рабов. То просто утешит добрым словом. Том готов сносить любые беды, пока это только его беды. Готов терпеть горькое разочарование: ведь Сен Клер так и не выполнил обещания, данного умирающей дочери, не освободил Тома. Но причинить боль другому человеку Том не может. И, когда Легри приказывает ему выпороть старую негритянку Люси, Том отказывается. Отказывается, зная, чем это ему грозит. «Мою душу не купишь ни за какие деньги! Вы над ней не властны». В решающем столкновении он по-своему восстает против бесчеловечности рабства.
Со времени первых изданий романа Бичер-Стоу сменилось несколько поколений. В ходе борьбы за освобождение и самоосвобождение негров от рабства и от наследия рабства возникло презрительное понятие «дядитомизм». Оно означало смирение, подобострастие, в сущности — сотрудничество раба с рабовладельцем. Герою книги Бичер-Стоу были свойственны и послушание и смирение. Однако Том предпочёл смерть выполнению приказа Легри.
Касси, невольница и любовница Легри, предлагала Тому убить крепко спящего хозяина. Но Том наотрез отказался. Он не мог пролить кровь: «Зло никогда не приносит добра». Писательница запечатлела трагическое противоречие. Ведь речь шла не только о Томе, но и об измученных его братьях: «Подумай, сколько несчастных получит свободу». Но Том не мог преступить через то, во что глубоко верил, не мог перестать быть самим собой.
Гарриет Бичер-Стоу во многом потакала вкусам своих читателей. Во многом, но не в главном. Ведь большинству из них хотелось бы, чтобы добродетель восторжествовала, чтобы дядя Том остался в живых, чтобы Джордж Шелби — сын первых хозяев Тома, который разыскивал старого негра и мчался с деньгами для выкупа, — не опоздал на два дня. Счастливый конец удовлетворил бы многих современников и потомков. Счастливо окончившуюся книгу закрывают с приятным чувством облегчения. Герой остался в живых, — значит, все не так уж страшно, все обойдется, все как-нибудь образуется. Трагическая кончина Тома — его апофеоз, его победа, единственно возможная для него в данных обстоятельствах. К этому шло все повествование, в этих завершающих страницах — его кульминация. Эти страницы не дают успокоения, примирения.
Дядя Том — герой национальный, американский негр середины девятнадцатого века, сын своего племени, своей эпохи. Но вот уже второе столетие, как он привлекает сердца людей на всех континентах, волнует и таких читателей, которые никогда не сталкивались с рабством.
Муж Элизы, мулат Джордж Гаррис, произносит именно те слова и совершает именно те поступки, отсутствие которых вменялось в вину Тому. Он убегает от хозяина. Он готов убить обидчика. Он стреляет в преследователей и ранит одного из них. Он обличает рабство. Он не верит в Бога. И он даже едет в Африку. И при всем том он не «выныривает из глади повествования», остается характером служебным. Названо и проиллюстрировано множество его добродетелей. Но нет живого человека, прорвавшего страницы и вышедшего к читателям.
Это соотношение характеров Тома и Джорджа определяется, конечно, и взглядами писательницы. Том ей бесконечно ближе, роднее. И мировоззрение писательницы проявляется в его создании сильнее и ярче, чем во всех публицистических отступлениях.
Эдмунд Уилсон утверждает, что «Хижина дяди Тома», при всех своих очевидных недостатках ближе всего к «Великому Американскому Роману». В ней есть «национальная широта, правдиво очерченные характеры, естественная речь и сильные чувства... Это картина американской жизни, набросанная несколькими резкими и страстными мазками, выполненная не очень тщательно, но все же передающая сходство».
Эта картина американской жизни прежде всего в самом буквальном смысле слова: люди тогда именно так одевались, так ели, так передвигались; комнаты были так обставлены, родители так разговаривали с детьми. Бичер-Стоу — бытописательница, досконально знающая то, о чем она пишет, умеющая изображать милую ее сердцу повседневность, У писательницы вещи характеризуют человека. Дом Офелии Сен Клер так же естественно выражает и продолжает ее характер, как беззалаберный, беспорядочный дом ее брата совсем иные человеческие типы и отношения.
Но в «Хижине дяди Тома» есть целостная картина страны и в ином, более общем смысле слова. В отличие от Англии, Франции, России, в Америке — стране с короткой историей — была бедная эпическая традиция. И то, что накапливалось в Европе веками, в США хваталось рывком. Роман девятнадцатого века по необходимости восполнял недостаток эпоса; сказочность и сказовость «Хижины дяди Тома» идут и отсюда, от некоторого историко-литературного вакуума.
Читательский интерес ни на мгновение не должен угасать, — этого автор добивается, используя самые распространенные, что называется, подручные материалы, — подслушанный разговор, переодевание, погоня, бегство, узнавание. В книге чередуются напряжение и разрядка, слезы и смех, высокая патетика и грубоватый юмор. Вот Элиза добежала до реки, свалилась в изнеможении в гостинице, — и писательница возвращает нас в дом Шелби, где убитая горем тетушка Хлоя тем не менее весьма искусно задерживает обед, и таким образом задерживает погоню за Элизой.
Зверски избитый, истерзанный дядя Том выдерживает нечеловеческие муки. Но читатели не могут так долго выдерживать эти муки. И в следующей главе писательница переносит нас в чистенькую, идиллическую ферму, где готовится побег Элизы и Джорджа.
Каждая из глав в известной мере самостоятельна, — например глава «Невольничий барак», в сущности, отдельная новелла. Вместе с тем в совокупности главы отбрасывают дополнительный свет друг на друга. Каждая глава заканчивается — должна заканчиваться — так, чтобы читателю захотелось купить следующий номер газеты.
Бегство Элизы через реку — одна из лучших глав книги. Опросите десять человек, в детстве прочитавших «Хижину дяди Тома», — и они вспомнят прежде всего эту сцену. Но писательница эксплуатирует однажды счастливо найденный прием, заставляя в конце романа Джорджа, Элизу и сопровождавших их людей прыгать через расселину в ущелье, — и повторность приема уже искусственна.
Начало пятидесятых годов — необыкновенно плодотворное время для американской литературы. В
Отстраненность Бичер-Стоу от литературы мешала ей приблизиться к живительным источникам литературных традиций и воспринять творческий опыт своих литературных современников. Это обстоятельство определило некоторые особенности ее прозы — наивное риторическое многословие, шероховатости стиля. Но эта же самая литературная неосведомленность и неопытность определили, окрасили самобытную силу ее и впрямь особняком стоящего художественного дарования, определили то значительное место, которое ее книга заняла в истории американской литературы.
«Хижина дяди Тома» напечатана точно в том виде, как впервые вылилась на бумагу. Не переделывалась, не переписывалась, автор не искал тех единственно верных слов, которые становятся долговечными.
Книгу Бичер-Стоу написала простую, общедоступную. Читатели той эпохи, узнавая свой дом, свою повозку, свой завтрак, радовались и успокаивались. Писательница изображала знакомый, устоявшийся мир. Люди обедают, как всегда, женщины примеряют платья и шляпки — все это успокоительно-вечно.
Линейность книги, ее черно-белая графичность вместе с простотой, обостренностью чувства справедливости и позволили «Хижине дяди Тома» стать детским чтением. Эта книга сразу же отвечает на вечные детские вопросы: плохой или хороший, добрый или злой.
Писательница широко использовала все приметы расхожей литературы вплоть до локона в ладанке. Локон Евы носил на груди Том, но писательница возложила на этот локон совсем уж непосильную нагрузку, заставляя Легри вспоминать, что такой же локон прислала ему умирающая мать.
Роман Бичер-Стоу — откровенно тенденциозная книга. Автор вмешивается, поучает героев и читателей, негодует, радуется, режиссирует. Она хочет завоевать читателей, она обращается не к аболиционистам, не к своим единомышленникам. Нет, она пишет для тех, кто вовсе не думает о рабстве или даже склонен мириться с ним, находить в нем положительные стороны.
Общий тон книги скорее мягкий. В самой интонации романа проявляется то же противоречивое единство примиренности и бунта, что свойственны и его идейному строю. Когда речь идет о рабстве, как только Бичер-Стоу касается унижения черного человека, превращенного в вещь, — тогда клокочет и вырывается наружу страсть, негодование, гнев. Она говорит белым матерям: «Если бы это был ваш Гарри или ваш Уилли, сударыня, и жестокий работорговец должен был бы отнять его у вас завтра утром, если бы вы видели этого человека собственными глазами и знали, что все бумаги уже подписаны и вручены ему, а на то, чтобы спастись бегством, у вас остались считанные часы — от полуночи до рассвета, — вы, думается, тоже не стали бы медлить!» Писательница хочет пробить брешь равнодушия. Для этого она призывает белых читателей поставить себя на место угнетаемых, гонимых.
Не только столетие спустя, но и тогда, в 1852 году, были люди, которые гораздо глубже понимали проблему рабства, чем Бичер-Стоу. Были выработаны теории, по сравнению с которыми изображение рабства в «Хижине дяди Тома» уже тогда было и наивным и неполным. Гораздо последовательнее, чем Бичер-Стоу, были вожди аболиционизма — Гаррисон и Филиппс. Документальная работа Велдов «Рабство как оно есть. Показания тысячи свидетелей» (один из источников романа) неизмеримо богаче фактами. Острее (и, часто, талантливее) многие страницы, посвященные рабству у Лонгфелло, Уитьера, Уитмена.
И все-таки именно книга Бичер-Стоу сыграла особую роль в борьбе против рабства.
В «Хижине» есть такой эпизод — дамы на пароходе разговаривают о рабстве:
Я была на Юге и доложу Вам, неграм там прекрасно живется. Вряд ли они могли бы так хорошо жить на свободе.
...надругательства над человеческими чувствами, человеческими привязанностями — вот что, по-моему, самое страшное в рабстве. Например, когда негров разлучают с семьей.
Да, это, конечно, ужасно, — сказала изящная дама, разглядывая оборочку на только что законченном детском платье. Но такие случаи, кажется, не часты. Увы, слишком часты!.. Представьте себе сударыня, что ваших детей отняли у вас и продали в рабство.
Как же можно сравнивать наши чувства и чувства негров, — сказала рукодельница, разбирая мотки шерсти, лежавшие у нее на коленях.
Следовательно, вы их совсем не знаете, сударыня, если можете так говорить... поверьте мне, эти люди способны чувствовать так же, как мы, если не глубже.
Ее собеседница проговорила, зевнув:
В самом деле? — и, выглянув в иллюминатор, в виде заключения повторила: — А все-таки в неволе им лучше».
Для Бичер-Стоу эта среда — ее родные, соседи, прихожане ее отца. Она хорошо знала эту среду изнутри и точно изображала. Потому многочисленные читатели могли сказать: «Это про меня. Это я так думаю сегодня или так думала вчера. Это я так заблуждалась вчера. Это у меня так начинали приоткрываться глаза».
Элиза, убежавшая со своим сыном с плантации Шелби, попадает в дом сенатора Берда. Сенатор только что вернулся из Вашингтона с той самой сессии сената, которая утвердила закон о беглых рабах.
Для Берда «беглый раб» есть юридическое понятие, есть абстракция. Ему не трудно было убедить себя (а быть может, и других), что беглый раб должен быть возвращен хозяину, и он голосовал за принятие закона. Но вот в дом Бердов попадает не «беглый раб», а измученная женщина с маленьким ребенком, молодая, красивая, с тяжело израненными ногами.
У миссис Берд нет и секунды колебания: конечно, укрыть Элизу, конечно, помочь бежать. Она стремится сейчас же, немедленно, нарушить закон, за который голосовал ее муж. Но и сам сенатор Берд, человек по натуре добрый, поворчав немного, везет Элизу в безопасное место.
Бичер-Стоу словно не доверяет читателям, не надеется просто убедить их в том, что негритянка, спасающая своего ребенка от рабства, достойна помощи... Поэтому она осложняет эпизод дополнительным сентиментальным мотивом: оказывается, супруги Берд недавно потеряли сына, и они отдают вещи покойного маленькому Гарри. Так обезоруживаются те немалочисленные читатели, для которых закон — даже и неправедный — есть закон.
В книге изображены три рабовладельца — добрый Шелби, не плохой, хотя и легкомысленный Сен Клер и негодяй Легри. Рабу Тому хорошо жилось у Шелби, Тому было не плохо у Сен Клера и Тома забили насмерть у Легри. Различия в характере трех рабовладельцев для личной судьбы Тома весьма существенны. Но ведь именно добрый Шелби отдал Тома в лапы Легри.
Все рассказанное и показанное в романе не просто возбуждает гнев против негодяя Легри и ему подобных, но ведет читателей к выводу: порочна система рабовладельческого общества.
Умные противники Бичер-Стоу не возражали против конкретных фактов. Более того, они с горечью говорили: да, у нас на Юге есть такие выродки, как Саймон Легри, но ведь это издержки системы. Человечество не нашло еще совершенного устройства общества, да и найдет ли? Рабовладение, быть может, не лучшая, но уж, во всяком случае, не худшая система. «Доводы госпожи Стоу и аболиционистов, — писал один из критиков-южан, — это доводы, бьющие по любому общественному устройству... Если эта книга и может что-либо доказать, она доказывает слишком много. Она доказывает, что всякий порядок, закон, правительство, общество — это насилие над правами и издевательство над чувствами...»
Роман критиковали и с прямо противоположных позиций.
На негритянском съезде членов партии фрисойлеров в 1852 году выступил священник Смит из Род Айленда. Его отец, раб, был убит при попытке к бегству. Смит говорил: «Сопротивление тиранам есть послушание Богу... неоценимое произведение госпожи Бичер-Стоу страдает одним недостатком — учит подчинению тирании».
Как это всегда бывает с книгами, задевшими самую животрепещущую струну, современники «Хижину дяди Тома» восхваляли или опровергали, как саму реальность. «В моем романе была цель, значительно превосходящая художественную, и потому книга вызвала такие требования читающей публики, которые обычно не применяются к беллетристическим произведениям. К ней относятся как к реальности; ее испытывают, изучают, судят как реальность; и, стало быть, естественно защищать ее как реальность».
Редкое, скрещение таланта — именно такого таланта — и общественного момента, подготовленности читателей к восприятию этой книги, ее насущная необходимость, — все это и привело к тому, что «кусок реальности» надолго удержался в сердцах людей.
«Хижина дяди Тома» жива и сегодня, ибо по-иному людей продолжали и продолжают эксплуатировать, насиловать и убивать.
Как против этого бороться, человек учится, когда он становится взрослым. Избирает теорию и тактику борьбы или неучастия в борьбе. Включается в различные движения протеста. И тогда понятия «сопротивление», «самозащита», «ненасильственное сопротивление» приобретают тот или иной конкретно-исторический характер.
Великому искусству действенной помощи людям и учит «Хижина дяди Тома». И в этом она нисколько не устарела.
В сознании читателя — особенно маленького читателя — остаются ведь не слабости Бичер-Стоу-теоретика и не ее сентиментальность. Остается тот неназванный человек, который протянул на другом берегу Огайо руку помощи беглянке Элизе с ребенком. Остается Том, который делится хлебом, силой, ласковым словом. Остается и укрепляется приверженность к несправедливо гонимым. «Хижина дяди Тома» учит доброте, а эти уроки универсальны, они нужны всегда и везде. Многие литературные произведения — ровесники книги Бичер-Стоу — казались современникам дворцами. Эти дворцы разрушились. А хижина устояла.
Л-ра: Литература в школе. – 1970. – № 5. – С. 11-21.
Произведения
Критика
- Гарриет Бичер-Стоу и её роман «Хижина дяди Тома»
- Дядя Том. Создание книги о рабстве
- Хижина, устоявшая столетия













Поділитися