Записки сумасшедшего
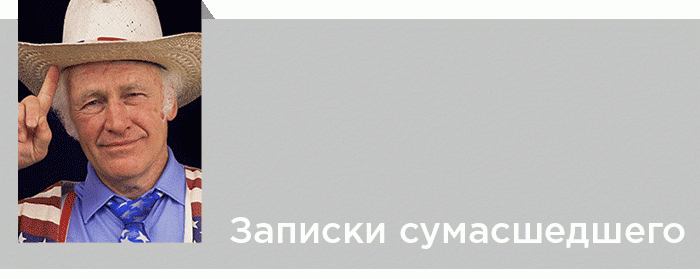
О. Алякринский
Вот и знаменитый роман Кена Кизи наконец пришел к нам, с четвертьвековым опозданием, — уже как литературный памятник.
В каждую эпоху художественной истории появляется несколько произведений, которым суждено быть сначала знаменем, а потом и зеркалом этой эпохи. «Над кукушкиным гнездом» — из этих книг. Роман, которым в 1963 году дебютировал никому не ведомый тогда прозаик, стал вместе с «Колыбелью для кошки» Воннегута и «Поправкой-22» Хеллера настольной книгой мятежной молодежи Америки 60-х. Литературоведы поторопились окрестить новый авангард 50-х — начала 60-х — а именно к этой линии современной прозы США принадлежит роман Кизи — искусством «варварского», «примитивного», «инфантильного» мирочувствования. Уж слишком вызывающей казалась безыскусная простота стиля и чудаковатая наивность видения мира, скажем, в романах-странствиях Джека Керуака или повестях-коллажах Ричарда Бротигена. И все же первое впечатление о прозаиках, превратившихся в кумиров студенческой Америки, как о самоучках, демонстративно презревших все законы и нормы литературного творчества, оказалось ошибочным. Американская неоавангардистская проза глубоко укоренена в национальной художественной традиции. И роман Кизи — насквозь литературен. При внимательном чтении здесь обнаруживается множество сюжетных мотивов, образов, «позаимствованных» молодым писателем у близких и далеких предшественников. Но есть, кажется, у «Кукушкиного гнезда» и непосредственный Прототип.
В новелле Эдгарда По «Черт на колокольне» поведана история о некоем райском уголке земли — городке, спрятанном от остального мира за кольцом непроходимых гор, в котором жили счастливые люди. Их блаженная жизнь текла строго по расписанию, исчисленному бегом часовой стрелки на курантах ратушной башни. С боем курантов здесь вставали, с боем курантов завтракали, обедали, ужинали, обсуждали дневные происшествия и отходили ко сну. Да и сам этот городок был возведен неизвестным архитектором по образу и подобию циферблата: одинаковые домики стояли по кругу, разделенному на шестьдесят переулков... Словно в насмешку над Томасом Мором, американский писатель создал сатирическую версию «наилучшего устройства государства», которую сам же и опроверг. Эта механическая утопия погибла, когда из-за горной гряды вдруг появился ухмыляющийся черт и сломал часы на ратуше...
При чтении романа Кизи эта новелла вспоминается не раз. «Кукушкино гнездо» — загадочная книга. То, что происходит в лечебнице для душевнобольных, вряд ли можно прочитать как достоверную хронику «трудов и дней» типичной американской больницы. Да, но что происходит? Рассказ ведет не Кен Кизи, а пациент «психушки», прикидывающийся глухонемым и явно страдающий психическим расстройством. Значит, все, о чем здесь идет речь, — шизофренический бред? Нет. Монолог «вождя» Бромдена невозможно воспринять только как фантазию сумасшедшего.
В том-то и суть романа, что (в этом и обнаруживает себя художественный замысел Кизи) будничная жизнь в нем предстает кошмарной галлюцинацией, а та в свою очередь — вымороченной реальностью. В «Кукушкином гнезде» четко определены пространственно-временные координаты сюжета: Средний Запад США, 1960 год, скоро очередные президентские выборы. И вот из этой достоверной, легко угадываемой реальности прорастает ирреальный монстр — лечебница для душевнобольных, предстающая как неприступный бастион Власти, и старшая сестра Гнусен, персонификация этой сверхчеловеческой и бесчеловечной Власти.
Больница, о которой ведет свой рассказ «вождь» Бромден, — воображаемый «портрет» Америки второй половины XX века, миниатюрная модель постиндустриального общества, где необратимо восторжествовали принципы рационального и целесообразного социального строительства. Не случайно рассказчик считает «психушку» фабрикой на огромном Комбинате, с конвейеров которого сходят непрерывным потоком штампованные изделия — люди. Разумеется, бывает и брак. Он и поступает сюда, в больницу, где «исправляют ошибки, допущенные в домах по соседству, в церквах и школах».
В этой своего рода исправительной колонии (вспомним Кафку) «бракованные» человеческие экземпляры доводятся до кондиции, до такого состояния, когда они не могут представлять угрозы для нормальной, рациональной и целесообразной работы Комбината. А достигается это просто — тотальным подчинением пациентов внутреннему распорядку. Вся жизнь больницы четко регламентирована. «Все, что люди подумают, сделают, скажут, расчислено на несколько месяцев вперед по заметкам, сделанным старшей сестрой», — поясняет «вождь» Бромден. И добавляет: если кто-то из пациентов вдруг сболтнет что-то лишнее или сделает что-то не предусмотренное программой, в большой вахтенный журнал на столе у старшей сестры должен тотчас поступить соответствующий сигнал от свидетелей нарушения дисциплины. Это важнейший принцип «починки» больных: пациенты сами следят за исправным исполнением всех предписаний персонала...
Обратим внимание еще на такую деталь: обитатели лечебницы находятся в бессловесном подчинении у чернокожих санитаров, что в условиях Америки самого начала 60-х годов воспринималось как вопиющий знак униженного ничтожества несчастных «сумасшедших». Но главное, из их душ жестоко и планомерно вытравляются все «патологии» — живые проявления человечности, для чего применяется широкий набор особых средств от «мозгобойки» до «отсекателя любопытства» и одурманивающих наркотиков. Больница, как не без гордости полагает старшая сестра, являет собой образец идеального жизнеустройства, где созданы все условия для комфортного существования. Этакая воплощенная утопия, в которой жесткий порядок обеспечивается не только спрятанной в стенах подслушивающей аппаратурой и постоянной слежкой за пациентами через стеклянное окно наблюдательного пункта, но и послушанием самих «больных».
Но это, конечно, антиутопия, удавшаяся попытка построить «идеальное государство». Больница в романе Кизи — угрюмый, пугающий мир, населенный не живыми людьми, а механическими куклами. И все, что происходит в этом псевдоутопическом микросоциуме, напоминает, по словам «вождя» Бромдена, «кукольное представление». Да и сама владычица этого кукольного государства, мисс Гнусен, мертвое, бесполое существо, — тоже кукла в облике человеческом, из нутра которой доносится «запах механизмов».
Образ механизма, «точной, смазанной, отлаженной машины», возникает всякий раз, когда рассказчик делится с нами впечатлениями о повседневной рутине этого адского рая. Кажется, что самая необходимая вещь здесь — часы: стенные часы в палатах, часы в коридорах, наручные часы у медперсонала. И разумеется, часы самой старшей сестры, с которыми она никогда не расстается — то теребя их в руках, то перекладывая их с места на место в своей сумке, где нет «никакого женского барахла, только колесики, шестерни, зубчатки, отполированные до блеска... иголки, пинцеты, часовые щипчики, мотки медной проволоки». А вся лечебница оказывается реализованной мечтой мисс Гнусен «о мире, действующем исправно и четко, как карманные часы со стеклянным донцем».
И вот в этот бесперебойно тикающий часовой механизм вторгается — прямо как черт у Эдгара По — возмутитель спокойствия, который нарушает, ломает выверенный и «расчисленный на многие месяцы вперед» порядок жизни больницы. Рэндл Патрик Макмерфи — архетипический герой американской литературы молодежного протеста, у истоков которой стоит «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. Макмерфи — литературный сородич героев Аллена Гинсберга и Джека Керуака. Он — «гражданин мира», исключивший себя из социальной иерархии и отвергнувший моральный этикет буржуазного общества. Вот краткий послужной список его деяний, которые и привели его в царство сестры Гнусен: возглавил побег военнопленных из лагеря в Корее, уволен из армии за невыполнение приказов, осужден за уличные драки и нарушения порядка... Он вечный бродяга, кочевник, беглец, не признающий никакой власти над собой: Макмерфи сам себе губернатор, и шериф, и президент, без обиняков заявляющий о своем жизненном кредо: «играть в карты, быть холостым, жить где хочешь и как хочешь, если люди не помешают».
Макмерфи то и дело провоцирует своих новых приятелей на поступки, не предусмотренные дневным расписанием, запрещенные и, так сказать, «антиобщественные». И сам он ведет себя вызывающе, эпатируя персонал и дивя пациентов. Он смачно рыгает, зевает во весь рот, вульгарно жестикулирует, чешется, громко разговаривает, оглушительно хохочет. Макмерфи — любитель пожрать, не дурак выпить, заядлый картежник, охоч до женского пола. Словом, гротескный герой, воплощение здоровой, живой жизни — той, которая убита в обитателях больницы старшей сестрой Гнусен. «За этим я и прибыл в ваше заведение, — балагурит Макмерфи, — развлечь и повеселить вас, чудаки, за картежным столом». Он и впрямь изо всех сил старается «развлечь и повеселить» — утопить эту мрачную обитель в смехе.
Макмерфи — носитель смехового взгляда на окружающий мир. И «вождь» Бромден с нескрываемым восхищением описывает этот завораживающий, всепроникающий смех, который сверкает «в глазах, в улыбке, в дерзкой походке, в голосе». Этот «черт на колокольне» — шут, валяющий дурака. Даже его мотоциклетная шапочка, нахлобученная на макушку, выглядит как своего рода шутовской колпак. Кстати, не случайно, что Макмерфи — ирландец, традиционный персонаж американских «дурацких» анекдотов.
И совершенно закономерно с появлением этого «рыжего шута» возникает мысль о карнавале, который Макмерфи берется затеять в лечебнице. Карнавал — тоже форма мятежа против угрюмой серьезности старшей сестры, «излечившей» своих пациентов от умения смеяться («Знаешь, чем сразу удивила ваша больница? — говорит Макмерфи одному из пациентов. — Тем, что никто не смеётся»).
Макмерфи появился в «психушке» не только как «черт»-разрушитель. Он пришел и как мессия — чтобы открыть людям глаза на безумие их нынешнего состояния, чтобы исцелить их от немоты и немощи духа, от отупения воли, от идиотизма покорного подчинения. Мотив спасительного самопожертвования иронически (шутовски) обыгрывается в сцене препровождения Макмерфи на его Голгофу — в «шоковый шалман», когда он, раскинув в стороны руки (имитируя распятие), принимает на чело терновый венок из электродов.
Ему удается выполнить свою миссию: он воскрешает в этой «напуганной компании» нормальные человеческие чувства. Под предводительством Макмерфи обитатели больницы совершили акт абсурдного протеста против диктатуры сестры Гнусен, усевшись у выключенного телевизора и демонстрируя свой отказ подчиниться уставу «психушки». И потом — когда Макмерфи вместе с двенадцатью приятелями (апостолами?) самовольно отправился на рыбалку...
Макмерфи в книге — главный герой. Но не менее важна и фигура «вождя» Бромдена. Не забудем, что автор записок о сумасшедшем доме — индеец-полукровка. Еще со времен Купера и Торо индеец в американской литературе стал олицетворением вольного, не стесненного социальными путами, состояния человеческого духа. Подобно марктвеновскому Геку Финну, Бромден на протяжении всей книги грезит о свободе, о побеге на свою «индейскую территорию» — в далекий мир детства, грустным напоминанием о котором вертится у него в голове навязчивый мотивчик детской песенки-считалки о гусе, пролетавшем над гнездом кукушки...
Он, «вождь» Бромден, и оказывается самым преданным и талантливым учеником рыжего бунтаря, который научил его способу вырваться из мертвого дома. Для этого нужно было всего-навсего суметь подавить слабость духа, ощутить себя внутренне свободным. Финальная сцена романа — бегство Бромдена из больницы — это, думается, чистая аллегория: ведь он проломил стену своего безотчетного страха, разбил вдребезги созданный в воображении призрак несокрушимой Власти сестры Гнусен.
«Вся Америка — сумасшедший дом», словно бы говорит Кен Кизи. Сумасшествие — не как медицинский казус, а как признак социального неблагополучия — традиционная метафора. Но у Кизи она наполняется новым смыслом. Раньше (вспомним двух знаменитых литературных «безумцев» — Гамлета и Чацкого) сумасшедшим объявлялся герой, обличавший безнравственность окружающего его мира. У Кизи сумасшествие становится атрибутом самого общества, которое уродует, калечит своих абсолютно нормальных граждан. И это безумие становится признаком ненормальности всей системы социального бытия, превратившегося в угрозу для человека. Впрочем, и такой вывод в начале 60-х уже казался тривиальным: метафору «безумного мира», идущую, кстати говоря, из поэтики сюрреализма, широко использовали непосредственные предшественники Кизи — битники (стоит вспомнить еще и блестящую сатирическую киноленту С. Крамера «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир», вышедшую почти одновременно с романом). Однако Кизи идет дальше. Он не только изображает ужасающий облик «сошедшего с ума мира», но и разгадывает его внутреннюю механику, показывая нам, что в создании этого «безумного мира!» участвуют и облеченные властью старшие сестры, и запуганные ими пациенты... Вот почему роман Кизи прочитывается не только как социальная сатира, но и как политическое моралите, дающее причудливое, но убедительное объяснение природы тоталитарной власти — этого навязчивого безумия нашего столетия.
Л-ра: Иностранная литература. – 1988. – № 9. – С. 234-237.
Произведения
Критика













Поділитися