Письма к издателям
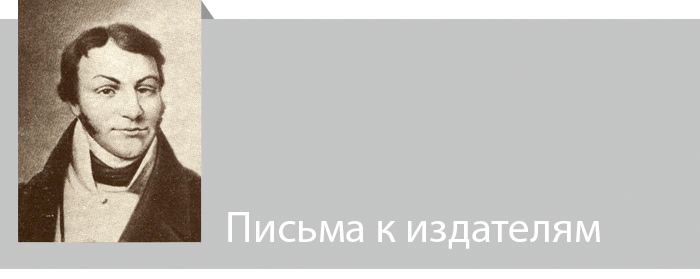
Вперше надруковано в журн. «Украинский вестник», 1816, ч. 1 (січень), с. 130 – 136, ч. 1 (лютий), с. 255 – 262; ч. 2 (квітень), с. 131 – 142; ч. 3 (липень), с. 224 – 236; ч. 4 (листопад), с. 250 – 263; 1817, ч. 8 (жовтень), с. 121 – 127. Підписано псевдонімом: «Фалалей Повинухин». Автограф невідомий. Подається за першодруком. «Украинский вестник» – журнал, що виходив у Харкові в 1816 – 1819 рр. Квітка був одним з організаторів журналу, але з 1817 р., після обрання предводителем дворянства, відмовився від участі у виданні «Украинского вестника», хоч продовжував друкуватись у ньому.
Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 2, с. 301 – 322.
1. Харьковский театр
Милостивые государи!
То ли дело жить в деревне! Не видав соблазну, не впадешь и во искушение. Мы там живем двое с женою очень согласно: жена моя капризна, своенравна, сердита, как злая женщина; зато я, как мужчина с 1000 душ, но с плохой своею, повинуюсь ей, слушаюсь во всем и угождаю. Все это в порядке вещей, и мы живем согласно. Единственное наше и ничем не прерываемое занятие: жена меня бранит, а я молчу; или я молчу, а жена меня бранит. В таких невинных и не вредящих ближнему упражнениях проводим мы большую часть года.
Но с наступлением Крещенской ярманки в Харькове согласие наше разрушается, т. е. я пользуюсь спокойствием за все претерпенное мною – и вот как: жена моя только лишь в Харьков, – как и пускается в модные и простые по вывескам магазины, бросает деньги и привозит оттоле большую кипу вздору, там продающегося, а я между тем сижу дома, смотрю за исправностию конюшни, женина стола, – принимаю или отказываю приезжающим и тому подобное; а по вечерам – только и то изредка – слышу: дурак и проч., как водится в супружестве. То ли дело в деревне! Там вечное однообразие. Не видав соблазна, не впадешь и во искушение; но у вас в Харькове попутал меня грех, и грех тяжкой – воровство, – вот как.
В один день принесли жене моей театральную афишку, в которой объявляемо было, что будет представлена редкая вещь. Тотчас она вообразила, что это должно быть: жена, любящая своего мужа или во всем повинующаяся своему мужу. Такое представление казалось ей неестественно, и потому она непременно захотела быть в театре. Немедленно выдано мне было 50 рублей с наистрожайшим предписанием – что ни дать, а ложу нанять, и в том непременно ярусе, где сидит-де все лучшее. Опрометью пустился я; но театра на старом месте не застал; искать, расспрашивать, и нашел его – по сказанному – подле острога.
«А! а! – подумал я сам в себе, – бесподобная мысль – устроить театр подле острога!» Это та же кружка для несчастных, в оном – т. е. остроге – заключенных. Входя в театр, нечувствительно вспомнишь: каково-то тем, т. е. заключенным? – и всякую сдачу в театральной кассе или в буфете предназначишь завтра послать в острог; и всегда станешь рассчитывать, – когда дирекции нужно будет сделать складку в пользу актрисы, – ведь актриса всячески может получать пропитание, а заключенные только чрез подаяние, – также, вместо складки, пошлешь деньги в острог.
Так рассуждая по простоте своей и не видя надежды, чтоб когда-нибудь было столько в моих руках денег, как теперь, – впал я во искушение и решился из сих денег нечто утаить. Итак, 25 рублей дал я за ложу, 15 принес жене обратно (к счастию моему, что жена по гордости не взглянула на цену местам в афишке, и мне пришла благая мысль тотчас ее спрятать); а 10 рублей посылаю к вам, милостивые государи, покорнейше прося, дабы вы, как обещались в объявлении своего журнала, потрудились принять на себя доставить сии деньги двум или одному содержимым за долги.
Пожалуйте, не строго разбирайте, честной ли точно выкупается человек, не пренебрегите даже виновного: я имею сострадательное сердце ко всем подобным мне людям; да и сам бог между честными людьми искупил меня и моего тестя! Не наше дело входить в рассуждение, какое из преступлений важнее. Но из всех содержимым в остроге более прочих имеют права на наше сострадание заключенные за долги. Часто человек, при честнейших правилах, стесняется обстоятельствами и становится наряду с бездельниками, – жена ж, дети ходят по миру!!! Уделите ж от ваших расходов, предназначенных для театра, частицу сим бедным, – и вообразите картину: человек, получающий обратно честное имя, возвращается в дом, жена бросается на колени, малютки, подняв ручонки, присоединяют свою молитву от сердца чистого и духа смиренного, кои бог не уничижит, – и все это о ниспослании щедрот его благотворителю их!!!
Вот чем занимался я, сидя в театре! Меня сгоняли с этой мысли рукоплескания только при дурачествах актера или при взвизгиванииактрисы выше точки возможности.
И в самом деле, тут не было редкой вещи. Худо играли, а зрители то и дело кричали: «браво, форо!» – Но это в порядке вещей; да притом же тогда, при моих мыслях, мудрено было и угодить мне игрою. Так кончился вечер; сколько убито денег за зрелище весьма обыкновенной вещи! Сколько получила актриса за то, что играла два часа редкую вещь! сколько бы на эти деньги помощи несчастным! О свет! о люди!.. Но, конечне, у всякого все идет своим порядком; в театр – то в театр; а благотворение такое не забывается. Притом же я не нравственность проповедую, а только описываю случай, как, желая подражать другим в благотворении и не имея возможности, украл денег для этого у жены.
Однако ж поместить письмо сие, кажется, не мешает в вашем журнале. Может быть, кто-нибудь и еще пришлет вам также деньги и для такого ж употребления, может быть, введется в обычай – всякую сдачу в театре отправлять в острог; может быть… да чего- не может быть у русских?! И вот тогда будет лучшая редкая вещь. Театр принесет, я насчитываю, пять польз: барыш содержателю, пропитание актерам, удовольствие публике, освободится- из заключения человек, часто безвинный, другой получит деньги – почти пропавшие, правительство избавится лишней переписки и хлопот! Имею честь быть и проч.
Фалалей Повинухин
15 января 1816 г.
P. S. Напечатав это письмо, не опасайтесь выговора от моей жены: она в журналах читает одни только стихи; а всякую прозу причисляет к учености, от которой удалена и даже боится ее.
2. Воспитанница
Милостивые государи!
Ну! попался я с своим письмом, как сом в вершу! Не успела 1-я книжка вашего журнала появиться в нашем околодке, как все соседи начали на меня указывать пальцами: «Это, дескать, ты, ты под именем Фалалея Повинухина вздумал отличаться! Напрасно скрываешь настоящее свое имя». – Ах, батюшки! Да разве может кто, не заикнувшись, сказать: моя жена выродок из женщин – зла, спесива, горда, сплетница и проч.? И сколько я знаю молодиц именно с такими достоинствами, но мужья при других превозносят их, как ангелов небесных: что же они в самом деле думают, о том разбирать не наше дело. Еще же, кто может не совестясь сказать: я раб жены? Всякой хвалится, что я-де дома то-то и то-то, и припишет себе такую власть, о какой дома и помечтать ему не позволят.
По сим толико важным причинам и я решился было имя свое скрыть, да и не узнали бы – но вот беда! от избытка сердца глаголют уста, и я, разболтал домашние тайны. (Редкой муж!) Притом, винюсь, и то еще было у меня в голове: не я ведь первый,, не я последний; и потому не воскликнет ли кто, прочтя письмо мое: «Уж не я ли это?» – Но нет! ошибся в расчете: по описанию домашней жизни моей все соседи меня узнали.
Им нечего греха таить; виноват. Не выдайте только перед женою. Соседи обещали, я успокоился, все затихло, тем дело и кончилось… Да! ведь одни добрые соседи знают настоящее мое имя, а далее никто; так зачем же открываться? Я для вас, гг. издатели, и для публики остаюсь под прежним именем. И что может быть приличнее? Что я Фалалей – то уже доказано, и никто против того не поспорит; а что Повинухин, то еще больше докажу, когда в часы величайшего гнева жены моей стану, уединясь в свой кабинет, описывать вам важнейшие приключения моей жизни. Я их скоро кончу; потому что, по выше изъясненной причине, буду иметь досуг писать в сутки 12 часов.
Написав, вам же пришлю; вы это помещайте уже где хотите. В статью о Науках и Искусствах? – Годится: в моих записках много будет наставлений, как научаться терпению и искусству отмалчиваться, когда без вины виноват; а через это много выиграют носящие брачные узы. В «Живописную прозу»? – Не испортит: все шалости братцев моих и проказы сестриц, а притом мое благополучие в супружеской жизни живописны. В «Детское чтение»? – Преполезно: многие дети узнают, как свои шалости переводить на других и как забавно шутить над учителями. В «Смесь»? – Не может быть лучше: такую смесь, как моя жизнь, вряд ли вы еще где найдете. В статью о благотворениях или в известия о несчастных? – Нет ничего приличнее: может быть, кто-нибудь из читателей, прочтя, вздохнет из глубины сердца и скажет: вот равный мне в несчастии! А этого разве мало для страдальца? – В «Стихотворения»? И туда, пожалуй: мой батька Трифан, учившийся в семинарии 10-ть лет назад, написал мне стихи на день пасхи и потом каждый год их – то задом наперед поставит, то с боку на бок переворотит, то стопы и рифмы перековеркает и всегда мне их подносит как новые: хотя материя все та же и толку по-прежнему не добьешься; но – очень приятно иметь в деревне собственного стихотворца. Ну, так мы с ним, недельку посидевши, пришлем к вам и на рифмах. Однако о моей истории после. Теперь я вот чем вам буду докучать.
Брак наш детьми не благословился, – и, конечно, за наши прегрешения, но у жены моей есть воспитанница, давно уже взятая. Кто она и откуда, малютка не знает, а кто знает, тот молчит; в числе сих и я: полагаю также, что и жена моя о том небезызвестна. Одним словом, она возлюбила ее как родную дочь свою, а я – нечего греха таить – как падчерицу. Девочка будет большая плутовка, потому-то нам и хочется воспитать ее как должно. Жена не велит мне ничего жалеть на это и сама тратит много.
Ей минуло только еще 14-ть лет. а уже играет на флигеле 24 штучки; есть и голосок: мой пономарь, бывши в семинарии, ходил в певческую и, затвердя, что ут и что соль, учит ее теперь пению; и таким образом в храмовой праздник пищит она на крылосе с резко-голосыми моими псарями хоть бы куда и уже на вариации поднимается. Кроме церковной печати, все песенники она читает и кое-что для примера знает наизусть. Над писаньем мы ее не мучим: жена моя говорит, что писать ее научит сама натура, когда придет время. О рукоделье и хозяйстве мы и не помышляем; к чему девку приучать к низким занятиям? У ней же будет свой кусок хлеба.
При таком воспитании чего бы, кажется, ей недоставало? Но вот что сокрушает мою жену: иностранное-то она еще ничего не знает; хоть бы болтать немного приучилась. Ну что с нею без того? Вывезем в люди, а она будет пень пнем! С воздыханием сердечным я прибавляю: так, матушка, правда твоя! (да и когда была ее не правда?) Итак, милостивые государи, к вам теперь обращаюсь. Знакомых у меня в Харькове нет никого, а надобно вызвать желающих.
Газет у нас нет; потрудитесь чрез ваш «Вестник» известить, что нужен-де к такому-то иностранец – учить дитя по-французски. А вот вам и след: к нам на квартиру в Харькове приносил хлебы продавать один иностранец, и, кажется, француз. Потрудитесь отыскать его и поговорить с ним, не согласится ли он? Вот кондиции: жалованья в год от 500 до 1000; стол, чай и проч., все с нами; одевать будем, как прилично; особая комната, прислуга и экипаж – куда и когда захочет. Должность его: Дуняшу в два года выучить болтать хотя употребительные в публике слова; до правильного выговора дела нет – в свете понатрется. Когда г. мусье может учить читать – то хорошо; а когда нет – то и не нужно. Булочницу моей жены выучить по-своему печь хлебы; по вечерам с женою раскладывать гранду а пасьйон. А в пользу мою только и прошу, чтоб, псаря Яшку поучил, как запаривать корм собакам: француз должен все знать; а Яшка – вор, переморил у меня смычка четыре что ни лучших.
Когда г. мусье на все сие согласится, – то пусть приезжает в село… Он очень понравился жене моей. Да уж и проказник же, и весельчак, и преострая голова! Мы его ни слова не понижали; однако ж премного хохотали, когда он нам что-нибудь рассказывал по-своему. Нет – таки видно, что умница! Уж француза тотчас приметишь. Поспешите, батюшки, опубликовать о моей надобности. У девчонки время уходит, жена моя скучает, а я все так же, как и был, и проч.
Фалалей Повинухин
Февраля 8 дня 1816 г.
Село… очень известно, и потому не скажу.
Примітки
Флигель – старовинна назва рояля.
Ут – латинська назва ноти «до», вживана у XVIII ст.
«Вестник» – «Украинский вестник».
…раскладывать гранду апасьйон… – тобто розкладати пасьянс.
смычок – пара гончих собак одної породи, але різної статі; підбиралися за зовнішнім виглядом.
3. Француз-мажордом
Милостивые государи и любезные месье!
Же ву мерси, что вы мои письма вывели в люди; примите уж и вот это, совсем особенного содержания от прежних, порадуйтесь моей радости и счастливому обороту в моей жизни. Вы скажете: со святыми упокой жене моей? Нет: она жива, здорова, весела, добра – и это истинно.
Чего не сделают французы! Правда, что легче было им овладеть Москвою, нежели переменить нрав моей жены: но они и в том успели. Вот как: скучал я вам, да и скучал о французе-то; ждать-пождать, нет ничего. Уж и «Вестника» вашего везде начитались, а хлебник не бывал; да и вы в ответ мне ни одного словечка: ожидать ли или нет.
Вот я и тужу, тужу; вдруг вечером входит человек, бедно одетый, видной, стройной, ловкой и, следовательно, умной; начинает худым русским языком просить позволения переночевать в доме. «Милости просим, от хлеба-соли не отказываем; мы, русские, любим и врагов ухлебить. Ваша честь, кто таковы?..» – Тут он с полчаса высчитывал свои прозвания и родословную; вышло, что он старой французской граф, а новой барон; повредив нечаянно лапку постельной собачки, принадлежавшей любовнице камердинера секретарского, который служил при докладчике первого министра, был он сослан куда-то, подобно как у нас в Сибирь; потом, когда покойник Наполеон вышел в люди, то и все ссылочные стали также в чести, п он опять достал себе через несколько чинов один огромный. После замирения пустился вояжировать; а неподалеку от нашего села люди его бросили, уехали, и он остался почти как при рождении своем; вот в коротких словах его длинная история.
Привстал, я после сего и, сняв долой свой колпак, просил его сиятельство садиться; а между тем, велев зажечь другую свечу, пошел докладывать своей жене о вновь прибывшем госте. После обыкновенной перепалки и выговора, зачем всякую дрянь оставляю ночевать, вышла и она к нему. А сказав слова два-три, заметила, что гость этот человек бойкой. Вот мы и пустилися в расспросы про его землю и про другие иностранные. Рассказы его полились рекою, хотя мутною от смеси французского с русским: то усядется он на корабль, то верхом поскачет, то в плен попадется, то армиею закомандует – словом, вышел золотой человек.
Из сего разговора узнал я в первой раз в жизни, что в каждом государстве разные нравы и обычаи. Ведь чудеса же на свете! Кому бы пришло в голову заметить это? А француз не пропустил. Между тем вошла Дуняша; он к ней с поклонами да с приветствиями; она стала втупик, и я взялся вывести ее из замешательства. «Не погневайся, мусье, девка-та еще необразованна и не умеет сказать по-вашему учтивого слова». Как вскрикнет мой граф по-своему – и понес свою аллегорию! Я думаю, что нам тут досталося; потом прямо по-русски упрекал нас, что мы губим девку, не воспитывая. Жена обрадовалася случаю браниться и давай всю беду на меня сворачивать, а я – прошу не погневаться – своротил ее на вас, гг. и рассказал, как дело было.
Тут-то он вас пожурил за невнимание к нуждам своих собратий, тем больше что француза в каждом городке можно найти. При сем и я пробормотал про себя старинную пословицу: правда, ведь француза и фальшивую монету черт носит по всему свету. Наконец, кончил он тем, что, размышляя с полчаса, вызвался, – не хотим ли мы его иметь учителем? Меня обдало холодным потом. «Батюшка ты мой, г. мусье граф, ваше баронское сиятельство! Да как нам про этакую честь и подумать? да чем мы вам платить будем?» – «Фуй, платить. Я человек благородной и в состоянии сам дать вам жалованье; я буду учить ее из жалости, без всякой платы. Но чтобы не унизить чести великой нации, будто французы могут чем-нибудь жертвовать или служить из куска хлеба, – я стану брать у вас в год 2000 рубл. для моего камердинера. Ни слова больше не смейте мне для него предлагать; я вас уверяю, что он из честолюбия больше не возьмет».
Итак, ми. гг., недуманно-негаданно, – а у нас очутился учитель, да еще и без платы, да еще граф и барон! Нечего делать; с знатным не тяжись, а особливо наш брат, не умеющий и подступить к ним. Однако ж подлинно французы редкой народ! Посудите: знатной вельможа вояжирует, находит необразованную девушку, забывает все, чем он обязан отечеству, славе, и – остается жить в семействе, с которым едва выпил чашку чаю, и то без рому! Нет таки, правду сказать, великая нация, великие люди! Прошу же покорно наших русских посмотреть: не распознаешь, сударь, графа от простого дворянина иначе, как только по пашпорту или по бумагам; все так просто, так незатейливо. Нет, не скоро мы еще будем подобны французам; хотя и крепко хотим все перенять у них!
Первая наша материя кончилась обоесторонним согласием; но для графа учительской должности показалось мало. Расспросив о наших доходах, ужаснулся он, услышав, что мы получаем только по 50 руб. с тягла. «Как! – сказал он, – мужик платит оброк? Нет, дай все, что имеет; оно все господское, как и он сам». И ведь это сущая правда! Иначе мужик забудется. Я согласился и в сем, по манию жены моей, с г. мусье; а он, по великодушию своему, взялся управлять всем нашим имением. Таким образом, мы разошлись по своим комнатам в совершенном согласии.
По утру я сдал ему все свои записки и наличностию 12 800 руб. Г-н же барон с своей стороны дал мне уверение, что он поворотит деньгами и что они у него лежать не будут. «Голубчик ты мой, – воскликнул я от радости и поцеловал его за ушки, – делай, что тебе угодно; ученому книги в руки». – Он немедленно осмотрел дом и отвел себе три комнаты, бывшие прежде моими; а мне назначил внизу буфетчиков чулан – довольно бы покойной, если бы не было по соседству его катка. Потом созвал всю дворню, приказал барыню называть мадам, Дуняшу – мадемоазель, меня – Фалурден [Не тот ли же Фалалей, да только по-французски?.. – Falourdin?], а себя – мосье Леконт.
Из кучеров выбрал самого ражого и назначил дворецким; псарей моих произвел в официанты, а из деревни 20-ть парней, видных собою, взял в лакеи и расставил у каждой двери по три лакея; – умереть надобно со смеху, как он их школит; чуть не так затворил или отворил дверь – так и оплеушина, а подчас и на конюшню. Да правду сказать, уж в такой привел все порядок, что его больше боятся, нежели меня – своего настоящего господина. Хлебопашество хочет он бросить; и в самом деле, как он мне рассказал о трудах и времени, потребных на получение четверти хлеба, так я ужаснулся, мне прежде об этом и в голову не приходило.
Вместо того предполагает он завести кружевную фабрику; – и какой доход будет! Есть кружева по 500 рубл. аршин; так прошу же покорно на хлебе такой барыш взять. Итак, по совету мусье, я закладываю деревнишку; а деньги он куда-то пошлет на нитки и машины; потом засажу всех крестьян за кружева, и коли в Успенскую чуть увидите даму, всю закутанную в кружева, – то знайте, что это моя жена. Тысяч на сто, по уверению его, будет и к продаже. Каково это? Ведь у меня тысячи душ обоего пола, да у каждой души по две руки; так несколько аршин в день выкинут – и деньги лопатой греби. А гам со временем, верно, и еще он придумает что-нибудь к нашему благополучию.
Что же, подумаете вы, он с Дуняшей сделал? В первой день, как с ней занялся, собрались мы вечером пить чай; вот он входит с нею; она вдруг отпустила книксен – да какой же? хотя бы первая танцовщица у вас на театре. Не успели мы прийти в себя от удивления, как вдруг она преобстоятельно сказала: «Бон соар!..». Слезы радости брызнули в мою чашку, и едва не уронил я трубки! – «Велика милость твоя, мусье Леконт! чем нам тебя благодарить?» И вообразите, в один день столько успехов!
Но верх его ума и наилучшее дело то, что он, хотя и с трудом, успел переработать нрав жены моей! Между прочими уроками сказал он ей, что на мужей никогда не должно сердиться, равно как на шутов, собачек и т. п. – и чуть ли это не правда?! Теперь, вместо дурака, нет мне другого имени, как Фаля – от французского Фалурден. Я ничем теперь не занимаюсь, а потому ни за что и не отвечаю. Призывают меня только к столу и чаю. Граф поминутно говорит с женою, – следовательно, ей некогда и взглянуть на меня; и, стало быть, я остаюсь в ненарушимом покое.
Вот о чем должен был к вам писать, мм. гг., и похвалиться своим счастьем. Многие позавидуют перемене моей участи, Хотя жена моя и здравствует. Что ж? средство известно; пусть умеют им воспользоваться. Итак, по отпуске сего письма нахожусь, как я и сказал вам, а вперед надеюсь лучшего. Мусье Леконт обещает в скором времени привести меня в такое состояние, каким наслаждаются не многие помещики и во Франции; да обнадеживает, что и правительство будет обо мне знать. То-то человек! Правда, он много заставляет меня занимать денег; но, верно, воротит их с барышом. Все берег и посылает в Москву, неизвестно на что; а на вопрос мой всегда отвечает: «О! будет штука, будет штука! Душа моя заранее веселится!» – Между тем обоз его пропал, и ни слуху ни духу нет. Как же, думаете вы, переносит он это несчастие? Хм! редко великодушный человек! все его деньги, бриллианты, бумаги, все-все пропало; а он и не вздохнет: да еще и заботится только о своем камердинере – 2000 рубл. уговорных за учение взял сполна и после того хотя бы помянул о них; конечно, великая душа его не попользовалась из них ни одной копейкою.
На первой раз, пока привезут ему из города новое платье, взял он мое; взял также часы, табакерку и прочие вещицы, а я хожу в его сертучишке; зато, однако ж, обещал он мне новую пару. В ученье у него редкая манера: так или не так, – все хорошо, все хвалит и ласкает Дуню; а чрез то будет она скоро великая мастерица, ибо лучших молодых ребят взял еще из деревни и заводит роговую музыку; говорит, что заняться сим особенно – есть дело мадамино и ей стыдно, что муж ее не при рогах обедает. И надобно отдать ей справедливость, она много старается исправить сей недостаток. Вот пришло время, что и мы в чести. А за все это обязаны французу. В благодарность ему подхватил и я на старость несколько французских слов, как видите в начале письма.
Итак, месье, вот вам моя радость! Порадуйте ею и тех добрых людей, кои принимали во мне участие. Адье!
Есьм, как и был, только с небольшою переменою:
Фалурден Повинухин
15 апреля 1816 г.
С будущей кружевной фабрики
P. S. Вы ничего не говорите о вашем согласии на описание истории нашего дома; я ж имею теперь большой досуг. Почему, принимая молчание ваше за согласие, примусь тотчас за дело и скоро пришлю вам наставительную историю. Поверьте, что писать стану не из хвастовства, а желая больше всего служить примером другим мне подобным. И если не образумлю их насчет счастливой жизни, так, может быть, предостерегу других: ибо знаю, что многие желают себе такого счастия.
4. Госпожа Вопиюхина
Пардон, месье! мил пардон!
Я так захлопотался в своих праздных делишках, что и забыл было о своем вам обещании. Но чего не бывает на свете? Да и я ведь уже теперь не простой русской помещик, а познакомился с французским просвещением; так держать свое слово верно, как собаку на привязи, было бы для меня стыдно. Однако ж я не варвар и не могу быть неблагодарен к вашим одолжениям; вам, вам, месье, и вашему почтеннейшему журналу обязан я настоящим положением дел моих! Не будь его на свете, не доставь он мне случая познакомиться с Леконтом, – и жена моя вечно бы меня бранила, Дуняша была бы дура дурой, я ни за какие деньги не выбился бы из Фалалеев в Фалурдены, мужики мои богатели бы – да и только. А теперь? какая разница теперь!..
Пожалейте, однако ж, со мною о мусье Леконте: ему день и ночь нет покоя от беспрестанных трудов! Да и подлинно, – не человеческого ума и сил надобно, чтоб переделать наших глупых мужиков во что-нибудь порядочное. Сколько на него роптаний за то, что велел вовсе бросить хлебопашество как господское, так и свое; скот весь продал; вино, хоть вполовину дешевле, да оптом сбыл! Но то ли дело гуртовая копейка! и деньги все уже пущены в оборот. В ожидании, пока привезут машины и нитки для кружев, все мужики то сад обрабатывают, то пруды чистят. Да уж как же и ворчат на него! «В нищие, дескать, нас пустил!»
А того не понимают, глупые, что всякой из них лет через 10-ть может выйти сам кружевным мастером и жены их будут в поан де л’ансонах. Да что об них и говорить. Наши крестьяне неучи есть и будут. «Лишь бы-де хлеб родился, да скот водился, так мы и богаты». Уж какие ограниченные желания и самые мужицкие!.. Нет, батюшка, послушайте-ка г-на мусье, что он рассказывает про своих: он говорит, что там всякой из них пейзан, это ведь не шутка! Для примера сообщу при оказии вам отрывки наших разговоров о политике; тогда-то вы отдадите долг справедливости сему великому человеку.
Теперь скажу только, что уже видны и плоды оборотов деньгам моим; мусье Леконт выписал для меня из Харькова стенной календарь, а для моей жены и Дуняши множество коробов с косынками, платочками, кусочками и проч., и проч. А чтоб больше успеть в их образовании, то пригласил он из Москвы свою родную сестру, по прозванию мадам Пур-ту, преловкую, пресветскую и превеселую женщину. Тут позвольте заметить истинно французскую любовь к своей собратии: из обращения Леконта с мадамою заключаю, что она ему не родственница – или, по крайней мере, очень дальняя родня; так не человеколюбие ли это? не хотеть пользоваться одному жизнью в нашем доме, а разделить ее и доставить нам счастие кормить еще и другого!
Итак, лишь только вошла мадам в горницу, лишь увидела нас, – то и захохотала. Так-то наши деревенские рожи на людей не схожи! Потом она принялась за образование: начала с жены, засадила ее в такую шнуровку, что бедная, – ей! по человечеству говорю, – едва дышит; остригла волосы на голове почти догола; напутала всякого вздору и – между нами будь сказано – сделала ее похожую на пугало в горохе. Дуняшу также завинтила в шнуровку и – нельзя сказать, одела – а, правильнее скажу, раздела: потому что руки, шея, грудь и многое кое-что у ней открыто и не закрыто. Зато ведь уж в последней моде; где бы нам это без французского просвещения увидеть!
Она не учит Дуняшу ничему, кроме французских романсов; и дитя, играя и припевая, выучивается болтать хоть бы куда! Жена моя также кое-что переняла и за ними подтягивает; да и я сам, хотя слов не знаю, а многие голоса вытвердил и в публике с ними мурлычу. Я говорю в публике, потому что у нас теперь съезд не на шутку. Кроме жены моей, мадам Пур-ту, мусье Леконта, Дуняши и меня – пожаловала к нам и вселюбезнейшая теща моя г-жа Вопиюхина с дочерью своею, сущею еще в девицах.
Намереваясь делать описание жизни моей, не лишним считаю познакомить вас с сими особами, игравшими в судьбе моей важную ролю. Сперва, однако ж, сообщу вам случай, доставивший нам счастие видеть у себя сию почтеннейшую женщину, прибывшую из Н. губернии. Это было 20-е мая, день моих имянин, – для чего съехалось из всей окрестности такое общество, что хотя бы и у вас в Харькове, так хорошо – это первая причина. Вторая: любезнейшая моя теща не сладила с моим тестем при конце жизни его. Он не подписал духовной и ни одного векселя; а потому и имение почти все отходит малолетним после сына его; бабенька же и тетенька остаются при конском заводе. Кажется бы и довольно? Но – отсохни рука, не желающая себе добра – почему они и пустились в процесс.
Нашлись добрые люди и помогали им или, лучше, себе; выстроили домы для себя, а их пустили на произвол, живите, дескать, хоть в шатре, лишь бы мы остались в добре. Кое-как, однако ж, бедняжки пооправились; составили фальшивую духовную, рядную и приданой список, которого каждая строчка стоила или кареты, или коня, или земельки, или шали. Дело-то бы и с концом – кабы не губерния, но там-то и все беды сидят, – как будто не одни везде законы! Уж когда в уезде их понагнули, чего бы губернскому доискиваться еще правды и расстраивать то, что много умных голов сочиняли? Бедная старушка кричит: «Я внучков люблю равно с моими детьми, а потому и имение хочу разделить с ними поровну». Ведь, кажется, чего бы лучше? так нет таки: палата да губернское разыскали, что люби как хочешь, а отцовского не удерживай, отдай сиротам, себе же бери лошадей – всякому свое.
Однако ж, коли чего черт не сможет, там подьячий допоможет. Теперь они улепетывают от разных следствий, а между тем имение в их руках. Мужички худеют, их карманы толстеют, а потому и судьи им радеют. Ей хорошо, а малолетних кто-нибудь призрит и грамоте выучит; когда ж достигнут совершеннолетия, – то, убояся бездны процесса, сожгут все счеты – и дело кончено! По совету судей, уплетая от раздела, сударыня моя теща укатила из дому и, переехав в нашу губернию, живет у меня. А ежели придет публикация и ко мне, то она отправится еще дале куда-нибудь, будто для богомолья! При имении ее есть приказчики; следовательно, не дадут ее в обиду. Вот как живут умные люди, покровительствуемые благодетелями! Правду говорят: не купи села, купи судью. Сим-то двум случаям обязан я счастием, что живет у меня моя любезнейшая теща!
Теперь о ее характере. Она женщина удивительная; единственное ее занятие: чтение псалтыря, беседа с поверенными и проповедание им закона божия. Читая псалтырь, распоряжает она в доме – и оттого выходит удивительная смесь. Представьте себе, например: действие в собственном доме; утро, день и вечер все одни и те же кулисы: посреди большой комнаты накрыт стол всегда одною скатертью; у дверей стоят приказчики, дворецкие, повары, ключницы и проч.; кое-где по углам разметаны девицы, живущие у нее в доме, бедные – во всех отношениях – а особливо по последнему обстоятельству: – они сидят, не смеют ворохнуться, ждут к себе отзыва, – и какой бы он ни был, язык их поставлен уже в позиции литеры Т, чтобы немедленно при первом обращении речи и даже взгляде сказать неголоволомное так-с или тотчас. В углу накрыт столик, на нем: развернутая псалтырь, головная щетка, гадательные карты, четки, образцы шпанской шерсти, просьбы, принесенные поверенным к подписанию, сальные огарки от вчерашнего вечера, письма приятельниц, таких же, как и она, и – просфира.
Г-жа Вопиюхина ходит, почесывая голову, молится и разговаривает, вмешивая часто в обе статьи протяжное ох тону приятнейшего контральта – и вот читает: Всякую шаташася языцы – а вот как всех пересечь, так и уймутся; возопих в скорби моей – осторожней с чашками управляйтесь; возрадуюся и разделю сикиму – а малолетним частей не отдам, не отдам; да не когда речет враг мой: укрепихся на него – что это за бездельники! сотворити отмщение во языцех – в опеку подать должно просьбу; вознесу тебе волы с козлы – членам послать овса, исправнику в подарок коляску с лошадьми, – и проч. тому подобное.
И это представление повторяется каждый божий день! Что касается до дочери, то и она не портит характера своей маменьки: она девица необычайная и – как говорится – давнишняя; щеголиха в форме; все у нее гофрировано, начиная от манишки до лица, хотя последнее и изменяет ей, особливо же, увы! волосы. Одевается всегда так, как я сказал выше про Дуняшу: платьецо детское и в такой пропорции, как будто она из него месяц только выросла. Но об ней после.
Итак, месье, вот вам вкратце начальная черта нашего семейства! Судя по сему началу, вы можете надеяться, что история моя будет занимательна. Как бы то ни было, но теперь у нас жить весело. Немного радость моя смущается, что управляет всем моим имением мусье Леконт, а я подавай денег. Занимал, – да уж и голова кружится; даже и подушные с крестьян, вместо казны, в руках у француза. Обнадеживает мой голубчик и все твердит: ву верe, ву вере. Иногда хоть бы ему и не хлопотал о деньгах; так придет мадам Пур-ту, взглянет – я и растаял, заговорит – я ключи вынимаю, запоет – отпираю шкаф, возьмет меня под бородку – я за деньги, она их подхватит – да и тягу. Преловкая женщина! Боюсь признаться, а что-то мерещится она мне и во сне. Прах их побери! в моих летах долго ли исполнить над собою пословицу: седина в бороду, а бес в ребро? Но что мне делать? Хотя я и стар, а все-таки человек и к тому же
Фалурден Повинухин
P. S. Да! забыл было сообщить вам важное обстоятельство: вы, я думаю, записали уже меня с отцом Трифаном во лжецы, относительно способности нашей к стихотворству. Постойте, месье! мы из беды выпутаемся; а для задатку посылаю вам стихи, да и не простые еще, сочинения необлыжно и собственно отца Трифана. Спасибо, спасибо ему! не забыл почтить день имянин моих, как водится. Отслужа обедню, пожаловал ко мне, поднес просфиру; я думал, что тем и кончится.
Вообразите же мое удивление, когда вынул он из кармана бумагу золотообрезную, развернул ее – я из любопытства подошел и увидел четкую руку нашего пономаря, которой учился писать и есть не последний писака уставными буквами! Вот ч и спросил: «Что бы это было? уж не реляция ли какая?» Отец Трифан подозвал голосистого нашего дьячка, которой учился даже в поэзии – и велел ему читать. Сердце хотело выпрыгнуть от радости, как я прослушал стихи, хотя декламировка и не всем нам понравилась, но что до декламировки? Когда хвалят нас, то каков бы ни был голос и искусство – все похвала для нас приятна! Заметьте-ка, месье, как искусно отец Трифан поместил в стихах завидные обстоятельства Дуняши и жены моей! Не должно ли при этом сердце мое расти от радости? Но лучше напечатайте стихи сии вместе с письмом; пусть всяк ими полюбуется.
Акростишие
в день тезоименитства его благородия
Фалалея Феодуловича Повинухина
Пусть Крон несет с собой все в пропасти забвенья,
Отнять же чтоб тебя, нет сил в нем, нет уменья.
Вот, может, под его и ты падешь косой;
И что ж успеет он? Сердечною слезой
Несчастливых сирот всегда прах оросится,
У счастливых же жен вовеки продолжится
Хоть вспоминание то о твоих делах
И сколь таков, как ты, для жен всегда муж благ!
На многие лета тебе я жить желаю;
У края же стихов тебя я называю.
Нижайший вашего села отец Трифан Панахидин.
Радости радостями, а вздохнешь-таки иногда: крестьяне плачут, в доме я не хозяин, денег нет, долг уже есть, а фабрика все еще не поспела! Многие, думаю, станут у вас искать в Успенскую ярмонку дамы, закутанной в поань де л’ансоны; однако ж жена моя будет сидеть дома! Как показаться в свет не лучше всех одетою, когда мусье Леконт и мадам Пур-ту управляют имением и наряжают нас? Но чего не бывает на свете? Обстоятельствами иногда повернуть мудрено!!
Примітки
…жены их будут в поан де л’ансонах… – тобто в алансонських мереживах. Назва походить від м. Алансона у Франції, де вироблялися ці мережива, модні у XVIII ст.
Духовная – письмовий заповіт про майно на випадок смерті.
Рядная – письмова угода, зобов’язання.
Приданой список – список посагу за нареченою.
…учился даже в поэзии… – тобто навчався в класі піїтики, одному з двох середніх класів у духовних школах (колегіумах).
Крон (Кронос) – у грецькій міфології одне з найдавніших божеств, батько Зевса. У пізнішій міфології – бог землеробства або часу.
5. Разорение
Тула, 12 октября 1816 года
Вот куда меня нелегкая занесла! подобных приключений я думаю, ни с одним православным не случится. Чтоб сквозь землю провалились все французские Леконты, маркизы, бароны, мусьи, мадамы, мамзели с их кружевами, машинами, станками, нитками! чтоб отныне и до века всякой человек – хоть крошечку честный – боялся прикоснуться, как к чуме, ко всему французскому в воздухе, земле, огне и воде! Ох, мои батюшки! не могу опомниться до сих пор. Ну, уж удружили мне своим просвещением, обогатили своею экономиею, возвеселили новомодными заведениями!!
Был барин – стал хуже холопа; мог прокормить сотню французских голяков, – теперь сам гол как сокол; имел 1000 душ, – и чуть свою душеньку удерживаю в теле; была – какая бы ни была – да все-таки жена, – теперь с мадам Пур-ту таскаюсь пар-ту и как достану кусок хлеба – не знаю! где приклоню голову – не ведаю! что будет со мною – хоть треснуть, не угадаю!
Нет, мои батюшки! и Москву французы не так разорили, как меня растреклятой Леконт! А ведь был мне друг, жене собеседник, Дуняше наставник, имению распорядитель, дому владыка и посвятил меня – ни дай, ни вынеси за что – в блудного сына. Вот тебе кружевная фабрика! Вот и нарядили в поан де л’ансоны!
Но поскорее к делу; все-таки легче, как пожалуешься. Да и мадам Пур-ту, сохранив райскую веселость свою, попевает теперь мне часто: «Двоим в бедах милее, чем в счастье одному». Позвольте же, гг. издатели, уделить вам тяжесть моего сердца; вы участвовали в моей радости, – грешно же будет вам, когда отринете меня в несчастий.
Вот моя история: проводивши любезнейшую тещу с ее дочерью к ним в деревню, засел я с мусье Анафемой в биллиардной курить трубку; а барыни наши пошли примеривать шнуровки нового фасона, присланные из Харькова и только лишь там в Успенскую ярмонку вошедшие в моду. Вот курим трубки и рассуждаем о разных политических делах. Например, растреклятой мусье рассказывал: как проворны французы, как многие тысячи из них – не имея никакого состояния и ремесла – тем живут, что вытаскивают искусно из карманов простофилей разные галантерейные вещицы, – и что кого из них подметит уже полиция, тот улепетывает в Россию и делается учителем наших детей.
Говоря таким образом, ходил он по комнате и вдруг, как-то неловко поворотясь, треснул меня порядочно в грудь локтем. Пошатнулся я и долго не пришел в себя, а он как доброй извинялся; я его уговаривал, чтоб он не беспокоился – и только лишь мы поприутихли, он спрашивает: «Которой час?» Со мной были серебряные часы добрые, аглицкие – единственная вещичка, оставшаяся у меня из всех, перешедших к мусье Леконту и к мадаме! Я хватился за них, чтоб узнать, которой час – как… Тюти! не тут-то их было! Где им деваться? только лишь вот я смотрел на них.
Но – мусье тащит их из рукава, хохочет и рассказывает, что он треснул меня с умыслом – и в то же мгновение вытащил у меня часы. Вот, дескать, ловкость французская! «Ах ты, проклятой, – подумал я, – надлежало бы с тобой поступить по-полицейски», – но из вежливости поцеловал я его за острую шутку. Да и, правду сказать, шутка преузорочная! Таскаясь года два с цыганами, я не заметил и у них такого мошенничества. Дело тем и кончилось, что мусье положил часы к себе в карман; а я от простоты или от вежливости ни слова ему не сказал, и принялись опять за наши рассуждения.
Вдруг раздался звон колокольчиков; въехала коляска на двор со множеством повозок, верховых – и прямо к экономической моей конторе. Что за гости? – не понимаем. Не транспорт ли с нитками и машинами для будущей кружевной фабрики? Смотрим: идет незнакомой мне офицер небольшого роста, в военном мундире, с Анненским крестом на шее. Мой мусье как молния исчез, не желая помешать мне принять гостя.
«Честь имею вам себя рекомендовать, – сказал офицер, вошедши, – я исправник в сем уезде. (Ух! при сих словах, не знаю отчего, все жилки задрожали во мне и сердце застыло.) Я привез вам очень, очень неприятное известие. Вот указ правительства: вы не платите за крестьян подушных: вы заложили свою деревню, и срок уже прошел; вы дали векселей какому-то иностранцу на 100000 руб., и они представлены ко взысканию; вы обходитесь бесчеловечно с своими крестьянами, мучите их больше, чем скотов, и они принесли жалобу. Правительство по всем сим причинам поручило мне, описав ваше имение, из оного часть продать за долги; а остальное, взяв в опеку, давать на содержание вас и семейства вашего известное умеренное количество денег, не позволяя вам жить в ваших деревнях ни в каком случае».
Смешно мне показалось такое известие!
«Конечно, мой отец! тут есть ошибка, – сказал я исправнику. – Правительство, кажется, должно наградить меня за мои распоряжения: у меня есть французский граф, который по дружбе своей управляет всем моим имением на французской манер, и уже дело идет на лад; это правда, участь мужиков моих теперь не завидна, – но что будут они чрез десять лет? Подумайте – богаче лендов! Деревни мои в закладе; да разве нет указов на то, чтобы должники ждали? Не плачу я подушных; но разве кружевные фабрики, мною заводимые, не верная порука, что через год, чрез два все заплачу сторицею; моему графу я никогда ничем денежным не был должен; но только шутя и наставляя его в наших вексельных обрядах, подписал на законной бумаге заемное письмо во 100000 рубл.; с моей же стороны убытку не было даже и в покупке вексельной бумаги, – ибо купил ее француз и, следовательно, мог с нею сделать, что ему угодно. Так после всего этакого вы, конечно, мой отец, приняли меня за кого-нибудь другого».
Г. исправник пристально посмотрел на меня и, улыбнувшись, сказал:
«Нет, сударь, я вас теперь очень знаю; вы точный Фалалей или, как стоит в «Украинском вестнике», Фалурден Повинухин». Как ни странно было мое положение, но я, отвернувшись, сердечно поблагодарил вас, гг. издатели, за то, что вы сделали меня известным свету. «Но где ваш француз? – спросил он тотчас. – Я желал бы с ним познакомиться». И только лишь было я начал описывать мусье Леконта: кто он, что он, какого свойства, чина, вида, души, поступков и как много обязал меня, – только лишь принялся рекомендовать его исправнику, как знатного и прямо благородного человека – вдруг, глядь! – служители земской полиции ведуть несчастного – по уши в грязи и сквозь грязь бледного как смерть! Рассказывают, что, увидя подозрительного человека, поспешно убежавшего из дому – погнались за ним, догнали; он без оглядки бросился в болото, но спасен оттуда и представлен начальнику их.
Я хотел было вступиться за честь его, как тут опять началась новая история! Исправник тотчас закричал: «Ах! да это mr. Pouacre!» – «Пардоне моа мон сениер!» – завизжал в свою очередь француз и брякнулся ему в ноги. Исправник, не удостоя и взглядом его, обратился ко мне и начал порядочную песенку, вот в каком тоне:
«Вы, русской дворянин, забыв страх божий, веру, совесть, свои обязанности, поручили своих крестьян, благодетелей, которые кормят и одевают вас – кому же? только-что человеку: французу! Поручили судьбу сих истинных людей извергу – который их расстроил, лишил дневного пропитания навсегда или, по крайней мере, надолго; поручили свою жену, себя, честь свею для совершенной погибели – кому же? Французу! Знаете ли, сударь, что при воззрении на француза, сему подобного, всякой русской должен вообразить себе все вместе наимерзостнейшее, подлейшее, бесчестнейшее на свете?»
Тут я от избытка сердца воскликнул: «Отец мой! да за что изволишь гневаться? Я ли первой, я ли и последний этому пример?»
«Да, – отвечал он, – к несчастию, не всех еще дураков проучила эта сволочь. Теперь, к стыду вашему, узнайте, кто этот граф: когда их гнали из России, я, служа в N полку, увидел около одного издохшего и недоеденного француза трех скелетов; из них два уже околели, а последний еще догрызал отрезанный нос товарища своего и уже костенел от холода. Из жалости приказал я своим гусарам взять его, отогреть, одеть и оставить при мне. Что ж за анекдот после рассказывала нам эта отогретая змея? Мы услышали от него, что в крайности продал он своего родного отца, бывшего с ним в армии, крестьянам одной деревни за кусок хлеба и что мы его взяли при трупе брата его, у которого он, отрезав нос, лакомился…»
«Правда, отец мой, – перервал я, – слыхал я от бывших у нас в плену сих себяедов, что изо всей французятины нос есть самая вкусная, лакомая и деликатная вещь».
«Перед ними, – отвечал исправник, – но прошу дослушать. Во время перемирия эта тварь, в знак благодарности обокрав меня и моих товарищей, ушел неизвестно куда. Вот какому человеку поручили вы воспитание своей падчерицы и управление имением! Много бродяг такого покроя воспитывают наше юношество… Но теперь дело не о том: молодца, заковав, отправить сей час в город, – закричал он служителям своим. – А вам, сударь, объявляю: имение ваше описывается и отдается в опеку; вы можете ехать куда угодно со всею фамилиею, только не жить здесь; и это все должно быть выполнено сего же дня».
Как меня не разбил паралич! как меня не удушил столбняк при такой весточке! Повесив голову, стоял я часа два в глубоком размышлении. Что у меня в голове вертелось, сам не знаю; стыд, поругание, отчаяние, досада, убожество, нищета, бесприютность – ну! право, лучше мне было тогда, в молодости, как я принимал жидовство, а потом магометанство; спокойнее тысячу раз было, как меня монахи хотели живого погребать! Между тем все мужики созваны; прочли им мои глупости, которые делал я по любви к дьяволу-французу; запрещено им меня слушаться; а мне объявлено, чтоб я сей час с моею женою уплетал вон из деревни.
Тут половина моя затрещала, как трещотка при пожаре, – что ни за какие миллионы со мною не поедет. Ух! это известие спасло меня от совершенного отчаяния, и на сердце стало повеселее! Исправник – по добродушию своему – дал жене моей коляску с лошадьми и приказал людям, отвезя ее к матери, возвратиться назад. Потом принялся и меня укладывать: дал мне бричку, отобрал у француза постель, гардероб и вчера мною отданные ему 720 руб. – все это из-под руки отдал мне, – присоветовав ехать в другую губернию, пока дело утихнет.
Горько мне было принимать таковые одолжения и расставаться с домом, – где хотя жизнь была и не сахарная, но все-таки жил я в своем доме. Но – сел, перекрестился, вздохнул, заплакал и – поехал ваш Фалурден Повинухин! Доезжая до конца сада, слышу: «Стой, стой!» – остановились; вскакивает ко мне – кто же? Мадам Пур-ту! «Ах вы, дьявольское навождение! – закричал я, – да когда я от вас избавлюсь?» – «Non, mon cher! только до первой станции!» Нечего делать, Повинухин повинуется; усадил ее кое-как и пустились далее. На беду, выдерни меня окаянный сказать, что со мною есть деньги и сколько их; вот моя мадам и ожила, сделалась весела, запела и почти заплясала. С первой станции я велел ехать по своей дороге, а она, вскочив, велела везти по Московской. Я вытаращил глаза и – замолчал: Повинухин повинуется!
Вот недуманно-негаданно – нанял я лошадей и, сидя на облучке, еду в Москву – с кем же? Дорогою ничего особенного еще не случилось, кроме больших ласк от мадамы и беспрестанных допросов, где лежат мои деньги. Но уж я больше дураком не буду, – хоть умри она, ласкаясь ко мне, не скажу! Наконец приехали в Тулу, остановились в новом трактире под № 3-м, и тут сижу я на лежанке уж пятой день. Мадам Пур-ту тотчас по приезде побежала к знакомым и до сей поры назад не являлась. Уж не новая ли эта французская штука? Мороз по коже подирает! Не олур, не олур!
Но меня здесь пока кормят сытно, видно, глядя на мой сундук; квартира выгодная, город хорош, улица веселая; перед обедом занимаюсь меледою, которую здесь купил; а от скуки принялся писать к вам и посылаю: 1-е – известие о превратности моей участи, изложенное в этом письме, а 2-е – поучительные для многих мне подобных отрывки из моей разнокалиберной жизни с самого детства. Прошу напечатать все это в вашем журнале; право, польза будет от того: иные исправятся, другие позабавятся, – чего ж больше?
Прощайте, господа! Да сохранит вас судьба от всего, что только называется французское. Торжественно отрицаюсь французского наименования! Все, все суета: я испытал, – что ни имя, ни чин не умножает в человеке достоинств. Я имел множество имен: настоящее Фалалей, в цыганстве был Сергейка, в жидовстве – Абрамчик, у турков – Солиман, у французов – Фалурден; а все был ни лучше, ни хуже, как ваш покорный слуга
Фалалей Повинухин
Примітки
Меледа – старовинна іграшка-головоломка. Складається з дротяної дуги, віткнутої обома кінцями у ручку, та кілець, певним способом з’єднаних між собою. Суть гри в тому, щоб зняти кільця з дуги або надіти їх, не виймаючи кінчиків дуги з ручки.
6. Слугой в трактире
Июля 4-го 1817. Епифанский уезд
Гора с горой не сойдется, а человек с человеком столкнется. Здравствуйте, мм. гг., подобру ли поживаете? Чай, вы меня уж и не ожидали; а я, как снег, вам на голову. Чрез сию верную оказию, называемую почтою, не мог преминуть, чтобы не отозваться к вам, старинным моим приятелям. На сердце стало веселее, так где и ум взялся; опять за рассказы принялся.
Сидел я, мои батюшки! в тульском трактире на лежанке долгонько, занимаясь меледой и ожидая – когда помните – мадам Пур-ту. Ждать пождать, друга не видать. Меня кормят, поят хорошо; а я и ни гугу. Спрашивают: не прикажу ли я сего-того? Я и ухом не веду, приказываю: подавай, дескать, голубчик! – А они-то все на стенку. Нет моей мадамы!
Глядь – идет квартальной. «Что за человек?» – «Фалалей Повинухин, армии отставной подпорутчик, помещик К…ской губернии». – «Зачем здесь?» – «Не знаю. Имение мое взято в опеку; а я еду в Москву». – «Где пашпорт?» – «Нету, я не получал». – «Иди в полицию». – «Отец родной! не погуби. Зачем?» – «Ты безпашпортной?» – «Грешное дело!»
Тут я рассказал все мое похождение с французами. Квартальной смеялся, наконец, сказал, что он пошутил, и просил за труды. «Батенька! нет ни алтына; все у мадам Пур-ту». – «Экой олух, – вскричал он, – хозяин! дай же хоть водки на счет его да накорми меня». – Принесли персиковой, подали солянку, да в заключение французского медоку. Он все это убрал, не пригласив меня; а выходя сказал: «Запиши на него». – «Да где же, батюшка, мадам? Не слыхать ли чего про нее?» – «Уехала в Москву», – квартальной сказал и ушел.
«Ну, хозяин! делай-ка счет, отопрем чемодан, продадим кое-что, я тебе заплачу». – Хозяин пошел сводить счет, а я пороть чемодан… Голубчики мои! старого белья рубли на два, да и все тут. А по счету за 9 дней я должен был 107 р. 34 к. с завтраком квартального. Что делать? Тут-то повесил я головошку на правую стороношку. «Хозяин! как быть? Ведь я не могу тебе отдать теперь; поеду-ка я домой, да из деревни пришлю».
Ничто не помогло. Не поверил, чтоб у меня и деревни были; и даже вашему «Вестнику» не поверил, на которой я ссылался. Эдакого, дескать, дурака и в природе нет. Есть, ей-богу, есть! Но он все-таки [не] поверил; отслужи, дескать, мне в трактире. Вот мы с ним считать и рассчитывать, и кончилось тем, что я должен остаться у него на целый год маркером при биллиарде.
Посудите же, отцы мои родные! я, в моем звании, с моим чином, с моим достатком, в мои лета – маркер! А все проклятые французы! К другой должности я не был по рассмотрению способен. Нечего делать! Явился с утра в биллиардной с мелом и принялся отслуживать прежние обеды да заслуживать новые. Скоро очень скопилось у меня в голове рассуждение прекрасное о превратности вещей; и хотел описать его для вас; как вдруг нагрянули гости. «Шары! Кии!» – начал я покрикивать: «У барина ничего, у господина никого», – и так далее. Привыкнул скоро к своему горю; и целые дни был в работе.
С утра до развода были военные: играют обыкновенно на водку, завтрак, обед, вино и проч.; тут иногда и мне перепадало кое-что. С 1-го часа приказные с просителями на чистые или на пунш. Тут худо было: этот народ – приказные – делиться не любят. С полдня до вечера играют приезжие помещики так на так: дери горло, а прибыли ни на грош. Ввечеру общее собрание. Играют сначала на пунш, вино; а потом: маркеру под биллиардом пролезть, маркеру три щелчка и тому подобное. Все вытерпливал я – и между тем делал свои замечания.
Биллиард можно уподобить нашему свету. Всякой старается тут добиться выше товарища, или, правильнее сказать, соперника; толкается к белому, красному, желтому; хитрит, лукавит, один шар в лузу, с другим карамболь – все вверх идет; вот немного зазевался, или промах, или желтый (в котором вся сила) не туда, ан – 12-ть на себя, и соперник выигрывает. Сколько тут бывает военных хитростей! маневрирует, бьет метко, соперника отбивает, не дает ему ходу; часто уже близ 48; бац, и попался на остров Елены.
Тут же я любил, подражая ученым физиогномистам и черепословам, узнавать свойства людей, глядя на их игру. Вот как я замечал: кто выставлял шар быстро и, видя, что соперник с первым ударом делал 12-ть, бесился, горячился и, не теряя удальства, все клал на себя, тот должен быть самохвал, завистник и в продолжение всей жизни своей не должен ожидать себе выигрыша. Кто же с выставки положит на себя, тот будет играть осторожно, хладнокровно и, наконец, выиграет; тот всегда и везде – хоть тихомолком, да с осторожностью, много достанет.
Случалось видеть, что и обсчитывали, присчитывали и находили карамболь там, где его не было! «Ну! – думал я, – такого к таможне определить нельзя». Кто мастерски заводил противника, давал вперед и все выжидал, тот уж верно был поверенный и искусный в делах. Иной стоял долго, поднявши кий вверх, и, мысленно рассчитывая, водил пальцем направо и налево: это был умствующий ученый. Охотно присчитывающий сопернику и с поклонами все уступающий, был проситель с секретарем. Бледнеющий, дрожащий, движениями членов своих следующий за шаром, унывающий при пустом ударе и утешающийся билиею, был приезжий из деревни в город муж, который довольно промотался и не умел уже ничего, за что бы купить жене гостинец; он уже предузнавал, какова будет ему встреча!
Так-то несчастие умудрило меня, и я довольно забавлялся своею должностию. Но не прошло двух месяцев, как приезжает из Епифани помещик и останавливается в нашем трактире. Один раз после обеда никого у нас не было, и он пустился со мной в разговоры. «Так ты тот Повинухин, которого я жадничал давно знать?» – сказал он. И давай меня стыдить. Вытерпел я от него добрую баню! Наконец, предложил мне, чтобы ехал я с ним для компании в деревню. Посудите, как мне отказаться от такого блага? – и я вмиг решился. Спасибо ему; человек доброй, заплатил за меня до копейки хозяину, велел сбросить мне французов сертучишко, который уже был похож на пиковую десятку – весь в заплатах; приодел меня, как должно, и повез. Вот тут-то я и живу; квартира, стол, напитки, баня, всего вдоволь. Ездим по соседям. Старички меня любят, старушки сожалеют, молодежь подтрунивает; а я отгрызаюсь – и, словом, живу, как сыр в масле, пока судьба не сыграет еще со мной шутки. О жене и слухов нет; и я покоен. Давно не наслаждаясь свободою, ею воспользовался и кончил свое житие и похождения. Прошу, коли любо, печатать их хоть по частям, хоть целой книгою. Пусть все знают; кто и каков был ваш покорный слуга
Фалалей Повинухин
Примітки
А они-то все на стенку – Рахунок за помешкання і харчування в трактирах у XVIII ст. часто записувався прямо на стіні.
Карамболь – більярдний термін; означає удар однієї кулі по двох або кількох кулях.
…попался на остров Елены. – Мається на увазі острів св. Єлени, куди був зісланий Наполеон Бонапарт після поразки у битві під Ватерлоо. Тут вжито в переносному значенні.
Билия – більярдний термін; означає кулю, забиту у лузу













Поділитися