Чайковський. Частина перша
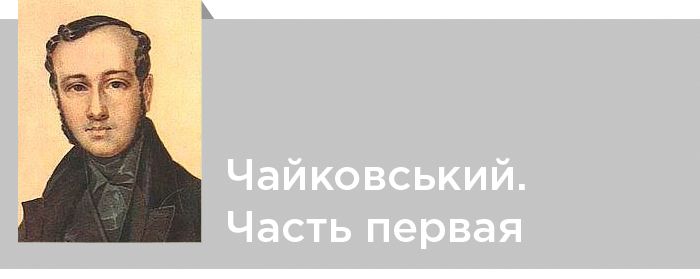
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Знаете ли вы Пирятин?
- Пирятин, при реке Удае, уездный город Полтавской губернии, под 50 4' 32" широты; в нем 5700 жителей, 5 церквей, 28 ветряных мельниц и 4 ярмарки; на оные приезжают купцы с красным товаром из соседственных городов, а с Дону привозят рыбу, - говорит, с печатного, школьник.
- Пирятин знаменит преданностью к престолу, - говорит грамотный малоросс. - Когда в 1708 году Мазепа передался Карлу XII, пирятинцы, под начальством храбрых Свечек, отразили неприятеля и, несмотря на то, что Лохвица, Лубны, Прилуки и все окрестные города были заняты шведами и не далее ста верст, в Ромнах, была главная квартира Карла, - ни один швед, ни изменник не был в стенах Пирятина.
- Пирятин - прескверный городишко! - сердито восклицает кто-то, случайно проезжавший этот город по тракту из Петербурга на Кавказ. - В Пирятине всего одна каменная церковь, с деревянными пристройками без всякой симметрии; улицы широкие, пустые, грязные; один каменный дом - почтовая контора, а прочие совестно назвать домами; на станции жиды и пол со скрипом, как сапоги франта двадцатых годов; нет порядочного трактира!.. В тамошнем лафите плавает сандал изумительными кусками, почти бревнами; на бильярде сидит курица…
Согласен, согласен со всеми вами, даже с господином проезжающим, но знаете ли вы, что несколько сот лет назад Пирятин был красивый, сильный, богатый сотенный город в нашем гетманстве? Широко и далеко раскидывался он по скату горы над Удаем, часто сверкали кресты церквей между его темными, зелеными садами, шумны были его базары; на них громко гремели вольные речи, бряцали сабли и пестрели казацкие шапки и жупаны; польские купцы привозили туда тонкие сукна и бархат; нежинский грек выхвалял свои восточные товары: то сверкал на солнце острием кинжала, то поворачивал длинную винтовку, окованную серебром, между тем, в стороне заливалась скрипка, звенели цимбалы, и захожий запорожец выплясывал вприсядку отчаянный танец, подымая вокруг облако пыли; порою, как пламя, вырезывалась из пыли его красная куртка, порою выглядывало дьявольски страшное лицо с поднятыми кверху усами, с черным чубом, веявшим на бритой голове, и опять все изчезало в вихре танца… Народ хлопал; громкий хохот далеко раздавался по базару… Было весело!..
Даже сам Удай, говорит предание, был прежде шире, глубже и многоводнее, на месте, плавней и болот, на которых теперь уездные канцеляристы изволят стрелять куликов и водяных курочек, тогда шумели и бежали быстрые волны; Удай, говорят, так был тогда широк летом, как теперь вескою во время половодья - а во время половодья красив старик Удай! Он воскресает вместе с природой, молодится и кипит и хлещет волнами о берег, как разгульный казак, - в этом со мною согласится каждый пирятинец.
Быль, которую я вам расскажу, случилась в Пирятине - не то двести, не то триста лет назад. Город был на правом берегу Удая под горою; на горе тянулись длинною цепью ветряные мельницы и виднелись два небольшие земляные укрепления, там день и ночь стояли сторожевые казаки; в центре города, у самого берега реки, был замок - крепость, обведенная высокими валами; на валу стояли пушки, всегда готовые встретить незваных гостей, в крепости хранились военные снаряды и была церковь, в которой лежал войсковой скарб и казна; во время набегов сносили туда жители свои драгоценности.
На противоположном берегу Удая, в дубовой роще, стоял белый каменный дом, состроенный на польский манер; дом принадлежал лубенскому полковнику Ивану. Предание не говорит фамилии полковника, а называет просто Иваном: и мы будем называть его Иваном. Несмотря на то, что Пирятин был сотенный город, полковник Иван очень любил его и часто, оставляя свои Лубны, проводил лето в пирятинском загородном доме с молоденькой дочерью Мариной.
В одну весну полковник приехал в Пирятин на печальную церемонию, на похороны замковского протоиерея, отца Иакова. Все казаки любили почтенного покойного старика: не раз он являлся среди них с крестом в руках на стены замка и под стрелами крымцев и пулями поляков словами веры ободрял воинов, перевязывал раненых, исповедывал умиравших… Все плакали по отце Иакове и просили полковника назначить в Пирятин священником, на место покойного, сына его Алексея.
Сын отца Иакова учился в Киеве. Послали за ним гонца - и вот приехал в Пирятин Алексей-попович, красавец юноша лет двадцати.
- А! - говорит догадливый читатель, - красавец юноша и молоденькая дочка полковника - стоит их влюбить друг в друга и состроится роман. - Я не выдумываю романа, ничего не строю, а рассказываю быль, как сам слышал; но если вы догадались, спорить не стану. Точно, Алексей и дочь полковника Марина полюбили друг друга страстно, как любят в их лета, пылко, как люди, выросшие под строгою ферулой и готовые предаться всею полнотою души первому стремлению сердца… Чем вы крепче сожмете порох, тем сильнее будет взрыв: вспомните, что они любили первою любовью, и позавидуйте им!
Многие почтенные люди при слове "любовь" делают удивительную гримасу, будто попробуют ревеню или услышат про чуму или холеру. Для меня это непонятно. Уж не из зависти ли это, господа почтенные люди? Зачем скрывать, унижать, стыдиться самого лучшего, высокого чувства? Хотел бы я знать, что способнее облагородить, побудить человека к самым великодушным, бескорыстным поступкам, как не любовь? А многие ставят ее в одну категорию с белой горячкой; многие не посовестятся кричать в обществе, что любят пуделя, ружье, лошадь, мороженое, и никак не признаются в любви к подобному себе человеку другого пола.
Не наша ли испорченность этому причиною?
Некоторые считают преступлением даже взгляд, брошенный на женщину, исполненный тихого, благоговейного чувства удивления красоте ee!..
Что бы вы подумали об обществе, в котором каждый боится посмотреть на часы или шляпу своего приятеля, чтоб не сказали другие: берегитесь, он хочет украсть ваши часы, вашу шляпу?..
Время шло, а попович Алексей и не думал о посвящении, мысли его были далеко от строгого сана: душа носилась в чудном море мечтаний любви, другой мысли, другому чувству не было места: везде она, волшебница, с своими обаятельными чарами, с томительными тревогами и светлыми надеждами… Иногда, бывало, сидит Алексей в саду под черемухой и читает Цицерона: напрасно воображение хочет перенестись на многолюдный римский форум, где так грозно, так самонадеянно говорит великий оратор. Кругом тепло, свежо, столько неги в весеннем воздухе; черемуха тихо помавает белыми кистями своих душистых цветов; тысячи пчел и других насекомых садятся, перелетают, жужжат между цветами; за садом плещутся и ропщут тихие струи Удая, и речной тростник нашептывает приятную, успокоительную думу. Чудный аккорд великой музыки природы! Тихо клонилась книга из рук молодого студента, и на великолепное, громовое начало речи Цицерона за XII таблиц. Fremant omnes licet, dicam quod sensio!, [1]он едва слышно отвечал: amor!.. и вслед за этим словом мечта его бросала шумный Рим и неслась к Марине. И вот оно, чудно хорошая, явилась спокойною, опустив длинные ресницы; сладостное, невыразимое чувство благоговения обвевает робкого юношу: целый бы век смотрел на нее!.. Но вот она улыбнулась, открыла очи - будто небо раздвинулось пред Алексеем. Как от солнца, из огненных очей падали ему на сердце лучи жизни и восторга.. Чудное видение!.. Вдруг оно скрылось; что-то легонько тронуло по лицу Алексея… Глядит: он весь осыпан цветами; гвоздики, левкои, чернобривцы катятся с него на землю; старика Цицерона прикрыла махровая пунцовая маковка; в стороне слышен тихий смех: из-за плетневого забора лукаво глядит черноокая, чернокудрая головка молодой цыганочки, служанки Марины, кланяется и исчезает, звонко напевая известную песню.
Барвiночку зелененький,
Стелися низенько,
А ти, милий,чорнобривий,
Присунься близенько!
Почти каждый вечер, когда затихал шум в окрестностях Пирятина и светлый месяц, выходя на темно-синее небо, гляделся в Удай, тихо проплывала лодочка у самого берега перед домом полковника и кто-то пел на ней песни; голос певца, томный, страстный, звучал, переливался, будил дальнее эхо и исчезал постепенно, замирая в отдалении.
- Недурно поет человек! - скажет, бывало, полковник, покуривая на крыльце трубку.
- Так себе! - отвечает Марина, вспыхнув до ушей, а между тем, прислонясь к резной колонке крыльца, жадно слушает знакомые звуки; слезы восторга сверкают в глазах ее, и она завидует месяцу, который с высоты может глядеть на певца и ласкать его своими лучами. "Почему я не звездочка, - думала Марина, если падучая звездочка катилась в то время по небу, - я бы слетела к нему с высоты, горя и сверкая любовью; я бы рассыпалась перед ним яркими искрами и осветила путь моему казаку ненаглядному; его очи засветились бы моим огнем - и умереть было бы весело…"
- Распелись пирятинцы нынешнюю весну; всех песен не переслушаешь; пора спать! - говорит, бывало, полковник.
Марина шла в свою светлицу, отворяла окно. Вдалеке чуть слышно отдавались звуки песни; с последними отголосками ее сливалась жаркая молитва бедной девушки об Алексее; песни смолкали - но долго еще Марина стояла на коленях перед образом богоматери, украшенным цветочными венками, и молилась, и плакала, сама не зная о чем.
II
Судя по теперешним образованным, милым, снисходительным полковникам, нельзя составить себе даже приблизительного понятия о полковнике малороссийском времен гетманщины. В нем сосредоточивалась власть военная и гражданская целой области; он был и военачальник, и судья, и правитель; он безгранично, безответственно распоряжался в своем полку. Правда, право жизни и смерти было законом предоставлено гетману; но нередко полковники нарушали это право и даже казнили самовольно преступников. Кто смел жаловаться на полковника? Одетые в серебро и золото, украшенные клейнодами, знаками своей власти, окруженные многочисленною вооруженною свитой, с азиатской пышностью являлись они перед народом - и города и села преклонялись, уважая их военные доблести и трепеща перед их властью. В народе воинственном, полудиком иначе и быть не могло.
Не так давно один какой-то князь получил после отца, вельможи екатерининских времен, наследство в отдаленной провинции и приехал туда жить. Мне случалось - проездом через эту провинцию, быть в обществе помещиков, соседей князя, и я спросил у них, довольны ли они новым соседом?
- Ничего, - отвечал один, - да если б вы видели, что это за человек маленький, невзрачный; у нас в полку последний с левого фланга был казистей; словно писарь какой; совестно назвать: ваше сиятельство!
- Никакой важности, - сказал другой, - я было явился к нему, этак, знаете, с почтением, и дворянский мундир сдуру натянул и медальку дворянскую повесил; думаю: вот тут-то явится в орденах, в лентах и говорить еще, чего доброго, со мной не захочет. Самому смешно, как вспомню! Вышел он, милостивые государи, ко мне, да и не вышел, а выбежал - глазам не верю: в сереньком сюртучишке, молодой мальчик, "рад, говорит, что имею честь познакомиться", и садит на диван, и руку жмет, будто проситель какой; верите, мне за него было совестно… Нет уж, думаю, вперед не подденешь; коли случится, и сам явлюсь в сюртуке, охота была мундир надевать… ей-богу!…
- Да стоит ли об нем говорить! - перебил третий. - Человек он без всякой политики, ездит по полям да сам смотрит на работы, с утра до ночи разговаривает с мужиками, как простой человек. Княжеское ли это дело?.. Видно, в Петербурге был последняя спица в колеснице, житья не было, так и приехал сюда. Дает же бог таким людям и богатство, и высокие степени!..
И много еще подобных речей говорили о молодом князе, человеке с прекрасною душой и отличным европейским образованием.
Согласитесь после этого, что суровость, важность и недоступность малороссийского полковника XVI века были разумною необходимостью.
Пышны, грозны, суровы были полковники, но грознее и суровее всех между ними был полковник лубенский Иван. В молодости он славился между казаками упрямством характера и бешеною отвагою в сражениях, что тогда почиталось величайшею добродетелью и впоследствии доставило ему полковничье достоинство. Покойную жену свою он любил, и даже очень любил, но, считая неприличным доброму казаку показывать как-нибудь чувство, особенно к женщине, он обходился с нею сурово, деспотически. "Баба - дрянь! - часто говаривал полковник. - Ни силы, ни характера! Будь на свете одни бабы, давно бы их всех перебили татары. На что был гетман Сагайдачный, добрая голова! А променял жену на трубку с табаком, да еще сложил песню:
Менi з жiнкою не возиться,
А тютюн та люлька
Козаку в дорозi
Знадобиться!..
В крымском походе полковник Иван заболел лихорадкою. Ему не советовали есть рыбы, оттого что лихорадка не любит рыбы. "Вот хорошо! - говорил полковник. - Стану я уважать бабьи капризы! Лихорадка - баба, а я, благодаря богу, казак". И три года жестокая лихорадка колотила полковника, и три года постоянно он ел рыбу и раки, говоря: "Посмотрим, чья возьмет". И точно: к удивлению всего полка, на четвертый год лихорадка оставила упрямого больного.
Не удивительно, что покойная полковница, несмотря на богатые парчевые одежды, собольи кораблики и алмазные ожерелья, которыми щедро дарил ее муж, все скучала, грустила, сохла и в молодости умерла, оставя маленькую дочь Марину.
Умирая, она горько плакала и просила мужа любить и тише обходиться с дочерью… "Ты никогда ни в чем не верил мне, - говорила она - Мою болезнь ты называл капризами, мои горячие слезы водою, из которой никакой немец не выгонит ни капли водки… Ты смеялся над моей слабостию, и - вот я умираю, рано умираю, оставляю дочь сиротою, все через тебя. Да простит тебя бог! Ты делал свое дело, ты был мой начальник по закону божию; не твоя вина, что ты не понимал меня. Не доведи ж до этого дочери; будь ей отцом и матерью, слышишь, Иван?.. Слаба женщина: часто один взгляд убивает ее…"
Полковник был растроган; уже очистительная слеза раскаяния навернулась было на глазах его; но, вспомнив, что он казак, полковник пересилил себя, проглотил непрошенную гостью, вздохнул - и на похоронах жены жестоко напился пьян.
Со смерти жены полковник сделался еще угрюмее: тайная задумчивость примешалась в его характер; он запивал внутреннее беспокойство вином и почти каждый день к вечеру бывал в таком состоянии, что будто сейчас вернулся с похорон покойницы жены. По утрам он часто ласкал Марину, но, приходя в хмель, тотчас удалял ее, говоря: "Ступай себе, дочка, в свою светлицу; у меня пойдут свои, казацкие дела: не пристало тебе их слушать; ты такая, как твоя… царство ей небесное! Убирайся же; не бойсь, не расплачусь!.."
Полковник посылал за кобзарем, и пил, и слушал его песни, и бросал ему мелкие деньги, если песня приходилась по нраву, или щелкал пальцем по лбу, приговаривая: "Врешь, божий человек, не так! Ты пьян и не выспался!.."
А иногда он потешался с Герциком.
Герцик был у полковника что-то вроде шута и приятеля, его биография немногосложна. Когда-то казаки разграбили и выжгли какое-то польское местечко. Что могло гореть - сгорело, что могло убежать - разбежалось. Полковник Иван раскурил головнею из пожара трубку, сел на бочонок и начал судить пленников. Привели мальчика лет шестнадцати, с быстрыми серыми глазами и плотно выстриженною головой.
- Ты жид? - спросил полковник.
- Нет, я немец, - отвечал мальчик.
- Врешь! Ты говоришь как жид, смотришь как жид, а голову выстриг, чтоб обмануть меня. Хлопцы! Допросить его, пока не признается, что он жид, - да и повесить
- Ей-богу, я немец, заезжий немец; я не воевал с вами, я люблю вас.
- Спасибо за любовь. Так повесьте его, не допрашивая.
Мальчик упал в ноги полковнику, умолял о пощаде, обещал служить ему верно до гроба и объявил, что он знает всякие науки, даже делает часы.
- Посмотрим, - сказал полковник, вынимая из кармана часы в виде большого яйца, - вот эта штука третьего дня стала - и ни с места; я и встряхивал ее, и дул всередку - ничего не помогает, а штука дорогая, ваша, немецкая. Коли поправишь сейчас - жить тебе на свете, а не поправишь - не сердись… Начинай!
Мальчик, дрожа от страха, присел на землю и с ужасом открыл часы. Но чем более рассматривал их внутренность, тем становился покойнее. Полковник не успел осудить десятка пленных, как немец, улыбаясь, подал ему часы.
- Хорошо, - сказал полковник, с удовольствием прислушиваясь к звонкому ходу маятника, - хорошо! А как зовут тебя?
- Герцик.
- Хлопцы, дайте Герцику кафтан и шапку; он поедет с нами.
С тех пор Герцик остался при особе полковника, увеселял его разными штуками, делал транспаранты, шутихи и огненные колеса, а главное - строил удивительные часы. Во всем лубенском полку была известна так называемая ходячая картина; на картине была изображена мельница, настоящая ветряная мельница, в каких православные мелют муку, только эта не молола муки, а перемеливала старых баб на молодых. Истинно! День и ночь шевелились на этой мельнице бумажные крылья, и в одну дверь входили старые-престарые бабы, скверные-прескверные, любая - лекарство от лихорадки; а в другие выходили из мельницы молодые молодички и девушки свежие, красненькие, чернобровые, полногрудые, с такими ямочками на щеках, что расцеловать хочется… Как жаль, что теперь перемерли уже люди, видевшие эту ходячую картину: они бы рассказали про нее лучше меня!
Да еще был у полковника Ивана верный слуга Гадюка, вечно без шапки, босый, нечесаный, с немытыми руками, с нечеловечьими ногтями на руках. На войне он всегда был за полковником с огромною палицей на плече и с фляжкою в руках, в мирное время спал, как животное, свернувшись в клубок на полу у порога полковничьей спальни, и готовил полковнику кушать.
Про силу Гадюки до сих пор ходят предания между простолюдинами в Пирятине. Один только Гадюка мог безнаказанно говорить полковнику горькие истины, противоречил ему и даже грубил, как равному. Как-то полковник напомнил ему, что он слуга, и заставил его молчать. Гадюка потупил голову, сверкнул исподлобья глазами и замолчал; но ночью пошел на мельницу, снял огромный жерновый камень, принес его и завалил дверь полковничьей спальни. Поутру полковник хотел выйти - нельзя, не пускает камень.
- Это твои штуки? - спросил из-за двери полковник.
- Мои, - хладнокровно отвечал Гадюка.
- Отвали камень.
- Ты, пан, старше меня, сильнее меня: тебе это легче сделать.
- Да я не могу.
- А мне не хочется. - И сказав это, Гадюка вышел из комнаты. Позвали человек десять казаков, и насилу они отодвинули от двери камень. Полковник, вышел, посмотрел на камень, покачал головой, улыбнулся и, позвав Гадюку, дал ему большой стакан водки.
III
- Гадюко! А Гадюко! Гадюко!..
- Чего, пане полковник?
- Чего? Что ты не откликаешься? Уши заложило, что ли?
- Разве заложит от твоего крику. Что там нужно?
- А что делается на дворе?
- То, что и делалось.
- Хорошо. Дождя нету?
- Откуда ему взяться?
- Не говори так; люди скажут: дурень Гадюка! Дождю есть откуда взяться, с неба возьмется, коли захочет.
- Разве коли бог даст; а дождь - что за вольница!..
- Правда, коли бог даст, ты правду сказал.
- Коли б я сказал по-твоему, люди сказали бы: дурень Гадюка!..
- Может, и так. А долго я спал?
- Почти полдня; лег зараз после обеда, а теперь уже вечер недалеко.
- Ото! Пора полдничать! Вари полдник!
- Вари полдник! Проспал человек полдник, да и хочет полдничать; теперь скоро ужинать пора! - ворчал Гадюка, выходя из панской спальни.
- Жаль! - говорил сам себе полковник. - Разве ужинать придется попозже? Пропал день; всему виноват сотник…
Полковник очень любил здоровый борщ с рыбою. Для нас, привыкших к легким кушаньям французской кухни, здоровый борщ покажется мифом, как Гостомысл, или голова медузы древних; многие не поверят существованию здорового борща; но и теперь еще есть старики, которые помнят это кушанье, бывшее лакомством, утехою отчаянных гуляк-гастрономов, хваставших своею железною натурой. Этот борщ начал приготовлять Гадюка для полдника, тут же, в спальне полковника.
Он взял живого коропа (карпа) и без помощи ножа, собственными ногтями очистил его и сяял шелуху, к неописанному удовольствию полковника, который, глядя на эту операцию, несколько раз повторял: "Славно, Гадюка! Как волк управляется! Добрые ногти! Так его! По-походному…" Очистив коропа, Гадюка положил его в медную нелуженную кастрюлю, влил туда бутылку крепкого уксуса, прибавил горсть крупного перцу, соли, несколько луковиц и накрыл кастрюлю плотно крышкою, потом принес канфорку, изделие хитрого немца Герцика, зажег спирт и поставил на него кастрюлю. Пока это снадобье шипело, кипело и варилось на столе перед глазами полковника, Гадюка стал молча у двери.
- Чудесный будет борщ! - сказал полковник, обоняя по временам пар, вылетавший тонкою струей из-под крышки.
- Лучшего сварить не сумеем.
- И не нужно!.. Довольно ли там соли?
- А тебе, пане, хочется соленого после утренней попойки?
- Что за попойка! Так, злость прогнал стаканом-другим-третьим; проклятый сотник, не могу вспомнить!.. Дай мне стакан настойки. Вздумал у меня отнимать добро!..
- Господи твоя воля! Что за времена стали! Прежде сотники кланялись добром полковникам, как и следует по начальству…
- Не ты бы говорил, не я бы слушал… Пришел и кланяется, принес турецкий пистолет - ну, это хорошо, почему мне не принести хороший пистолет? Я взял пистолет и говорю с сотником, как с человеком: "Спасибо, что помнишь службу; мы тебя не забудем и пожалуем; достань и другой, коли случится, под пару этому". А он еще ниже кланяется, да и заговорил со мною как с жидом. "Ваша, говорит, земля вошла в мою клином, так я пришел просить: продайте мне этот клин". Слышишь, Гадюка?
- Слышу, пане!..
- Я вижу, что сотник кругом дурень, взял его за воротник, вывел на крепостной вал и спрашиваю: "А где солнце всходит?" - "Там", - отвечал сотник. "А заходит?" - "Вон там", - сказал он. "Так знай же, пане сотник, что и всходит и заходит солнце на земле полковника, на моей земле то есть, понимаешь? А ты, поганое насекомое, посягаешь на мою славу, хочешь оттягать у меня землю? Хлопцы, нагаек!.." Пришли хлопцы с нагайками; сотник видит, что не шутки, - повалился в ноги: "Я, говорит, и свою землю отдам, помилуйте…" Мне стало жалко дурня; я плюнул на него и пошел домой, да всилу запил злость. Такой дурень!..
- Дурень, пане! Правду люди говорят: дураков не пашут, не сеют, сами родятся.
- Сами!.. А что борщ?
- Готов.
- Фу! Какая штука! Во рту огнем палит, - говорил полковник, пробуя ложкой из кастрюли борщ, - казацкая пища. В горле будто веником метет; здоровый борщ!.. Я думаю, лошадь не съест этого борщу?
- Я думаю, лопнет.
- Именно лопнет! Один человек здоровеет от него, оттого он человек, всему начальник.
- И человек не всякий. Доброму казаку, лыцарю (рыцарю) оно здорово, а немец умрет.
- Не возьмет его нечистая! Разве поздоровеет.
- Нет, не выдержит, пропадет немец.
- Докажу, что не пропадет. Позови сюда Герцика. Посмотрим, пропадет или нет.
- Послушай, говорил полковник Иван входившему Герцику, - у нас за спором дело: я ем свой любимый борщ и говорю, что он очень здоров, а Гадюка уверяет, будто для меня только здоров, а ты, например, пропадешь, коли его покушаешь. Бери ложку, ешь. Посмотрим, кто прав.
Герцик проглотил несколько капель борщу, и лицо его судорожно искривилось, слезы градом пробежали по лицу.
- Что же ты не ешь? - спросил полковник.
- Бьюсь об заклад, с третьей ложки он отдаст богу душу, - хладнокровно заметил Гадюка.
- Я не могу; это не человечье кушанье, - сказал Герцик.
- Что ж я, собака, что ли?..
- От этого и собака околеет.
- Так я хуже собаки?
- Боже меня сохрани думать подобное! Это кушанье рыцарское, геройское, такое важное - а я что за важный человек… Я просто дрянь…
- Не твое дело рассуждать; ешь коли велят! - говорил полковник, схватив левою рукой за шею Герцика, а правою поднося ему ко рту ложку здорового борщу.
- Не могу, вельможный пане! Умру!
- Это я и хочу знать - умрешь ты или нет. Ешь!
- Послушайте, пане! У меня есть великая тайна, я сейчас только шел говорить ее вам; позвольте сказать, я вам добра желаю, все думаю, что бы такое полезное сделать; вы мой спаситель… вы…
- Ешь, а после расскажешь
- Умру я от этого состава, и вы ничего не узнаете, а тут и ваша честь, и все, и все…
- Ну, говори, вражий сын, только скорее…
Герцик вполголоса начал что-то шептать полковнику, который, бледнея, слушал его и закричал:
- Ежели ты врешь - смертью поплатишься!..
- Моя голова в ваших руках; к чему мне врать?
- Пойдем скорее. Гадюко, - сказал полковник, - да возьми с собой крепкую веревку. Веди, немец!..
IV
Та вже ж тая слава
По всiм свiтi стала,
Що дiвчина козаченька
Серденьком назвала
Малороссийская народная песня
Тихо садилось солнце, зажигая западный край неба; в голубой вышине пламенели два-три облака, переливаясь золотом и пурпуром; тени длиннели, вытягивались по земле; каждый пловучий листок на Удае, стебель водяной травки или тростника, каждая волна и брызга горели, сквозились, просвечивали, таяли в золоте. В пирятинской крепости (замке) благовестили к вечерне; чистый серебристый звон колокола далеко звучал, разливался в теплом, сухом воздухе и, переходя постепенно в отголосок, почти неуловимый для слуха, замирал, пока другая волна звука не сменяла его.
В это время молодой человек в синей черкеске быстро проплыл по Удаю на легонькой лодочке к островку, лежавшему между замком и полковничьим домом.
Кругом острова зеленою стеною стоял высокий тростник; далее на мокром берегу росли курчавые кусты лозы; еще далее, на суше, десятка два развесистых плакучих верб; между ними калиновый и бузиновый кустарник, перевитый, перепутанный хмелем и вереском. Дико, глушь, только дрозды выводят там детей на высоких вербах да в лозе ползают змеи; но между кустами есть там узенькая тропинка; чуть приметно вьется она у корней дерев, хоть часто длинные плетни хмеля, падая зелеными каскадами с дерев, кажется, решительно заслоняют путь, но они подорваны внизу, легко раздвигаются и дают дорогу; дело другое в стороны от тропинки: там они спутались такою крепкою стеной, что ни пройти, ни пролезть.
Казак, подъезжая к островку, оглянулся кругом, взмахнул веслами, и лодочка, шумя, спряталась в тростник, только дрожавшие, стройные верхушки его, раздвигаясь в стороны, показывали след, где плыла лодка. Казак привязал лодку к лозовому кусту, выпрыгнул на берег и быстро пошел по тропинке, тропинка оканчивалась у корня толстой вербы, которой ветви, перевитые хмелем, склонясь до земли, образовали кругом толстую плотную стену, точно беседку.
- Ее нет еще! - прошептал казак, обойдя вокруг вербы, прислонил к дереву винтовку, сел на ломанный пень и запел:
Вийди, дiвчино, вийди, рибчино,
За гай по корови,
Нехай же я подивлюся
На тi чорнi брови!
Казак окончил песню и стал прислушиваться. Вдруг он вздрогнул, быстро раздвинул ветви и радостно посмотрел на тропинку. Там никого не было; только какая-то желтогрудая птичка преусердно теребила носом кисть незрелых калиновых ягод и шелестела листьями. "Глупая птица! - проворчал казак. - Даже клички не имеет, а шумит, будто что порядочное", - вздохнул и опять запел другую песню:
Ой ти, дiвчино, гордая та пишна!
Чом ти до мене звечора не вийшла?
- Неправда, неправда!.. - проговорила вполголоса молодая девушка, резво подбегая к казаку. - Я и не гордая, и не пышная, и люблю тебя, мой милый Алексей!
- Марина моя! - говорил Алексей, Обнимая девушку. - Я иссох, не видя тебя, легко сказать - три дня!
- А мне, думаешь, легче?.. Чего я не передумала в эти три дня! Отец такой сердитый, все ворчит!.. Из светлицы не вырвусь, все смотрит за мною… И чего ему от меня хочется?…
- А может, ты сама те хотела вырваться?.. Вот ты уже и плачешь, моя рыбочка! Перестань, не то - и я заплачу; не пристало мужчине плакать, а заплачу, не выдержу, глядя на тебя!..
- Я не плачу, - говорила Марина, отирая слезы, - а так сердце заболело, что ты мне не веришь, сами слезы побежали... Грех тебе, Алексей! Когда б не хотела, зачем бы пришла сегодня?.. Наша девичья честь, что ваша светлая сабля: дохни - потускнеет, а я играю честью… В глазах потемнеет, как подумаю, что я делаю? Увидь меня кто-нибудь, пропала я!.. "Вот, - скажут, - полковничья дочь", и то, и другое, и прочее сплетут, что не только выговорить, и подумать страшно.
- Так ты боишься любить меня?
- Я?.. Алексей! Ты ли это говоришь? Чем страшнее, тем слаще мне!.. Мой милый! Ты не поверишь, как дрожу я вся, когда одна-одинешенька прыгну в лодочку и плыву к острову!.. Спроси меня батюшка, увидай кто-нибудь из людей - пропала я!.. Ну, что ж? - я думаю. - Пропаду так пропаду, знаю, за кого пропаду… Пропаду не за нелюба; умело сердце полюбить, сумеет и вытерпеть; умела слушать твои речи, сумею выслушать и брань, и проклятия; станут бить меня, вспомню твои объятия, и мне будет весело… Я казачка, Алексей! Умру, а буду любить тебя. Не жить цветку без солнца, а ты мое солнце, ты моя жизнь, мой милый!..
- Верю, верю, моя ласточка, - говорил Алексей, целуя Марину. И долго молчали они, приклонясь друг к другу.
- А хорошо, если б я была ласточкою, - сказала, улыбаясь, Марина, - весело было бы мне!.. Только чтоб и ты был ласточкою… Как бы мы летали высоко, высоко… сели б отдохнуть на облачко, посмотрели бы оттуда на землю, на сады, на села, на людей; я сказала бы: смотрите, люди, вот я, вот где; я люблю Алексея, - и полетела бы от них - пусть сердятся… Мы носились бы над Удаем, купались бы в воздухе, обнимались бы крылышками и целый день щебетали б про любовь свою!.. Не правда ли?
- Бог знает, что приходит тебе в голову!.. Слушаешь тебя - будто чудесный сон видишь.
- А знаешь, что мне снилось!
- Что тебе снилось?
- Снилось… страшно рассказывать… Ну, да я прижмусь к тебе покрепче - и не будет страшно. Видишь, эти дни я не видела тебя, сильно грустила по тебе, а вчера думала долго, долго…
- О ком?
- Еще и спрашивает!.. Думала долго и заснула; и кажется мне, что мы с тобой рыбы: ты такой хорошенький окунь, весь в серебре, так и блестишь; перья у тебя красные, глаза черные, такие, как и теперь, и так же хорошо смотрят - а я, кажется, плотва. Нам было весело, очень весело; мы плавали в каком-то большом озере; вода в нем чистая, светлая, теплая, дно усыпано белым песком, по песку лежат раковины всех цветов, словно цветки на поле; подле берегов растут травы, будто леса зеленеют под водою, а рыбы кругом много, много: плещется, играет, бегает взапуски… Мелкая верховодка собралась в хороводы и гуляет себе толпами; караси играют в дураки; ерши кувыркаются через голову; карп рассказывает сказки; пескари охватывают вприсядку, точно писаря полковой канцелярии, а рак, подмигивая усами, словно пирятинский сотник, кроит из листочка какой-то наряд… всех чудес не припомню… Вот мы гуляли, гуляли с тобою, резвились, плескались и поплыли отдохнуть к берегу, в траву; приплываем к траве, а она часто срослась, перепуталась, как этот хмель; мы стали пробираться, чем далее, все темней, темней… Мне стало страшно: что-то будет там? - подумала я, и - вдруг перед нами огромная голова сома, пасть раскрыта, оскалены зубы, усы страшно подняты, гляжу - это батюшка!.. Вот он, здесь! Смотри… он… сом… ух! Батюшка… - И Марина, затрепетав, судорожно протянула дрожащие руки к ветвям вербы. Алексей взглянул: в двух шагах грозно смотрит на них из ветвей лицо полковника…
V
Что прошло, то будет мило.
А. Пушкин.
Кто из нас не помнит своего детства, чудесного возраста, когда видимый мир впервые раскрывается перед человеком, еще не пресыщенном жизнию, еще не озабоченным прозаическими отношениями быта? Отроку мир божий - прекрасный храм, в котором он пирует, увлеченный ежедневно новыми, разнообразными красотами природы; его радует и первый весенний листок на дереве, и легкое облако, летящее по небу, и голубой цветок, благоухающий в свежей, росистой зелени, и песни жаворонка в чистом поле, и цветная радуга на сизом грунте тучи, и рассказы старухи-няни о Змее Горыныче, чудной королевне-красавице и злых волшебницах; сердце верует во все чудеса безусловно, не призывая на помощь холодного ума; впечатления живы, неизгладимы. И долго еще после, когда человек, выведенный годами и обстоятельствами на грустное поле жизни, делается тружеником, с каждым днем разрушая свои мечты, разбивая лучшие надежды, он часто оборачивается на прошедшее, и воспоминания детства, тихие, светлые, подобно легким сновидениям, убаюкивают его в дни страданий, в которых он, гордый, действующий по собственному разуму, почти всегда сам бывает причиною!
Помню и теперь рассказы доброго старика баштанника, ни один роман, ни одна повесть наших знаменитостей не производят на меня теперь такого действия. Бывало, учитель рассердится на меня не в шутку за мои вопросы, вроде следующих: как мог дом такой-то пресечься? Или дом такой-то войти в славу?
- Не рассуждай,- отвечал учитель
- Да ведь домы не движутся: как же дом вошел в славу? Вот здесь написано.
- Будешь много знать, скоро состаришься. Учи заданную страничку; вырастешь, сам узнаешь.
Скажет громко, рассердится, позовет двух-трех горничных и идет в рощу ботанизировать - срывать цветочки.
Учитель постоянно занимался ботаникой, когда никого не было дома. Тут мне была своя воля: чуть он в рощу, я уже в степи, сижу перед будкой баштанника и слушаю его рассказы
Старику было за сто лет - и чего ни знал он, чего ни рассказывал! И про шведов, и про татар, и про запорожцев... И солнце, бывало, зайдет, и яркие звездочки сверкнут кое-где на синем небе, и роса станет садиться на широкие листья арбузов и дынь, а старик все рассказывает… Прибежишь домой - целую ночь снятся рыжие шведы на курчавых лошадях, поляки, закованные в сталь от головы до пяток, татары низенькие, черные, плечистые, узкоглазые стоят в строю, уставили копья, как еж иглы; вот скачут запорожцы красные, будто пламя, веют чубы, шумят бунчуки и значки, перед ними Дорошенко, усы в пол-аршина, на плече тяжелая булава. Ударили: треск, стон проснешься - и рад, и жалко чудесного сна!
Но более всего остался у меня в памяти рассказ старика об охоте - не о бекасиной охоте, не об охоте на зайцев или волков, нет, это была особенная охота; об ней почти так рассказывал баштанник:
- Невеселые теперь времена, право, невеселые; как-то стало и холоднее, и скучнее; вот с очаковской зимы, как принесли москали с собою снег да морозы, и до сих пор не выведутся знать, полюбилось, да и солнце что-то светит не по-прежнему станет вечереть, хоть шубу надевай. А потехи теперешние, срам сказать, мячи да горелки - бабьи потехи, нет характерства, совсем нет!.. В старину, на моей еще памяти, какие бывали по веснам охоты… Дурни! - скажет кто-нибудь, - охотятся весною, дурни, и я скажу, а мы все-таки охотились и не были дурни. Охота охоте рознь.
Как люди, бывало, пообсеются в поле, совсем обсеются, и гречихи посеют, а косить еще рано, тут и пойдет гульня, парубки оденутся хорошенько, выйдут после обеда на выгон, лягут на зеленой травке на спину и, глядя на небо, курят люльки да поют песни; или, оборотясь кверху спиною, курят люльки и что-нибудь рассказывают, глядя на траву; так. до вечера веселятся; вечером, известно, придут девушки, и пойдет другое веселье.
Вот так иногда лежат парубки, да и говорят между собою, что довольно уже лежали, набрались силы и не знают, куда ее истратить; а тут, где ни возьмись, какой-нибудь из Запорожья характерник, вырастет перед ними будто из земли да и станет насмехаться: "Вот, говорит, где лежат гречкосеи; видно, ни одной козацкой души нету, а все кабаны кормленые" - и прочее все такое обидное…
- Да что ж это за характерник, дедушка?
- Характерник бывал человек очень разумный и знал всякую всячину; его и пуля не брала, и сабля не рубила; у него на все было средствие и способ, на все хорошее слово и польза. Характерники знали все броды, все плавы по Днепру и другим речкам; характерник из воды выводил сухого и из огня мокрого, у них была лыцарская совесть и добродушие; жида и прочую мерзость били, грабили, жгли, а церкви не забывали. Вот что были характерники.
Хлопцы, бывало, рассердятся на характерника за насмешки, встанут и захотят его порядком поколотить.
Тогда характерник скажет: "Ладно, хлопцы; вот так! Не говори казаку худого слова! Только постойте, нам ссориться нечего, а вижу, что вы есте добрые казацкие души, а я из Сечи характерник. Шутка шуткою, я за нее поставлю вам ведро водки, а вы все не правы не пристало вам сидеть сложа руки, когда пора охотиться. Я сейчас от Днепра, он вам кланяется, почти уже в берега вступил… Ждет гостей."
- Вот речь, так речь! Сейчас видно человека! - скажут парубки. - Не трогайте его, хлопцы: он хороший человек; мы и сами думали на охоту, да не было ватажка: тебя сам бог прислал, батьку, веди нас куда знаешь.
- Называйте меня дядьком, для меня и этого довольно.
- Э, нет! Не смотри, что мы оседлые, а все-таки знаем казацкую поведенцию. Ты по летам нам дядько, а теперь если наш начальник, так и батько; вот наши чубы, дери сколько душе угодно; веди, батьку, куда хочешь.
- Ну, добре дети; я вижу, вы народ, знающий службу! Прежде всего я вас поведу в шинок, расплачусь ведром водки за свои прежние речи; у нас и сам кошевой поплатится, когда посмеется над казаком.
Выпив в шинку горелки, хлопцы с характерником едут в другое село, в третье, в четвертое, и - смотри, дня в три наберется сотни две охотников; тогда едут к Днепру, днем прячутся в плавнях и кустарниках, а ночью втихомолку по одному человеку переплывают на конях в разных местах речку, собираются в кучи и глядишь - к свету запылали ляхские села! И там днем кроются в лесах, ночью с криком нападают на деревни и местечки, бьют неприятеля, грабят всякое добро и погреба, разгоняют тысячи народа, а коли почуют, что поляки собирают против них войско, так домой врассыпную, переплывут Днепр - и дома. Тут пойдет гульня!.. И давно ли это было, подумаешь!..
Тут, бывало, старик набожно перекрестится и долго-долго думает, понурив седую голову.
Точно такая ватага охотников расположилась ночевать В лесу у Днепра недалеко от деревни Домантова, чтоб с рассветом въехать в плавни, и там, выкормя целый день лошадей, на следующую ночь отправиться в набег за Днепр. Казаки сидели в кружках и, весело разговаривая, ели походную кашу из деревянных корыт.
- Добрый вечер, паны-молодцы! - сказал молодой человек, подходя к одному кружку.
- Здорово, братику! - отвечали казаки.
- Хлеб да соль!
- Едим, да свой, а ты у порога постой, - прибавил характерник.
- Где тут у дьявола порог! Давайте-ка и мне, братцы, место, - сказал пришедший, вынимая из кармана деревянную ложку.
- Вот казак догадливый. Вечеряй, братику; садись возле меня, - почти вскрикнул характерник, очищая место пришлецу.
За ужином разговорились. Пришлец сказал характернику, что он из Пирятина Алексей-попович, что его застал один важный пан с своею дочкою, и бог знает, чем бы это кончилось, если б он, попович, не бросился в лодку и не уплыл, а что теперь пошел по свету искать счастья.
- И ладно! - заметил характерник. - Ты казак хоть куда с виду, а учен - еще лучше. Поедем теперь на охоту за Днепр, а там я, пожалуй, сведу тебя в Сечь. У нас житье привольное и разумному человеку почет, только не хвастай своим разумом. Года четыре назад к нам пристал в бору под Киевом ваш брат, студент, а теперь, шутка сказать, он кошевым! Ну, да и голова! Фу, голова!.. В Киеве, видишь, поспорил с начальством за бабу, что ли. Начальство посадило его до распдавы в комнату с железными решетками; Грицка бог силою не обидел: хватил молодец решетку - и осталась в руках; он вылез в окно - да в лес и пристал к нам; теперь не кается.
- Грицко? - спросил удивленный попович. - Такой белокурый?..
- Да, это наш теперешний кошевой, Грицко Зборовский. Разве ты его знаешь?
- Нет: я знал в Киеве Грицка Стрижку; он также убежал года четыре назад из карцера, а Зборовского не знаю.
- Эх, ты, молодая голова! Он по-нашему Зборовский; у нас долг велит давать всякому казаку фамилию, а у вас он был стрижка или нестрижка, нам нет дела! Привели молодца из бору, вот он и стал Зборовским… Такой высокий, белобрысый, на правой щеке бородавка.
- Коли так, то я его знаю. Большой был мне приятель Грицко; учивали мы с ним вокабулы вместе, и говорили о святой вирши, и каникулами пели псалмы, ходя по дворам.
- Чего же лучше? Так после охоты едем в Сечь?
- Едем.
VI
Считаю лишним описывать подвиги охотников за Днепром. Они прошли с огнем и мечом лесами до речки Выси, за которою уже начинались вольные степи, принадлежащие теперь к Херсонской губернии, разделили добычу и поехали домой, а характерник с Алексеем-поповичем, переплыв реку, углубились в зеленое море степей.
Порою из-под лошадиных ног, свистя, вылетали степные стрепеты, порою, раздвигая кусты ракиты, проползал перед ними огромный желтобрюхий змей, красиво изгибаясь и сверкая волнистыми линиями, и, подняв голову над травою, злобно шипел вслед за ними, порою трусливый заяц, испуганный лошадиным топотом, срывался из-под широких листьев дикого хрена и, будто мячик, укатывался в зеленую даль; да иногда суслик, взобравшись на высокий курган, свистел, присев на корточки. А наши путники все ехали да ехали на юго-восток, кругом были степь да небо; но характерник ехал как по битой дороге, и через несколько дней они были близко Сечи.
Характерник остановился, слез с лошади, протер ей ноздри, что посоветовал сделать и Алексею, и отпустил ее пастись, привязав конец чумбура [2] к своему поясу, потом сел на траву, поджав ноги по-турецки, и сказал Алексею:
- Садись, братику.
Алексей сел.
- Ну, вот мы скоро будем в Сечи, - продолжал характерник, набивая и раскуривая трубку.
- А далеко ли она?
- Отсюда не видно, а подъедешь ближе - и шапкою докинешь.
- Ты уж и рассердился, батьку?
- Я не сержусь. А как можно доброму казаку прямо допрашиваться чего-нибудь?. Будто баба, у которой язык чешется, или жид нечистый!.. Ты еси еще дурень во казачестве, как я вижу. Казак все знает, а чего и не знает, никогда не спрашивает, разве выведывет политично. Ты сказал бы "Должно быть, к вечору доедем", а я отвечал бы. "Разве на птице, дай бог завтра к вечеру" Вот ты и смекнул бы, как оно есть. Это раз. А другое: не зови меня больше ни батьком, ни дядьком, на гетманщине дело иное там я вам всем дядько, и вашему полковнику, да и на гетмана не очень смотреть стану: там я запорожец. Вот что! На охоте я был ваш ватажок, начальник, вы меня и звали батьком А тут мы все равны я казак славного Запорожья, ты пристаешь в наше товариство - мы равны. Называй меня, братику, просто Никита Прихвостень.
- Прихвостень?..
- Что? Не нравится мое прозвище?.. Посмотрим, какое еще тебе дадут! У нас все переменяют прозвища, да не в прозвище дело; не оно тебя скрасит, а ты его скрась Я простой человек, так себе, прихвостень, а на войне Прихвостень впереди всех, а Прихвостню кланяются куренные, и сам кошевой говорит "Прихвостень - настоящий казак". Это да. А третье, как бы ты прежде ни был дружен с нашим кошевым, не признавайся к нему сразу, пока он сам тебе не скажет, что тебя помнит Было время, вы бурсаковали вместе - хорошо, бурсаковали так бурсаковали - и кончено Теперь он великий начальник, ему не покажется, коли всякая дрянь станет к нему лезть в приятели, ты не дрянь сам по себе, да в казачестве еще теленок. Понимаешь?
- Может, и так
- Так оно и есть. Теперь у меня к тебе есть просьба. Любишь ли ты хмельное?
- Употребляю из политики, как следует человеку, а не то, чтоб великий был охотник.
- Так после чарки, другой, десятой, не порывает ли тебя прогулять все, дочиста, до нитки, не тянет ли даже душу заложить?..
- Такой оказии не бывало.
- Ну, ладно! Спрячь, пожалуйста, вот эти пять дукатов и не отдавай мне, как бы я ни просил, как бы ни приказывал, что бы ни делал - не отдавай до Сечи, а с остальными я управлюсь.
- Пожалуй А те все прокутишь?
- Прокучу!. Да и на беса ли они мне? В Сечи все общее, что твое, то мое, такое уже братство, все общее, кроме коня и оружия, это уже связано с душою, как чубук с трубкою - его не разрознишь. Я бы и пяти дукатов не оставил, да знаешь, нужно поклониться куренному и кошевому, не будь этого, все пустил бы на волю. После чарки у меня так вот и загорится в глазах, хочется музыки, песней, грому, распахнется казацкая душа, гуляй!.. А тут, верно, за грехи мои, явится чертенок и сядет на носу… ей-богу, вот так-таки и сядет верхом, как на кобылу, и вижу, да не могу снять, так и ездит, так и вертится и шепчет: "Давай, Никита, денег на водку". Чуть замешкаешь или второпях не отыщешь скоро кармана, так ущипнет, проклятый, за кончик носа, что слезы градом побегут, а сам оборотится ко мне и язык показывает. Вот какая оказия! Порой не вытерпишь, дашь ему щелчка, кажись пропал, только на носу затуманится; прошел туман - опять сидит проклятая тварь и щиплет за нос!..
- Где же будешь кутить, брате Никита?
- Опять спрашиваешь по-бабьи! Ох, мне эти белоручки-гетманцы!.. Казак не без доли. Садись, поедем.
Казаки поехали крупною рысью. Скоро Никита начал оглядываться по сторонам, приложил кулак к правому глазу, долго всматривался вдаль и закричал;
- Так и есть, вот близко. Берег, Алексею!
- Где?
- Разве ты не видишь впереди ничего?
- Ничего, кроме птицы.
- Вот эта птица, что летает, и есть берег.
- Мало ли мы видели птиц!
- Птица птице рознь: это ворона, вот что хорошо…
- Ворона - птица так себе.
- Оттого и хорошо, что так себе; ворона - дурак; вольный Кречет, словно казак, быстро летает по дикой степи, а ворона мужиком дело, трется около жилья; увидел ворону - и жилье близко… Скачи за мной…
Через полчаса казаки прискакали на край крутого оврага, подле его глубоко, чуть приметною тесемкою вился по песчаному дну маленький ручеек; по сторонам громоздились, торчали огромные серые скалы; в расселинах лепился терновник, шиповник и выбегал прямыми зелеными побегами гордовый кустарник, очень известный на юге по своим крепким, бархатистым чубукам Внизу молодая девушка, сидя на камне у берега ручья, мыла ноги.
- Вот и Варкина балка (Варварин овраг), - сказал Никита, - тут ее и зимовник.
Девушка быстро запрокинула назад голову, взглянула вверх, вскрикнула и исчезла.
- Экая проворная Татьяна! - проворчал Никита. - Это племянница Варки, веселая девушка!
- А Варка кто?
- Варка вдова нашего казака, по смерти мужа держит шинок тут неподалеку от Сечи. Духу мужского нет здесь, все бабы - она да ее племянницы; а живет хорошо, все деньги наши сиромы [3] тут оставляют. Тут пьют, тут гуляют, тут… А вот она сама.
В это время шагах в двадцати из-за скалы показалась женщина лет сорока; волосы ее были убраны под казацкую шапочку-кабардинку; лицо и шея смуглые, загорелые, над темными сверкавшими глазами черною скобкою лежали густые сросшиеся брови; за поясом у нее была пара пистолетов и татарский нож, в руках турецкая винтовка. Уставя дуло винтовки против казаков, она грозно спросила: "По воле или по неволе?"
- Вот так лучше! - отвечал захохотав Никита. - Известно, по воле! И своих не узнала. Варка Ивановна.
- Тьфу вас к черту! - сказала Варка, опуская винтовку.- Напугали меня. Думала нивесть кто, так принарядился Никита Прихвостень! Откуда, коли по воле?
- Пшеницу пололи.
- Доброе дело! А куколя много?
- Есть, небого! - отвечал Никита, побрякивая в кармане дукатами. - Пока с собою носим.
- Милости просим! Отваливайте же камень. А это новитний (новичок)?
- Еще теленок, а будет волком.
Казаки отвалили камень, и им представилась узкая тропинка, по которой с трудом сошли они и свели лошадей. Лошадей спрятали под навес скалы, а сами отправились в шинок.
Шинок был вроде грота или землянки; он состоял из большой комнаты и двух маленьких по сторонам; маленькие были спальни хозяйки и трех ее племянниц, а большая служила сборным местом для казачьих оргий. Вокруг, под стенами, стояли лавки и столы, в углу бочка пенника, на которой часто, сидя верхом, засыпал какой-нибудь характерник; над нею, в нише, стояли бутылки с разными настойками, ковши, стаканы, на стенах висели сабли, ружья и пистолеты.
Угрюмый Никита вовсе переменился, войдя в этот чудный шинок, где уже ожидала их Варка с бутылкою и чаркою в руках; три девушки, очень недурные, сидя у окна, что-то шили.
Сонце низенько, вечiр близенько,
Прийди до мене, моє серденько!
- весело пропел Никита, принимая чарку; выпил, разгладил усы и, обратись к девушкам, сказал:
- Здравствуйте, мои перепелочки! Живи, здоровы? Ждали в гости доброго казака?
- Куда как ждали! - закричали девушки в один голос. - Много вас таких поганых!
- Та-та-та, го-го-го, затрещали, сороки! А покажет поганый польское золото, не так запоете… Ба! Что это за новый крест у вас на том берегу?
- То так, - отвечала шинкарка, - третьего дня подгуляли хлопцы, немного поспорили, да один и остался на месте.
- Все по-прежнему, горячие головы! Кто ж остался?
- Старый хрен, войсковый писарь, - сказала смеясь Татьяна, - стал меня целовать, дурень, при всех; я закричала: казаки заступились за меня, да Максим Шапка так как-то нечаянно хватил его саблею, что он уже и не встал с места.
- А попробую я поцеловать тебя; посмотрю, убьет ли кто меня, - сказал Никита, обвивая рукою шею Татьяны.
- Отвяжись! Еще не выросли руки обнимать меня! Право, закричу, сейчас закричу! Вот, вот, вот закричу!
- А я тебе вот этим рот зажму, - говорил Никита, - держи покрепче зубами! - И, дав ей в рот червонец, начал целовать, приговаривая: "Экая королевна!" - Что ты сидишь, братику Алексею, как ополудни сова на березе? Пей, гуляй - я плачу! Видишь, как весело! Пой песню, подтягивай за мной:
Давай, Варко,
Еще чарку,
И поповичу под варку.
Выпьем - небу станет жарко!
Ox, моя Татьяна,
Чернобрива кохана!
У красавицы шинкарки,
У казацкой тетки Варки,
Много водки, меду, пива,
И племянницы на диво!
Ox, моя Татьяна,
Черноброва кохана!
Белогруда и красива
Татьяночка чернобрива,
И блестит меж казаками,
Как дукат меж пятаками!
Ох, моя Татьяна,
Чернобрива кохана!
Вот вам и песня, сейчас сразу сложил, такая моя натура казацкая - хмель в голову, песня из головы, а ничему не учился… Эх, братику Алексею! Что-то было б из меня, если б учили, как вашего брата!
К вечеру приехали еще человека четыре казаков поминать, как они говорили, покойного писаря, и поднялась страшная кутерьма. Никита бросал злотые и червонцы и, беспрестанно щелкая себя по носу, ворчал:
"Уж тут! Уж уселся, проклятый! Вот божее наказание!"
- Если б музыку, - сказали казаки, - то-то была бы потеха!..
- Истинная была бы потеха, - прибавил Никита.
- У меня есть бандура; Супоня на прошлой неделе заложил за бутылку водки, - говорила шинкарка. - Играйте, коли умеете.
- Хорошо! Хорошо! - закричал Никита. - Давай ее сюда!
- Давай ее сюда! - закричали казаки. Принесли бандуру.
- Хорошо! - говорили казаки, посматривая друг на друга, - Да кто ж сыграет?
- Кто сыграет? Эка штука! Мало я видел играющих! Кто хочет, пусть и играет, только не я.
- И не я! И не я! И не я! - отозвалось со всех сторон.
- Это б то вышло: есть в кувшине молоко, да голова не влазит! - сказал Никита. - Не умеешь ли ты, Алексей? Ты человек грамотный.
- На гуслях то я немного маракую, а на бандуре никогда не пробовал, - отвечал Алексей.
- Пустое! Гусли, бандура, балалайка, свистелка - все одно, все играет, все веселит! Ей-богу, оно все родня между собою! Играй!
Алексей положил бандуру на колени, как гусли, взял два-три аккорда, и вышла какая-то музыкальная чепуха вроде казачка. Казаки пришли в восторг и пустились вприсядку.
Никита с приятелями гуляли нараспашку, съели годовалого поросенка, выпили неимоверное количество всякой всячины, и за полночь у Никиты не осталось ни гроша в кармане. Шинкарка перестала давать водки и не хотела брать под залог ни оружия, ни коня.
- Да отчего же ты не берешь моего добра? Моя сабля добрая и конь добрый; отдам дешево. Бери, глупая баба!..
- Ты сам глуп, Никита; нельзя, так и не беру: кошевой не приказал.
- Правда, правда, - говорили казаки, - только позволь пропивать оружие, через неделю на всю Сечь останется один пистолет.
- И одним пистолетом всех переколочу!.. Такие-то вы добрые товарищи, бог с вами, тянете руку за бабою!.. Верно, моя такая нечистая доля, - жалобно говорил Никита. - Еще бы чарку-другую, и довольно… А! Постойте, постойте! Я и забыл! У тебя, Алексей, есть мой деньги?
- Есть пять дукатов.
- И хорошо; давай их сюда!
- Не дам.
- Как ты смеешь не давать ему его денег? - спросили казаки.
- Он сам не велел: нужно, говорит, оставить на гостинец куренному.
- Да, да, правда, Алексей! Нужно поклониться начальству, нужно… Вот приятель, поди сюда, я тебя поцелую.
- Вот еще, великая птица куренной! - сказали казаки.
- И то правда, как подумаешь, - продолжал Никита, - не велика птица, ей-богу! Был простой казак, а теперь куренной казак, как и я, и все мы. Поживу - и меня выберут в куренные. Выберете, хлопцы?
- Выберем, выберем! - закричали казаки.
- Выберите его сейчас, - сказала шинкарка.
- Хорошо, хорошо! Сейчас. Да здравствует наш куренной Никита Прихвостень! Ура!..
Казаки бросили шапки кверху; Никита важно раскланялся, поблагодарил за честь, сел на лавку и, подбоченясь, сказал:
- Ну, теперь, Алексей, отдавай гроши своему начальству; оно тебе приказывает.
- Не отдам, хоть бы ты и вправду был начальник; проспись, тогда отдам.
- Эге! Твердо сказано, характерно. Хлопцы, из него путь будет! А вы что там смеетесь, бабы? Думаете не отдаст? Посмотрим. Хлопцы, станьте подле этого изменника; так, сабли вон!..
- Ну, что? теперь отдашь, братику? а?
- Не отдам.
- Не отдашь? - протяжно сказал Никита.
- Чужие, чужие! - закричала Татьяна, вбегая в комнату. - Слышь, скачут по степи!..
Один казак прильнул ухом к стене и значительно сказал:
- Сильно скачут: верно, за кем погоня.
- Я разведаю, - быстро проюворила шинкарка, схватив со стены ружье, - а вы топчите, гасите огонь.
Огонь погашен; в темноте защелкали курки ружей и пистолетов и прошептал один казак:
- Скачут; сильно скачут; уж не крымцы ли? Говорят, они сбираются на гетманщину. - И все стало тихо, как в гробу. Чья-то мягкая рука сильно схватила за руку Алексея, и кто-то прошептал ему на ухо:
- Ступай за мной, я спасу тебя.
- Кто ходит? - спросил Никита.
- Это я, - сказала Татьяна, - сидите смирно; пойду проведаю, что делается.
Она вышла и вывела за собой Алексея. Ночь была тихая, безлунная; звезды ярко горели на чистом небе; чуть слышно роптал ручей, разбиваясь о встречные камешки, да порою шелестела земля, сыпавшаяся из под ног шинкарки, которая осторожно пробиралась между скалами вверх по тропинке. Вдали на степи слышался глухой топот. С полверсты шел Алексей за Татьяною вниз по ручью; потом она быстро вскочила на скалу и почти втащила туда за руку Алексея, раздвинула терновик, села на камень, посадила возле себя изумленного поповича и сказала:
- Не бойся, ничего не бойся; мне жалко стало тебя, они б тебя убили ни за что, вот я и выпустила в степь казацких коней; кони побегают да и прибегут сюда, а нашим гулякам страху задала: они забыли о тебе с перепугу. Сиди здесь; как уснут наши, мы убежим; твоего коня и еще другого я нарочно оставила: я украду у Варвары мешок дукатов, и мы славно заживем. Хочешь?
- Пожалуй, убежим, я тебе за это заплачу, а золота не крадь у тетки; грех красть.
- Какая она мне тетка!.. Твоей платы я не возьму: не век же мне все делать за плату!.. Сиди смирно; послезавтра будем далеко, у вас, на гетманщине.
- Нет, я хочу в Сечь.
- Зачем тебе в Сечь?
- Видишь, Татьяна: я люблю девушку богатую, знатную, люблю и не могу назвать ее своею; так пусть же пропадет моя голова, коли позволила сердцу полюбить неровню. Поеду в Сечь, авось в схватке сложу голову под ножом татарина.
- И ты ее любишь?
- Очень люблю.
- И она хороша?
- Лучше всех на свете! Я ее люблю больше всего, больше своей жизни. Если мне доведется умереть за нее, я поблагодарю бога; мне будет весело и умирать.
- Я бы убила ее.
- За что?
- Так. Отчего она счастлива, отчего меня никогда никто не любил так? Ласкали меня, как собаку, и, как собаку, отталкивали ногою, когда я наскучала им. Алексей, поцелуй меня как сестру; хоть из милости… Я полюбила тебя с первого взгляда; я смеялась, шутила, пела перед тобою - а ты был грустен, даже не улыбался, от чего хохотали другие; даже не смотрел на меня, и мне стало совестно самой себя; я была сердита; мне казалось, я ненавижу тебя, казалось, готова была убить тебя, и не знаю, чего бы ни дала, чтоб спасти тебя от пьяных казаков… Бог с тобою, люби другую! Не думай обо мне, только поцелуй меня… Мне ночью приснится твой образ, твои стыдливые очи, кроткие речи, твой поцелуй, и мне станет весело, весело… Поцелуй же меня! Посмотри, я плачу, ей-богу, плачу! Ну, вот так, спасибо! Сиди смирно, спи на здоровье; казаки проспятся - все забудут; они люди добрые… вы поедете вместе…
И, жарко, судорожно обняв и поцеловав Алексея, Татьяна изчезла в кустах терновника.
Несколько времени был слышен топот около балки, потом громкие голоса казаков, ловивших лошадей, потом восклицание: "Агов, Алексей! Где ты? агов!.." Затем какая-то песня, звон разбитого стекла, еще какие-то отголоски все тише и тише.. и Алексей заснул.
Было уже около полудня, когда проснулся он; перед ним стояла Татьяна.
- Я пришла будить тебя, - говорила она, - и жалко было будить, так хорошо спал ты. Вставай скорее; Никита и казаки готовы ехать на Сечь.
- Ехать, так и ехать, - отвечал Алексей. Никита, увидев Алексея, очень обрадовался; казаки удивлялись, как он мог пропасть из шинка, будто сквозь землю провалился, и предрекали из него в будущем великого характерника; но и Никита и все вообще не могли представить, как мог человек вытерпеть, не отдать на попойку чужих денег и даже чуть не попал через это в весьма неприятную ссору.
- Странное дело для меня бабы, - говорил Никита, выезжая из балки, - никто их не поймет. Хочешь поцеловать Татьяну - бьет по рукам, царапается, как кошка, а выезжаешь - не вытерпит, в слезы ударится!
Алексей оглянулся: стоит Татьяна над балкою, смотрит им вслед и отирает глаза белым платком.
VII
Обычаи запорожские чудны!
Поступки хитры! И речи, и вымыслы остры и больше на критику похожи.
Никита Корж
Начало вечереть, когда перед нашими путешественниками открылась крепость, обнесенная высоким земляным валом, с глубоким рвом вокруг и палисадом вал был уставлен пушками; за валом раздавался говор, дымились трубы, блестел золотой крест церкви и торчала высокая колокольня; из ее окон глядели пушки на все четыре стороны.
- Вот и Сечь-мати! - сказал Никита.
- И святая Покрова, - прибавили казаки, сняли шапки, перекрестились и въехали в городские ворота. Казаки поехали по своим куреням, а Никита прямо к кошевому представлять новобранца.
- А что, узнал ты Зборовского? - спрашивал Никита, идя от кошевого к куреню.
- Как не узнать! Он тот самый Стрижка, с которым не раз мы гуляли в Киевской бурсе. Я уже хотел признаться, да такая в нем важность!..
- Важная фигура, настоящий кошевой! Всем говорит: "Здорово, братику", будто простой казак, да как скажет: "братику", словно тумака даст, только кланяешься - настоящий начальник.
- Я думал, он узнает меня.
- Молчи, братику, он узнал тебя, я это сейчас заметил; да себе на уме, верно, так надобно. Правду говорит песня:
Только бог святой знает,
Что кошевой думает, гадает!..
А вот мы уже близко нашего Поповичевского куреня. Есть ли у тебя в кармане копейка?
- Больше есть.
- Я не спрашиваю больше; а есть ли копейка?
- Найдется.
- Ну, так войдем в курень; скоро станут вечерять.
Курень была одна огромная комната вроде большого рубленного сарая, без перегородок, без отделений, могущая вместить в себе более пяти- или шестисот человек; кругом под стенами куреня до самых дверей были поставлены чистые деревянные столы, вокруг их - скамьи; передний угол был уставлен иконами в богатых золотых и серебряных окладах, украшенных дорогими каменьями; перед иконами теплились лампады и висело большое серебряное церковное паникадило; несколько десятков восковых свеч ярко горели в нем и, отражаясь на блестящих окладах образов, освещали весь курень. Под образами, за столом, на первом месте сидел куренной атаман.
Когда Никита с Алексеем вошли в курень, казаки уже собрались к ужину и толпою стояли среди комнаты, громко разговаривая кто о чем попало. Всилу протолкались они к атаману между казаками, которые, неохотно подаваясь в стороны от щедрых толчков Никиты, продолжали разговаривать, даже не обращая внимания на то, кто их толкает.
- Здорово, батьку! - сказал Никита, кланяясь в пояс атаману; Алексей сделал то же.
- Здоровы, паны-молодцы. Чем бог обрадовал?
- Вот кошевой прислал в твой курень нового казака.
- Рад… Ты, братику, веруешь во Христа?
- Верую.
- А что тебе говорил кошевой?
- Поважать старших, бить католиков и бусурманов.
- Добре!
- Говорил стоять до смерти за общину и святую веру, ничего не иметь своего, кроме оружия; не жениться.
- Добре, добре! И ты согласен?
- Согласен, батьку.
- А еще что?
- А после сказали: ты еси попович, так и ступай в Поповичевский курень; там же и казаков теперь недостает.
- Правда, пет у меня теперь и четырех сотен полных: много осталось в Крыму, царство им небесное!.. А что был за курень с месяц назад, словно улей!.. Ну, перекрестись же перед образами и оставайся в нашем товаристве.
Между тем куренные кухари (повара) уставили столы деревянными корытами с горячею кашей и такими же чанами с вином и медом, на которых висели деревянные ковши с крючкообразными ручками - эти ковши назывались в Сечи "михайликами", - разносили хлеб и рыбу, норовя, чтоб она была обращена головою к атаману; принесли на чистой, длинной доске исполинского осетра, поставили его на стябло [4] перед атаманом и, сложив на груди руки, низко поклонились, говоря: "Батьку, вечеря на столе!"
- Спасибо, молодцы, - сказал атаман, встал, расправил седые усы, выпрямился, вырос и громко начал: "Во имя отца и сына и святого духа".
- Аминь! - отгрянуло в курене, и все благоговейно замолкло.
Куренной внятно прочел короткую молитву, перекрестился и сел за стол. Это было знаком к ужину: в минуту казаки уселись за столы, где кто попал; пошли по рукам михайлики, поднялись речи, шум, смех.
- Да у вас на Сечи едят чисто, опрятно, а как вкусно, Хоть бы гетману! - говорил Алексей своему товарищу Никите. - Одно только чудо…
- Знаю, - отвечал Никита, - что мы едим из корыт? Правда?
- Правда.
- Слушай-ка нашу поговорку: вы едите с блюда, да худо, а мы из корыта досыта…
- Дурни ж наши гетманцы: они перенимают у Запорожья только дурное, а на хорошее не смотрят.
- Люблю за правду; видно, что будет казак. Выпьем еще по михаилику.
К концу ужина кухари собрались в кучку среди куреня, атаман встал, за ним все казаки, прочитал молитву, поклонился образам, и все казаки тоже; потом казаки поклонились атаману, раскланялись между собою и отвесили по поклону кухарям, говоря: "Спасибо, братики, что накормили".
- Это для чего? - спросил Алексей Никиту.
- Такая поведенция, из политики. Они такие же казаки, лыцари, как и прочие: за что ж они нам служили? Вот мы их и поважаем
После ужина куренной подошел к деревянному ящику, стоявшему на особом столе, бросил в него копейку и вышел из куреня; казаки делали то же.
- Бросай свою копейку, - сказал Никита Алексею, - завтра на эти деньги кухари купят припасов и изготовят нам обед и ужин.
"Чудные обычаи!" - думал Алексей, выходя из куреня. А вокруг куреня уже гремели песни, звенели бандуры; кто рассказывал страшную легенду, кто про удалой набег, кто отхватывал трепака… И молодая луна, серебряным серпом выходя из-за высокой колокольни, наводила нежный, дрожащий свет на эти разнообразные группы.
VIII
Проснувшись рано утром, Алексей-попович заметил в курене необыкновенное движение - казаки наскоро одевались, брали оружие и торопливо выходили. Возле церкви был слышен глухой гром.
- Зовут на раду, - сказал Никита, - пойдем!
- Пойдем, - отвечал Алексей. - Зачем же нас зовут?
- Придем, так услышим. Может, поход куда или что другое, бог его знает!
Площадь перед церковью Покрова кипела народом; у столба, среди площади, стоял доубищ [5] и бил в литавры. В растворенных церковных дверях виднелись священники и диаконы в полном облачении. Но вот зазвонили колокола, засверкали перначи, бунчуки, зашумели войсковые знамена; преклоняясь до земли, явился кошевой атаман. Священники вышли к нему со крестами, народ приветствовал громким "ура". Кошевой был одет, как простой казак: в зеленой суконной черкеске с откидными рукавами в красных сапогах и небольшой круглой шапочке-кабардинке, обшитой накрест позументом, только булава, осыпанная драгоценными камнями, да три алмазные пуговицы на черкеске, величиною с порядочную вишню, отличали его от рядового запорожца, между тем как бунчужные и другие из его свиты были в красных кафтанах, изукрашенных серебром и золотом.
Кошевой приложился к кресту, взошел на возвышенное место, нарочно для него приготовленное, и, обнажив свою бритую голову, поклонился народу.
- Здоров, батьку!.. - закричал народ и утих. Литавры перестали бить, колокола замолкли.
- Я вас созвал на раду, добрые молодцы, запорожское товариство! Как вы присудите, так тому и быть.
- Рады слушать! - закричали казаки.
- Вам известно, молодцы, что бог взял у нас войскового писаря. Так богу угодно; против его не поспоришь. Жил человек и умер, а место его всегда живи: другой человек живет на нем. Так и мы умрем, и после нас будут жить!
- Правда, батьку! Разумно сказано! - отозвалось в толпе.
- Вот и у нас теперь осталось место войскового писаря; изберите, молодцы, достойного человека.
Кошевой спокойно стал, опершись на булаву, а меж народом пошел говор; тысячи имен, тысячи фамилий слышались в разных концах; не было согласия. Долго стоял кошевой, наконец поднял булаву, махнул - и говор прекратился.
- Вижу, - сказал кошевой, - что дело трудное: Ивану хочется Петра, Петру - Грицка, а Грицку - Ивана, и кто прав? Дело темное, в чужую голову не влезешь, будь спор о храбрости, о характерстве, сейчас бы решили - это дело видимое; а письменность не по нас…
- Правда, батьку!
- Хотите ли, молодцы, я вам предложу писаря? Вчера пришел к нам в наше товариство попович из Пирятина; я с ним говорил вчера и удивлялся его разуму. Сам бог его прислал на место покойного; выберите его - и не будет ни по-чьему, а будет по воле господа.
Алексей слушал и не верил ушам своим.
- Хитрая собака наш кошевой! - шепнул ему Никита, толкая в бок. Между тем народ заговорил:
- Да, он молодец, - кричал один казак, - не задумается над михайликом!
- А какой характерный! - продолжал другой.
- А как играет на гуслях и на бандуре! - подхватил третий. - Заморил нас танцами у Варки в шинке.
- Лучше этот, хоть я его и не знаю, нежели пройдоха Стусь! - кричал четвертый.
Говор час от часу делался сильнее, одобрительнее - и вдруг разом полетели кверху шапки: Алексей-попович был избран в войсковые писаря. Тут же, на площади, надели на него почетную одежду, привесили к боку саблю, а к поясу войсковую чернильницу и, вместе с куренными атаманами и прочею знатью, повели на завтрак к кошевому. Простому народу выставили на площади жареных быков и бочку водки.
После завтрака все разошлись; кошевой оставил писаря для занятий по делам войска. Когда они остались одни, долго кошевой смотрел на Алексея и сказал:
- Алексей! Разве ты не узнаешь меня?
- Давно узнал, да не знал, как признаться к тебе.
- Ну, обнимемся, старый товарищ! Вот где мы сошлись с тобой!.. Помнишь Киев? Быстроглазую Сашу? А?
- Помню, Грицко! А как злилось начальство, когда узнало о твоем побеге!
- Неужели?.. Я думаю..
- Сказали, что ты знаком с нечистою силою, а без нее не выломил бы решетки. И в голову не пришло, что я подпилил ее…
- Век не забуду твоей услуги. А Саша что?
- Три дня плакала, на четвертый утешилась, а на пятый вышла за того ж магистра, что посадил тебя в карцер.
- Вишь, гадкая! Да я об ней больше не думаю… Расскажи. мне лучше, как ты сюда попал? Алексей начал говорить.
- Вот наш кошевой трудящий человек, - говорили за ужином по куреням казаки, - с утра до самого вечера занимался с новым писарем войсковыми делами: писарь у него и обедал.
А у кошевого во весь этот день о войсковых делах и помина не было. Алексей рассказывал свои приключения, как он попал в Сечь и т. п., и решительно объявил сильное желание умереть. Кошевой утешал его, обещал при случае хлопотать у полковника Ивана, а между прочим, сказал, что скоро будет случай ему отличиться и, заслужа известность храброго писаря, лично просить руки дочери полковника, потому что (прибавил он) через несколько дней мы отправимся морем жечь крымские берега; наши лазутчики известили, что хан хочет напасть на Украину - чуть узнаем, что татары вышли в поход, мы на чайки и, словно снег на головы, падем на их города и села. А до тех пор ты займи палатку войскового писаря: она вот рядом с моим кошем - тебе теперь, как старшине, не пристало жить в курене; да при людях не показывай вида, что мы старые приятели: запорожцы очень подозрительны - и тогда я мало могу сделать тебе полезного, не рискуя потерять свою власть Ну, прощай, Алексей!
- Прощай, Грицко.
Старые приятели обнялись и расстались.
IX
Веди меня, пустынный житель,
Святой анахорет.
В. Жуковский
Никто в Пирятине не догадался, куда исчез Алексей-попович. Утром нашли на берегу Удая пустую лодку; в ней лежала шапка Алексея, и все положили, что он утонул. Донесли об этом полковнику Ивану.
- Коли утонул, так ищите себе другого попа, - хладнокровно отвечал полковник, а сам к вечеру со всем своим двором уехал в Лубны.
Недели две после возврата полковника в Лубны приехал туда старый запорожец Касьян. Он уже не жил в Сечи, а сидел где-то в степи зимовником, по старой привычке занимался охотою на Великом Лугу и привозил по временам в гетманщину шкуры видных [6] на так называемые кабардинские шапки, которые были в великой моде на Запорожье и, из подражания, очень уважались на гетманщине. Распродав свой товар и купя кое-что в Лубнах для домашнего обихода, Касьян возвращался домой.
Запорожцы никогда не ездили ни в каком экипаже; но везти разные громоздкие вещи верхом было Касьяну неловко. Касьян купил в Лубнах беду, то есть повозку на двух колесах, запряг в оглобли оседланную лошадь и поехал, проклиная при каждом толчке глупую езду в повозках.
- Наказал меня бог проклятыми оглоблями, - ворчал Касьян, - давят коня в бока, да еще и развязываются. Ну, бурый, ну, старик! Наказала и тебя лихая година! Были мы с тобой, бурый, молоды… Ой-ой! Скверная трясучка словно кулаком в бок хватила. Ну, бурый! Днепр недалеко, напою… Так ли, бывало, ездишь в старину! Опять развязалось! Тьфу ты, наказание, сущая бабья езда; молоко бы только возить… Стой, бурый!
Касьян привязал оглоблю к хомуту, для крепости затянул зубами узел и проворчал: "Чего лучше? Настоящий калмыцкий узел, после этого разве калача ей захочется, проклятой оглобле!" Сел на беду, весело махнул кнутом и запел:
Славно жить на кошу:
Я земли не пашу,
А парчу все ношу;
Я травы не кошу,
Сыплю золотом!
Тра-ла-ла! Тра-ла-ла!
- Эх, бурый, выноси! Днепр недалеко.
На войне не шучу,
А на смерть колочу,
Без войны я кучу,
Да кучу, как хочу,
В свою голову!.
Тра-ла-ла! Тра-ла ла!
- Здоров, дядьку! - зазвучал чистый, приятный голос за повозкою.
- Тьфу ты, нечистая сила, как человек сзади подкрался!.. Здоров, хлопче!
- Я не подкрался, дядюшка, а скакал верхом; вольно ж тебе было не слышать.
- Тут не до того, что прислушиваться; проклятые оглобли так и разлазятся, словно живые раки из горшй; так умаешься, так умаешься…
- Что запоешь песню.
- Ого, какой вострый! И песню запоешь; так что же? Тут степь, а в степи воля; пою, коли хочется…
- Не сердись, дядюшка Касьян, я пошутил только. Коли хочешь, и я с тобой спою.
- А ты почему знаешь, что я Касьян?.. Может быть, я Демьян или Митрофан…
- Как не знать! Тебя все Лубны знают; у тебя мой двоюродный дядюшка купил себе шкуру.
- А зась ему, твоему дядюшке, ходить в моей шкуре: пусть свою носит.
- Э, дядюшка Касьян, будто я сказал твою шкуру! Известно, купил звериную шкуру того зверя, что на плавнях раки ест; вот у меня из него шапочка
- Хорош казак, не знает какую шапку носит.
- Не до того было прежде, дядюшка, все учился, и сабли в руки не брал. Послушай, дядюшка Касьян, ты домой едешь?
- Домой в зимовник.
- А Сечь далеко от тебя?
- Далеченько.
- Послушай, дядюшка: возьми меня с собою в зимовник.
- На что ты мне?
- Погоди, дядюшка Касьян, а из зимовки проводи меня до Сечи.
- Тебя? До Сечи? Да куры станут смеяться, коли я приведу в Сечь мальчишку, школяра! Верно, высечь хочет дьячок, так ты удрал из школы и не знаешь куда деваться.
- Нет, - отвечал казак, потупив полные слез глаза, - не бранись, дядюшка, доведи меня до Сечи; дам тебе два дуката, у меня больше нет: я ухожу от беды неминучей, от смерти Возьми меня, дядюшка, не то брошусь при тебе в Днепр - на твоей душе грех останется.
- Пожалуй, пожалуй. Да кто ты сам?
- Ах, спасибо тебе, дядюшка!.. Я… Не выдавай меня, дядюшка!.. Я Алексей-попович из Пирятина
- С нами крестная сила!.. Тот самый, который утонул, говорят?
- Тот самый.
- И ты жив?
- Жив.
- Что ж за охота тебе прятаться без причины?
- Слушай, дядюшка; я тебе признаюсь. Видишь, я любил, очень любил дочку полковника Ивана…
- Фи, фи, фи! - просвистел Касьян. - Ну?
- А полковник и застал меня…
- Вот оно что!
- Я убежал и все прятался в тростниках, да пробирался в Сечь, пока тебя не увидел. Свези, дядюшка!
- Сказал, свезу, так свезу. Поезжай за мною… Откуда ж ты взял такое доброе платье и коня?
- Платье мое, дядюшка; а коня, грешный человек, украл. Не сердись…
- Вот еще! Кто не крал чего-нибудь на веку… Переезжая Днепр, Касьян думал: чем больше живу, тем больше уверяюсь, что глупее бабы нет ничего на свете. Как можно полковницкой дочке врезаться в такого мальчишку, в школяра? Был бы человек, здоровая, дебелая душа - куда бы ни шло, а то бог знает что! Известно, баба!..
- Что ты ворчишь, дядюшка?
- А так, вспомнил баб…
- Да и рассердился?
- Да и рассердился.
- Отчего?
- Не всем рассказывать! Состарился, присмотрелся, живу долго на свете - умирать пора!
Х
Во времена Запорожья Великий Луг [7] был покрыт дремучим лесом, из этого леса казаки строили большие одномачтовые гребные лодки, вмещавшие в себе до сотни человек, и, к удивлению мореходцев, безопасно переплывали на них Черное море, являлись нежданно даже в Малой Азии, грабили, разоряли города и безопасно возвращались в Сечь. Эти лодки были узки, длинны, легки на ходу и назывались чайками, вероятно, по своей быстроте и потому что по наружным краям с обеих сторон они были обшиты смоленым тростниковым фашинником, который давал им вид птицы с сложенными крыльями и препятствовал лодке тонуть, хотя бы она и наполнилась водою.
Свежий южный ветер быстро гнал по Черному морю несколько сот казачьих чаек; впереди всех вырезывалась лодка атамана, с небольшим крестиком на мачте. Ветер дул ровный, округляя тяжелые паруса из циновок, кое-где заплатанных бархатом и турецкими шалями. Казаки, подняв весла, отдыхали, курили трубки. Было жарко; полуденное солнце жгло, ветер дышал зноем, будто из раскаленной печи. Кошевой и несколько человек куренных, расстегнув воротники рубашек, полудремали, прислушиваясь к однообразному ропоту и плеску морской волны; войсковой писарь, лежа, перелистывал какую-то церковную книгу; кормчий, старый казак, сидел на корме, поджав ноги и не спуская глаз с пенистой струи, бежавшей за кормою, пел заунывную песню:
Где ты ходишь, где ты бродишь,
Казацкая доля?
Придавила казаченька
Горькая неволя!
О ох! Ох, о-хо!
Горькая неволя!
Нет ни племени, ни роду;
Тяжко жить на свете:
Ну, хоть просто с мосту в воду.
Доля моя, где ты?
О ох! Ох, о-хо!
Доля моя, где ты?
Отозвалась моя доля
По тот бок Лимана:
"Терпи, казак, я ласкаю
Богатого иана"
О ох! Ох, о-хо!
Богатого пана'
Вдруг лодка дрогнула, накренилась, парус заплескал по воде, поднялся, встрепенулся, будто живое существо, и обрызгал всю лодку.
- Ого! - сказал кошевой, быстро вскакивая на ноги. - Долой парус! Спускай мачты!
В минуту упал парус, и мачта тихе легла в длину атаманской чайки; другие сделали то же. Гребцы принялись за весла. На корме старый казак сидел по-прежнему спокойно, неподвижно и напевал:
Доля моя, где ты?
- Вишь, как разыгралась погода, - закричал кошевой, - молодецкая погода, потешная погода! А ты, старый хрен, тянешь бабскую песню; накликаешь беду на свою голову, что ли? Ну-те, хлопцы, хором, да повеселее! - и работать лучше с песнями. - Гребцы переглянулись, прилегли на весла и запели в такт:
С понизовья ветер веет,
Повевает;
Ветер лодочки лелеет
И качает.
Гей, хлопцы, живо, живо!
В Сечи водка, в Сечи пиво…
Будем отдыхать,
Будем отдыхать.
Дружно в весла! Чайкой чайку
Обгоняйте!
Про Подкову, Наливайку
Запевайте.
Гей, хлопцы, пойте песни,
Словно птицы в поднебесье
Вольные поют,
Вольные поют!
Казалось, лодки пошли на веслах еще быстрее; они будто понимали песню, неслись, как птицы, смело прядали по волнам. А ветер все крепчал; сильнее и сильнее колыхались волны, крупнее и крупнее накатывались валы, сшибали, разбивались друг о друга, обдавая мореходцев брызгами и пеною. Черное море, всегда готовое пошуметь, разыгралось не на шутку. Оно кипело, стонало, клокотало; над водою поднялся туман от мелких брызг; на небе не было ни облачка, солнце шло по небу, странное, зловещее, без лучей, будто красный шар. Казачью флотилию разметало в разные стороны; чайки потеряли друг друга из виду.
На атаманской чайке гребцы выбились из сил, положили весла; ее качало, бросало по волнам, как мячик; старшины и казаки собрались вокруг кошевого.
- Чудная погода, кошевой батьку! - говорил один куренной. - Видимое наказание божее! Была бы туча, буря, гром, дождь, молния и прочее - оно бы ничего; а то дует, бог знает откуда и зачем?.. Видимое наказание!
- Не придумаю, чем прогневили бога, - отвечал кошевой, - в церковь мы ходили, посты держим, возвращаемся с лыцарского подвига: много истребили бусурманских голов, чтоб христианам было жить на свете шире. Крым долго нас не забудет!
- Так; а зачем же он дует так страшно, и чего ему хочется?
- Я знаю, чего ему хочется, - перебил кормчий, - ему хочется грешной головы; пока не кинем в море эту голову, ветер не утихнет. Помню, давно, еще при Степане Батории, было на нас такое попущение; кинули в воду грешника - как сто баб прошептало: разом утихло!
- Что ж! Одному не штука умереть для славы и добра всему товариству, - закричали казаки, падая на колени, - слушай, кошевой батьку, нашу исповедь; чьи грехи больше, того и кидай в море.
- Погодите, - сказал войсковой писарь Алексей-попович, - завяжите мне, братцы, глаза черною китайкою, привесьте к шее камень и бросайте в море. Я грешник: пусть я один погибну за все славное казацкое воинство.
- Как? - заговорили кошевой и казаки. - Ты святое письмо читаешь, народ научаешь на добро; неужели ты грешнее нас?
- Я лучше себя знаю, братцы-товарищи; тяжки мои грехи: я ушел из дому, как вор, не простился с отцовскою могилою, бросил беспомощную старуху матушку… Слышите? Это не ветер воет: это она плачет о недостойном сыне!.. Не море клокочет - гремят ее проклятия на мою грешную голову. Не буря подымает тяжелые волны - это вздохи матери колеблют море!.. И мало ли еще грехов на мне! Берите, братцы, камень и бросайте меня с ним.
Алексей-попович надел белую рубаху, стал на колени и, раскрыв церковную книгу, начал молиться. А между тем ветер стал утихать. Казаки переглянулись и закричали: "Читай Алексей! Читай! Твои молитвы спасают нас". Скоро ветер совершенно стих; заходящее солнце светло и радостно глянуло па море; волны улеглись; чайки, как птицы, слетелись со всех сторон по сигналу к лодке кошевого и на ночь пристали отдохнуть к небольшому островку недалеко от лимана. Сосчитали лодки, людей - и, к изумлению всех, не было никакой потери. Тогда с криками радости подняли казаки на руках Алексея, называя его спасителем, а после ужина, за чаркою водки, тут же сложили про пего песню, которая и до сих пор живет в устах украинских кобзарей и бандуристов:
На Чорному морi, на бiлому камнi,
Ясненький сокiл жалiбно квилить, проквиляє, и проч.
Эта дума даже напечатана между украинскими народными песнями, изданными в 1834 году Михаилом Максимовичем.
Я вам переведу ее, если хотите.
"На Черном море, на белом камне, ясный сокол жалобно стонет. Смутен сокол пристально смотрит на Черное море. Не добро починается на море. На небе звезды потускнели, полмесяца затянуло тучами, а низовый ветер бурно шумит; а на море поднимаются супротивные волны, разбивают суда казачьи на три части.
Одну часть понесли волны в Агарскую землю, другую пожрало дунайское устье. А третья где? - тонет в Черном море.
При третьей части был и Грицко Зборовский, атаман запорожский, он по судну ходит и говорит: "Кто-то меж нами, паны, великий грешник; недаром злая погода так нас гонит, налегает на нас. Исповедуйтесь, паны, милосердному богу. Черному морю да мне, вашему кошевому, и бросайтесь в море, не губите казацкого войска".
Казаки это слышали, но все молчали; никто за собою не знал греха.
Тогда отозвался войсковой писарь, реестровый казак Алексей-попович пирятинский. "Хорошо вы, братцы, сделаете, когда возьмете меня, завяжете глаза, прицепите к шее камень и бросите в море; пусть я один погибну, а казацкого войска не допущу до беды".
Услыша это, казаки сказали Алексею: "Ты святое письмо в руки берешь, читаешь, нас на добрые дела наставляешь; как же ты имеешь более грехов?"
"Хоть я и читаю святое писание, и вас наставляю, а сам нехорошо делаю. Когда я из Пирятина выезжал, не прощался с отцом и матерью, гневался на старшего брата, добрых людей лишил хлеба-соли, детей и старых вдов толкал стременами в груди; гуляя по улицам, проезжал мимо божией церкви, не снимал шапки, не крестился - за это и гибну теперь! Не волна встает по морю, это родительская молитва карает… Если б меня не утопила буря и молитва сохранила, умел бы я уважать отца и матушку, старшего брата почитал бы как отца. а сестру как матушку".
Начал Алексей-попович исповедывать свои грехи, начала утихать буря; волны, словно руками, потихоньку подымали казацкие суда и приносили к Тентереву острову.
Тогда начали казаки удивляться, что в Черном море под бурею совсем потопали, а ни одного человека не потеряли.
Тогда Алексей-попович вышел из судна, взял в руки святое письмо и стал научать народ:
"Надобно, паны, людей уважать, почитать отца и матушку: кто это делает, тот всегда счастлив, смертельный меч того обминает, родительская молитва вынимает человека из дна морского, от грехов душу искупляет и помогает на суше и на море…"
XI
На другой день, к вечеру, вся Сечь встречает кошевого и казачью флотилию; при радостных криках разделили награбленное серебро и золото; быстро ходили по рукам михайлики за здоровье кошевого и войскового писаря; по всем куреням слышна была новая песня:
На Чорному морi, на бiлому камнi,
Ясненький сокiл жалiбно квилить, прокпиляє.
И где ни проходил Алексей, летели кверху шапки и раздавались радостные крики. К ужину позвал Алексея кошевой.
- На ловца и зверь бежит, - сказал он входившему Алексею, - про волка помолвка, а он и тут! Вот лубенский полковник Иван просит нашей помощи. Крымцы узнали, что половина его полка ушла по гетманскому приказу к ляховой границе, и хотят напасть на Лубны. Теперь полковник и просит нас, как добрых соседей, помочь ему, коли что случится нехорошее. Так напиши ему, что я рад с товариством помогать ему, нашему собрату, единоверцу, как бог повелел, - только коли он отдаст свою дочь за войскового писаря войска Запорожского, Алексея-поповича. Напиши так поскорее; я подпишу, и отдай этому посланцу - надобно торопиться.
Теперь только взглянул пристально Алексей на полковничьего гонца и радостно закричал:
- Ты ли, Герцик?
- Я, пане войсковой писарь, - отвечал гонец, низко кланяясь.
- А ты его знаешь, Алексею? - спросил кошевой.
- Знаю, батьку; это искусный человек. Здоров ли полковник?
- Здоров, и полковник здоров, и его дочка Марина, и все здоровы..
- Думал ли ты меня здесь увидеть?
- Никак не думал; все думали, что вы утонули, ловя рыбу, и плакали по вас, а вы здесь… великим паном. Силен господь в Сионе!..
Ужинали у кошевого очень весело Каждый на это имел свои причины. После ужина кошевой отдал письмо полковничьему гонцу, приказав ему торопиться. Алексей зазвал Герцика на минуту в свою палатку. На дороге их встретил Никита Прихвостень, он был навеселе и уже щелкал себя по носу, приговаривая: "Да убирайся, проклятая гадина, с доброго носа! Вот наказание божее!.. Да тут и сидеть неспокойно. Казацкий нос - вольный нос; лети себе лучше вот к тому пану, старому шляхтичу, забыл его прозвище… досадно, забыл! Да тебя не учить стать, злая личина, и сам знаешь… Вот у него нос уже оседланный золотым седлом со стеклышками; сидеть будет хорошо, покойно! Ступай же… А! И наш войсковой писарь!.. Говорил вражьим детям, что будет толк из Алексея-поповича, будет - и вышел… И бьет ворога, как мух, и на гуслях играет, и богу молится за наше товариство!.. И песня есть, ей-богу, есть… Вот она, песня:
На бiлому морю, на соколиному морю,
Чорний камень квилить, проквиляє.
Тут что-то не так, одно слово не так поставлено, а завтра выучу, и будет хорошо: сегодня некогда!.. Куда ж ты идешь, пане писарь?
- Спать пора, брат Никита, и ты ложись спать.
- Куда тебе спать, тут такая комедия! Послушай. Прихожу в курень и сел ужинать; подле меня новичок, просто дрянь, ребенок, сидит и ничего не ест, я ему михайлика - не пьет, говорит: "Нездоровится, дядюшка".
- Какой я тебе дьявола дядюшка? Зови меня брат Никита. А тебя как звать?
- Я, говорит, Алексей-попович.
- А может, еще и пирятинский? - говорю я.
- Именно пирятинский!
- Вот тут я и покатился от смеху. Какой ты, говорю, Алексей пирятинский… Бог с тобой, уморил меня смехом! Есть у нас Алексей-попович пирятинский, не тебе чета, хоть и молод, да дебелая душа, и от михайлика не отказывается, и прочее… А ты что за казак! Молодо, зелено, еще не сложился; хоть и порядочного роста, да прям и тонок, словно тростинка…
- Я вот с неделю живу в курене, - сказал он, - от всех слышу, что есть другой Алексей-попович пирятинский и хотел бы посмотреть на него.
- Увидишь, - сказал я, - он теперь приехал вместе со мною. Я бы тебе сейчас показал, да он у кошевого.
- Покажи мне, когда выйдет.
- Ладно, - сказал я, - я вот тут уже давно брожу да напеваю новую песню.
- Странно, если это тебе не снилось, - отвечал войсковой писарь, - в Пирятине, сколько помню, не было другого Алексея.
- А явился, ей-богу, явился! Вот я тебе его покажу.
- Пускай завтра.
- Нет, не завтра, сегодня покажу. Никита Прихвостень справедливый казак, не станет снов рассказывать; выпить - выпьет при случае, а лгать не станет. Приведу, сейчас приведу пирятинца, докажу правду.
Ох! По соколиному камню, чорному камню,
Бiлое море квилить, проквиляє.
И Никита ушел к Поповичевскому куреню, напевая новую песню. А Алексей-попович вошел в свою войсковую палатку, расспросил Герцика, надавал ему пропасть поручений и в Лубны и в Пирятин, снабдил на дорогу несколькими дукатами и подарил дорогой турецкий кинжал, осыпанный алмазами, говоря: "Я сам своеручно убил пашу и снял с него этот кинжал; пусть он будет залогом нашей дружбы".
Герцик со слезами обнял Алексея, обещал выполнить все поручения, тотчас дать знать обо всем в Сечь и вышел.
Еще тихо колебалась, еще не успела успокоиться опущенная пола войлочной палатки войскового писаря, как опять поднялась - и робко вошел молодой, стройный казак; из-за него выглядывала голова Никиты.
- Вот тебе земляк! - говорил Никита. - Толкуйте с ним про Пирятин, а мне некогда, меня зовут! Прощайте! Никита врет, Никите снится! Никита так себе; дурень Никита! А Никита все свое… - Последние слова едва слышно уже отдавались за палаткой.
XII
Попiд гаєм, мов ласочка,
Крадеться Оксана.
Забув, побiг, обнялися.
"Серце!" - та й зомлiли.
Т. Шевченко
Скромно стоял у дверей молодой казак, опустив глаза, судорожно поворачивая в руках красивую кабардинскую шапочку. Алексей взглянул на него, протер глаза и почти шепотом сказал:
- Боже мой! Или я рехнулся, или это Марина!.. Две крупные слезы покатились по щекам молодого казака, он быстро поднял ресницы, выпустил из рук шапочку и уже лежал на груди Алексея, тихо повторяя:
- Я, мой милый! Я, мой ненаглядный Алексей! И долго они ничего це говорили, глядели друг на друга, смеялись, плакали и, сливаясь горячими устами в один бесконечный поцелуй, уносились далеко от земли.
За все печали, заботы и страдания, за всю тяжесть нашей земной жизни великий творец щедро наградил человека, дав ему молодость и любовь…
- Как же ты попала сюда, моя горлица? - спрашивал Алексей. - Как ты оставила отца и прошла пустые вольные степи?
- Помнишь ты страшный вечер, когда отец подстерег нас на острове?.. Я сказала тебе: беги скорее, беги в Сечь, я тебе приказываю! И ты убежал, поцеловав меня; а из-за дерева вышел отец, грозно посмотрел на меня, поднял надо мною сжатую руку - и остановился, будто неживой; после ударил себя кулаком по лбу и тихо, грустно сказал: "Не гляди на меня так страшно! Ты похожа на мою покойницу.. поедем домой!" Отвернулся и пошел; я за ним иду и ног не слышу. Пришли к берегу, там стоит лодка, на лодке Гадюка и Герцик. Батюшка сказали им весело: "Я пошел гулять по острову и дочь нашел; она тут же гуляла". Мы сели и приехали домой.
- А ты не видала здесь Герцика? - спросил Алексей.
- Как же! Он с нами повстречался у самой твоей палатки, да не узнал меня, только сказал Никите: "Проведи меня, добрый человек, к Полтавскому куреню. "
- А ты его сразу узнала?
- Еще бы! Ночь лунная, как день… О чем ты загрустил?..
- Ничего. Тебе надобно бежать скорее из Сечи. Если узнают, что ты здесь, будет худо, мы можем поплатиться жизнию.
- Лишь бы вместе, я согласна умереть.
- К чему умирать, когда мы будем жить вместе счастливо, спокойно? Наш кошевой писал сегодня к твоему отцу: он для меня тебя сватал, а кошевой нужен отцу твоему. Как ты думаешь: благословит нас отец?
- Бог его знает, его не разгадаешь! Раз он пришел ко мне утром, а я плакала. "Знаю, - сказал он, - о чем ты, дура, плачешь. Если б мне поймать этого Алексея…" - "Так что бы?" - спросила я. - "Чему обрадовалась? Тебе на что? Уж я знал бы, что с ним сделать!" - Я пуще заплакала и пошла в сад; смотрю - солнце так светит тепло, а мои цветы цветут и наклоняются друг к дружке; на них ползают, вокруг летают мушки, жучки, пчелы, все вместе, все роем, а я одна на свете, подумала я, как тот подсолнечник, что стоит одиноко над дорожкою, но и ему есть дело, есть радость: он любит солнце, и куда пойдет оно, светлое, подсолнечник поворачивает за ним свою лучистую цветную головку. И стало мне совестно… Бездушный цветок поворачивается к солнцу: будь у него сила, он оторвался бы от корня и полетел бы к нему - а я? Мое солнце, моя радость далеко; знаю, где он, и сижу, будто связанная!.. Досижусь, что просватают меня за нелюба… страшно!.. К вечеру моя цыганочка продала все мои дорогие серьги и дукатовые ожерелья, и в ту же ночь я убежала из отцовского дома, пристала дорогою к запорожцу Касьяну, отдохнула у него день на зимовке, а после он, спасибо, провел меня до самой Сечи… Ну полно, полно, перестань, ты меня зацелуешь!..
- Ах ты, моя ненаглядная Марина! И для меня ты бросила дом, отца, родину? Для меня решилась ехать верхом, по дикой стороне, надела казацкое платье, обрезала свои длинные, темные косы? [8]
- На что они были мне?… Разве удавиться было ими?.. Я с радостью взяла ножницы и обрезала их. Но когда они упали передо мною на стол, темные, длинные, волнистые - словно что оторвалось от моего сердца; не стану скрывать, я заплакала. "Косы, мои косы! - подумала я. - Сколько лет я свивала и развивала вас, сколько лет я гордилась вами перед подругами, когда вы, как черные змеи, красиво обвивались, переплетались вокруг головы моей и красный мак порою горел над вами, словно пламя! Сколько раз вы жарко разметывались по изголовью моей девичьей постели, когда чудный сон о нем волновал мою кровь, и сколько раз черною тучею закрывали мое лицо от светлого утра, от божьего солнца, когда я, пробудясь, краснела, вспоминая сон свой!.. Думала я в гроб лечь с вами, темные мои косы, с вами, подруги моей одинокой радости и печали… И вот я подняла на вас руку, подняла руку на самое себя!.. Падайте, слезы, крупным дождем на мои косы; не приростут они, не пристанет скошенная трава к своему корню, не цвести сорванному цветку…" Так я думала - не сердись, мой милый… но это было недолго: я вспомнила, для кого лишилась своей красы - и перестала плакать, даже сама сплела обрезанные косы, спрятала на груди своей и принесла тебе в подарок. На, возьми их, они твои!..
Алексей прижал их к сердцу, обнял и расцеловал Марину. Алексей и Марина плакали.
- Скажи мне, - спросил Алексей после долгого молчания, - зачем ты назвалась Алексеем?
- Оттого, что мне нравится это имя… Ох вы, казаки, казаки! Думаете, что у баб и ума нет; а пойдет на хитрости - пятнадцатилетняя девчонка проведет старика. Видишь, я назвалась Алексеем, пирятинским поповичем, нарочно, чтоб сыскать тебя скорее. Я знала, что ты должен быть на Сечи; я и не знала даже верно этого, но мое сердце вещевало, что ты здесь. А как сыскать тебя? Стану расспрашивать - может, догадаются, да и спрашивать как? А может, ты еще и не в Сечи?.. Я и подумала: назовусь сама Алексеем; коли кто тебя не знает, тот ничего не скажет, а другой, может, скажет: знаю и я одного Алексея-поповича пирятинского, видел его вот там и там, или что подобное. Это мне и на руку…
- Вишь, какая хитрая!
- Придется хитрить, когда силы нет. Чуть я сказала в курене свое имя, так все и закричали: "Вот штука! Есть у нас уже один Алексей-попович да еще и пирятинский; вот комедия! Да его теперь нет, поехал на крымцев; да что за молодец! Да он войсковым писарем!" И я все узнала, не спрашивая о тебе, мой сокол. Не грусти же так! Или ты разлюбил меня?..
- Меня бог покарает, коли разлюблю тебя! Оттого я и задумался, что люблю тебя, что мне жалко тебя. Мои товарищи не злы, но суровы и неумолимы, когда кто нарушает их закон. Беда, если тебя узнают! У меня сердце замирает, как подумаю… Я боюсь, что этот Герцик…
- Что за нужда Герцику мешаться в ваши войсковые дела? Ведь он не запорожец, а твой приятель; да он и не узнал меня!..
- Последнему-то я не верю: у него глаза, как у кошки; скажи разве, что ему гораздо выгоднее не изменять нам…
- Разумеется!.. Оставь свои черные думы, посмотри на меня веселее, поцелуй меня!..
- Рад бы оставить, сами лезут в голову. Опять думаю: ведь Герцик знал, что ты убежала?
- Он остался в Лубнах, в нашем доме, так, верно, знал.
- Отчего же он мне не сказал? Как подумаю, тут есть недоброе…
- Ничего!.. Вот ты мне дай доброго коня, я поеду прямо на зимовник Касьяна и там подожду тебя; батюшка, верно, согласится на нашу свадьбу; не согласится - бог с ним, займем кусок степи, сделаем землянку, и заживем.
Тут пошли толки, планы о будущем, уверения в любви, клятвы - словом, пошли речи длинные, длинные и очень бестолковые для всякого третьего в мире, исключая самых двух любящихся. Наконец, Алексей вдруг будто вздрогнул и торопливо сказал:
- Пора нам ехать; ночь коротка; чуешь, как стало свежо в палатке, скоро станет рассветать. Мне нельзя отлучиться, я тебе дам в проводники Никиту: он человек добрый, любит меня и мне не изменит; боюсь только, что он пьян… Ну, пойдем! Боже мой! Слышишь, кто-то разговаривает за палаткой?..
Марина молча кивнула головою.
- Да, разговаривают; не бойся, это запоздалые гуляки, я сейчас прогоню их…
Алексей быстро распахнул полы палатки и остановился: на дворе уж совсем рассвело; перед палаткой стоит толпа казаков.
- Что вам надобно? - спросил Алексей.
- Власть твоя, пан писарь, - отвечали казаки, - а так делать не годится. Недолго простоит наша Сечь, когда начальство само станет ругаться нашими законами, когда…
- Убирайтесь, братцы, спать!.. Вы со вчерашнего похмелья…
- Дай господи, чтоб это было с похмелья! Вот я сорок лет живу на Сечи, а никогда с похмелья не грезилось такое, как наяву совершается, - говорил седой казак,- как можно прятать в Сечи женщину? От женщины и в раю человеку житья не было; а пусти ее в Сечь…
- Жаль, что из моего куреня вышел такой грешник! - сказал куренной атаман. - Испокон веку не было на Поповнческом курене такого пятна.
- Вишь, какое беззаконие! - говорили многие голоса громче и громче. - Вот оно, нечистое искушение! Вот сидит она. Возьмем ее, хлопцы, да прямо к кошевому
- Вы врете! - сказал Алексей. - Ступайте по куреням, а то вам худо будет.
- Нет, нет! - кричали казаки - Лыцари не врут; может, врут письменные, в школе выучились; еще до рассвета нам сказали, что у писаря в палатке женщина, мы и собрались сюда и слышали ваши речи, и ваши поцелуи - все слышали, и попа призвали…
- Так есть же, коли так, у меня в палатке женщина: она моя невеста. Не хотел я оскорблять товариства и нарушать Сечи; через час ее уже здесь бы не было, а теперь ваша рука не коснется ее чистой, непорочной; разве труп ее и мой вместе вы получите…
Алексей обнажил саблю.
- Стой, сын мой! - закричал голос священника, выходившего из толпы. - В беззакониях зачат еси и во греха рожден ты, яко человек; не прибавляй новой тяжести на совесть. Прочь оружие! Смирись, грешник, перед крестом и распятым на нем.
Священник поднял крест; казаки сняли шапки, Алексей бросил саблю и стал на колени.
- Так, сын мой, покорись богу и законам; бери свою невесту и пойдем на суд кошевого и всего товариства. Не троньте его, братья, он сам пойдет.
- Пойдем, - твердо сказала Марина, выходя из палатки, - пойдем, мой милый; наша любовь чиста, бог видит ее и спасет нас.
И, окруженные казаками, Алексей и Марина пошли за священником к ставке кошевого.
Строго принял кошевой весть о преступлении войскового писаря, сейчас же собрал раду (совет), и, несколько часов спустя, Алексей и Марина были осуждены на смертную казнь. Из уважения к заслугам писаря сделали ему снисхождение: позволили умереть вместе с Мариною. В Сечи не нашлось казака, который бы решился казнить женщину.
- Нет ли где татарина? - спросил кошевой.
- Известно, мы не берем в плен этой сволочи, - отвечали ему, - а сотник Буланый, который теперь живет зимовником, весною поймал на охоте отсталого татарина й засадил его молоть в жерновах кукурузу (маис), так разве привести этого татарина, коли он не замололся уже до смерти.
Послали за татарином, казнь отсрочили до завтра, а преступников посадили под караул в рубленую избу с железными решетками на окнах.
XIII
Отакий то Перебендя
Старий та химерний!
Заспiває весiльної,
А на журбу зверне.
Т. Шевченко
У запорожцев был обычай доставлять преступникам перед казиию всевозможные удовольствия. Вкусные кушанья и дорогие напитки были принесены к обеду Алексею и Марине; но они не тронули их и грустно сидели, по временам взглядывали друг на друга и, с какою-то бешеною радостью улыбаясь, сжимали друг друга в объятиях. Но вот уже солнце клонится к западу; в воздухе стало прохладнее; толпы казаков, шумно разговаривая, бродили между куренями; вдалеке наигрывала бандура плясовую песню, слышался топот разгульного трепака, неслись неясные слова песни:
От Полтавы до Прилуки
Заломала закаблуки!
Ой лихо! Закаблуки!
Дам лиха закаблукам!
- и усиленный трепак заглушал окончательные слова. С другой стороны слышались торжественные, протяжные аккорды, и чистый мужественный голос пел:
На Чорному морi, на бiлому камні,
Ясненький сокiл жалiбно квилить, проквиляє.
Народ кругом слушал песню о храбром войсковом писаре, - а сам писарь, приговоренный к смерти, задумчиво стоял у решетки и, слушая хвалебную песню, грустно глядел на солнце, идущее к западу. Резвая ласточка высоко реяла в воздухе, весело щебетала и, спускаясь к земле, вилась около тюрьмы; недалеко перед окном на старой крыше вытягивался одинокий тощий стебель какой-то травки; он сквозился, блестел от косвенных лучей солнца и, колеблемый вечерним ветерком, тихо наклонялся к тюрьме, будто прощаясь с заключенными. На глазах Алексея показались слезы.
- О, не гляди так грустно, мой милый! - говорила Марина, ломая свои белые руки. - Твоя тоска разрывает мое сердце! Я, неразумная, довела тебя до смерти… знаю, что ты думаешь.
- Полно, Марина! Перестань кручиниться; не знаешь ты моих тяжких дум.
- Знаю, знаю! Прощай, ты думаешь, ясное солнце, завтра не я уже стану глядеть на тебя! Завтра в это время веселая ласточка станет петь и летать, как и сегодня, и спокойно уснет вечером в своем гнездышке, да и эта хилая травка завтра будет еще колебаться на божьем свете, и какой-нибудь залетный жучок посетит ее, одинокую, а меня уже не будет! Не станет молодого удальца; будет меньше на свете одним добрым казаком, и напрасно вороной конь станет ждать к себе хозяина - не придет больше хозяин! Другой господин сядет на коня! Закроются, ты думаешь, мои светлые очи! Сорвет хищный ворон чуб с моей буйной головы и совьет из него гнездо для своих детей!.. - Рыдания прервали слова Марины.
- Бог с тобой, моя ласточка! Что за черные мысли пришли к тебе? Видит бог, я не думал этого.
- Знаю, ты думал, к чему довела любовь наша? Что из нее вышло, кроме печали и несчастья?.. Алексей, мой ненаглядный сокол! Разве я хотела этого? Я несла к тебе мою чистую любовь, мое непорочное сердце, а принесла - смерть!.. Завтра мы умрем, гак возьми сегодня мою чистую любовь… Послушай, - шепотом продолжала Марина, робко озираясь, - скоро будет ночь; проживем ее как никогда не жили, а завтра посмеемся над людьми; они хотят казнить любовников, им завидна чистая любовь наша - пускай казнят супругов… Будем знать, за что умрем!
И Марина спрятала пылающее лицо свое на груди Алексея.
- Ну, о чем же ты еще грустишь, мой милый? - сказала Марина, с тихим упреком глядя в очи Алексею.
- Не о себе грущу я: я вспомнил Пирятин, мою старуху матушку; может быть, в это самое время она узнала от Герцика о моем почете, помолодела, думая скоро увидеть меня… И, может быть, она глядит там далеко, в Пирятине, на это самое солнце и просит бога, чтоб спряталось оно скорее за гору, выводило скорее другой день, и чтоб и тот проходил скорее и пришло радостное время нашего свидания. И теперь, когда я, глядя на солнце, прощаюсь с ним, может быть, она в замковской церкви, перед образом богоматери, стоит на коленях, радостно плачет и благодарит ее… Чует ли твое сердце, добрая матушка, что ты не увидишь более сына, что он, убегая, как вор, из Пирятина, не простясь с тобою, навеки покинул тебя, оставил беспомощную на старости и завтра умрет позорно? Вот что думал я, моя милая. А смерти я не боюсь, за гробом жизнь вечная! Там не плачут, не вздыхают.
- Там мы не разлучимся с тобою! - весело сказала Марина - Мы станем жить вместе вечно, вечно! Не правда ли? Наши души будут летать на светлом облачке, сядут на море и поплывут с волны на волну далеко-далеко, и никто им не скажет: куда вы? Зачем вы? Мы будем вольнее птиц небесных, весело слетим на могилу, где будут покоиться наши кости; я разрастусь над твоею могилою кустом калины, пущу корни глубоко и обовью ими тебя, словно руками, раскину ветви широко, чтоб твой прах не топтали люди, не пекло солнце; темною ночью вспомню нашу здешнюю жизнь, наше горе - и тихо заплачу; но чуть взойдет солнце, отру слезы, пусть никто не видит их, весело зашевелю, засмеюсь дробными листочками и душистыми цветочками; молодой казак сорвет ветку моих цветов, подарит их своей коханке, коханка внлетет мой цветок себе между косы - и пуще полюбит казака; я сумею навеять, нашептать ей чары любви - я любила на свете… любила тебя, мой черно бровый казак, тебя, моя радость.
- Ого! Какие веселенькие! - сказал, входя, Никита.
- А о чем же нам печалиться? - спросила Марина.
- Разве вас простили?
- Нет; а мы здесь вместе, и умрем вместе, и будем всегда вместе…
Никита покачал головой.
- Как нам не радоваться, брат Никита! - сказал Алексей. - Попали в беду, а тут как все нас любят, все навещают, приходят утешать…
- Гм! Вот оно что! Хитро сказано! Чистый московский обиняк. На что людям мешать? Вам, я думаю, веселее без третьего… А то досадно, что Алексей дурно думает о Никите, а Никита вот и теперь пообещал караульным сорок михайликов вина да меду сколько в горло влезет, чтоб пустили увидеть вас, пару глупых Алексеев… Господи, прости, что бабу нарекаю мужским именем!.. На Никиту сердятся, а Никита целый день поил стариков, говорил с попом да с письменными людьми, каким бы побытом и средствием спасти пана писаря. Бог вам судья, братику!
- Ну, что ж они говорили? - спросила Марина.
- У! Быстра! Цикава! Довела до беды доброго казака да и не кается! Что говорили? Ничего не говорили. Вот уже и плакать собирается!
- Оставь ее, Никита; грех обижать женщину. Что? Видно, нет надежды?
- Да я только так, я знаю их натуру; с тобою другая речь пойдет Говорить-то они говорили много, а толку мало; все равно, что кашу варить из топора: хоть полдня кипит, и шумит, и пенится; сними с огня котелок, хлебни ложкою - чистая вода, а топор сам по себе остался… Поил я до обеда стариков-характерников; нечего сказать, старосветские люди, стародавние головы, дебелые души, а к обеду сдались - лоском легли; я тогда за советом к одному, к другому: молчат, хоть бы тебе слово, ни пару из уст, лежат, как осетры! Сам виноват, подумал я, передал материалу. После обеда собрал с десяток письменных душ, поставил перед ними целое ведро горелки и говорю, вы, братцы, народ разумный, не чета нам, дуракам, вы часто в письмо глядите и знаете, что там до чего поставлено и что за чем руку тянет, дайте совет и помощь в таком деле, как оно будет?..
- А будет так, как бог даст, - отвечали они.
- Разумно сказано! Сейчас видно птицу по полету, - прибавил я.
- О! Мы, браге, живем на этом; от нас все узнаешь, вот только хватим но михайлику.
Выпили по два, по три михайлика, а все молчат: гляжу- пьют уже по десятому, я вспомнил сердечных характерников, что до сих пор храпят под валом, и сказал:
- Что ж, панове, как ваша будет рада (совет)?
- Вот что я тебе скажу, Никита, - начал один, - а что я скажу, тому так и быть; вся Сечь знает, что я самый разумный человек.
- Не знаю, братику, где он такого разума набрался. Разве в шинке у Варки, - перебил другой, - я не скажу о себе, а Болиголова его за пояс заткнет.
- Убирайся ты с своею Болиголовою подальше, куда и куриный голос не заходит; вот я расскажу…- сказал третий.
- А чтоб ты кашлял черепками, стеклом да панскими будинками! [9] - закричал другой. - Да как подняли меж собою письменные души спор, крики, брань, что твои торговки на базаре в гетманщине, только и слышно: Я! Я! Я! Я! Не успел оглядеться да расслушаться, а они уже друг друга за чубы; перессорились, передрались, словно петухи весною, и пошли до куреня позываться; [10] пропала только моя горелка! А вот уже вечереет, я и пошел до панотца. [11]Панотец меня выслушал и говорит:
- Дело, браге, важное, не выскочить Алексею от смерти.
- Будто, батьку, никак не можно спасти? - спросил я.
- Нельзя, - сказал панотец, - таков закон на Сечи. Правда, коли найдется женщина, которая захотела бы из-под топора или петли прямо вести преступника в церковь и перевенчаться с ним, то его простят; да кто захочет опозорить себя? Да и где возьмется на Сечи женщина? Люди в старину нарочно сделали такой закон: знали, что женщине неоткуда взяться.
- Вот и все тут, брате Алексею! Плохо!
- Плохо, Никита! Видно, на то воля божия! А все-таки тебе спасибо, бог тебе заплатит за твое старание.
- Да я выйду за Алексея, - почти закричала Марина, - я скажу перед народом, что…
- Ов-ва! Опять свое. Что ты скажешь? Ну что? Сама заварила кашу да хочешь и расхлебать.. Не до поросят свинье, когда ее смалят (палят)... Молчала б лучше, да богу молилась… Прощай, Алексей!
- Куда ты?
- Так, скучно, брате, хоть в воду броситься, скучно! Целый день поил дураков, а сам ни капли в рот не брал; кутну с досады…
- Не ходи, Никита, потолкуй с нами.
- С вами теперь толковать, что воду толочь - только устанешь; и вам веселее вдвоем, наговоритесь, пока есть время.
- Куда же ты?
- Поеду с горя к Варке в шинок!..
- Что ж-тебе за горе?
- Грех спрашивать, брате Алексею! Разве мне не жалко тебя? Черт вас знает, за что я полюбил вас, сам не доберу толку! Еще тебя куда ни шло, ты человек с характером, а то и ее полюбил… кто-нибудь подслушает, смеяться станет, а ей-богу, полюбил! Будь она казак, я плюнул бы на нее, она дрянь-казак, неженка, а для бабы - молодец баба, характерная баба! Вот что!.. Как вспомню про вас про обоих, тошно станет, словно не ел трое суток… Прощайте! Тяжело на душе; разве успокоюсь, как… как похороню вас.. - Никита махнул рукой и вышел.
XIV
Тiлько бог святий знає,
Що Хмельницький думає, гадає
Малороссийская народная дума
Встало утро, тихое, светлое, радостное, на востоке показалось солнце, и навстречу ему поднялись жаворонки с широкой степи, взвились высоко под чистое небо, запели звонкую приветственную песню; в садах отозвалась кукушка, засвистела иволга; белый аист, дремавший над гнездом на кровле хаты, закинул за спину голову и, громко щелкая носом, медленно приподнял ее и опустил до самого гнезда, будто приветствуя этим наступающий день, потом распустил свои широкие белые крылья, приподнял их кверху, словно руки, и плавно отделился от крыши вольными кругами, подымаясь все выше и выше, с любовью посматривая на землю, на детей своих, протянувших к нему из гнезда шеи. Был весел божий мир, а в Сечи нерадостно встречали светлое утро, смутно, угрюмо сходился народ на площадь; на площади прохаживался рябой узкоглазый татарин, в красной рубахе с короткими рукавами, в красной шапке; лицо татарина было бледно, измучено, но жилистые руки легко поворачивали, играли топором. По временам татарин дышал на светлое, острое его лезвие и внимательно смотрел, как сбегало с него легкое облачко, навеянное дыханием, или осторожно трогал пальцем острие, причем злая, мгновенная, неуловимая улыбка быстро мелькала на узких, плотно сжатых губах мусульманина. Казаки с презрением отворачивались от татарина, даже скидывали и бросали на землю жупаны, до которых он случайно дотрагивался.
Перед тюрьмою вилась и щебетала вчерашняя ласточка; как и вчера, тихо колебалась на крыше одинокая травка, в тюрьме Алексей и Марина стояли на коленях перед иконою и молча слушали наставления священника. Но вот послышался на площади глухой гром литавр.
- Пора, дети! - кротко сказал священник. - Готовы ли вы?
Заключенные взглянули друг на друга, потом на образ, перекрестились, крепко обнялись и тихо вышли из тюрьмы за священником, четыре вооруженные казака шли за ними. Кругом бесчувственно глядели суровые лица запорожцев, порою с сожалением кивал в толпе черный чуб, порою скатывалась по седым усам старика блестящая слеза, но старик сейчас же спешил сказать "Экие овода! Хватил за ухо, словно собака, даже слезы покатились".
Перед церьковью Покрова Алексей и Марина упали ниц, молясь со слезами, потом встали, отерли слезы и бодро, смело подошли к подмосткам, на которых стоял страшный татарин, с топором в руках, в красной рубахе.
- Христианские души! - замечали в толпе.
- Характерные души! - говорили другие. Площадь была битком набита народом; некуда было яблоку упасть, как говорил Никита. Против подмосток, где был палач-татарин, стоял на возвышении кошевой, окруженный старшими; в толпе народа, у самых подмосток, был Никита Глядя на Никиту, можно было подумать, что он для бодрости в таком печальном случае спозаранку был пьян. Он стоял как-то странно, переминаясь с ноги на ногу, точно школьник, поставленный человеколюбивым педагогом на горох на колени; его глаза страшно сверкали и хлопали, он по временам, наклоняясь к своему товарищу, закутанному в кобеняк, [12] таинственно шептался, громко кашлял и самодовольно опускал руки в бесконечные карманы своих широких шаровар.
Осужденные, подошед к подмосткам, низко поклонились кошевому и всему народу. Перед ними была маленькая площадка. В это время Никита значительно посмотрел на своего товарища, закутанного в кобеняк, мигнул ему усом и наконец толкнул локтем под бок; товарищ стоял, как статуя.
- Вот, братцы… - начал было Никита, но вдруг замолк: его молчаливый товарищ ровным шагом выступил на площадку, поклонился народу, снял шапку и спустил с плеч кобеняк. Народ с ужасом подался в стороны: на площадке стояла женщина.
- Урожай на баб в это лето! - заметил кто-то в толпе.
Бледная, дрожащая стояла эта женщина, распустив по плечам длинные каштановые косы, тихо повела глазами над площадью и остановилась на Алексее. Вмиг щеки ее вспыхнули, глаза заблистали, руки вытянулись, и твердым голосом сказала она "Волею или неволею я возьму у смерти Алексея-поповича; пускай на меня падут грехи его, я отвечу за них богу. Алексей! Обними меня, жену твою".
- Ай да Татьяна! - сказал в толпе молодой казак и все утихло.
В какой-то торжественной красоте стояла перед Алексеем Татьяна, сознав в душе всю цену своей заслуги перед любимым человеком, ее глаза блестели, щеки горели, полная, круглая грудь высоко подымалась.
Алексей молчал, толпа притаила дыхание.
- Хочешь ли ты, вместо плахи, обручиться со мною? - спросила Татьяна; но уже голос ее дрожал, прежняя бледность быстро сгоняла с лица румянец.
Алексей поглядел на Татьяну, подал Марине руку - и твердо взошел на подмостки. Никита плюнул и махнул обеими руками; Татьяна, шатаясь, упала на землю.
- Молодец! Отказался! - раздавалось в толпе. - Характерно, черт возьми! И поганая Татьяна хотела его взять мужем! Хотела извести добрую душу! Вон ее, скверную бабу! Гоните ее палками, коли не хочет прогуляться между небом и землею…
И с насмашками и толчками толпа передавала с рук на руки Татьяну. На площади поднялся шум и говор. Уж не видно стало Татьяны, а толпа все еще волновалась и только замолкла, когда кошевой взмахнул булавою.
- Тише! - раздалось в толпе. - Кошевой просит слова
- Войсковый писарь Алексей-попович нарушил законы нашего товариства, - сказал кошевой, - это ведомо?
- Ведомо,ведомо!
- Старшины войсковые и рада присудила его, Алексея, с его искусителем, Мариною, лишить живота, хоть Алексей и верно служил войску и ни в какие художества не мешался - да закон велит.
Народ молчал.
- Что же вы, паны товариство, согласны?
- Делать нечего, коли закон велит, - угрюмо отвечали казаки.
- Хорошо, хлопцы! Знаменитые лыцари вы есте! Закон прежде всего, а там уже прочее. Зачем же мы до сих пор беззаконно поступали с нашим войсковым писарем? Даже сам я, каюсь в грехе своем, и я поступил беззаконно.
- Не знаем, батьку.
- А я так знаю. Не следует ли всякому человеку нашего товариства давать благородное лыцарское прозвище?
- Следует, следует! Как же без этого?.
- Сами говорите; а какое достойное лыцарское прозвище дали вы своему собрату Алексею-поповичу?
- Какое?.. Какое?.. Известно какое - попович.
- Ведь с этим прозвищем приехал он из гетманщины; да это не прозвище: мало ли у нас есть поповичей, а все они титулуются по-лыцарски: вот перед нами Лапоть, вот Чубарый.
- Вот и я, Максим-попович из Чигирина, - отозвался один казак, - а зовут меня Недоедком, и за то спасибо.
- Тши!..
- Не шикайте, братцы! - продолжал кошевой. - Не перебивайте хорошей речи вольного казака; казак волен говорить толковые речи. Так вот вам и Недоедок, вот Брехун, вот Бродяга, а все они суть поповичи! И как дано им носить добрые имена, и, посмотрите, как весело глядит на них солнце, оттого что они законно живут на свете.
- Правда, правда.
- Сами знаете, братцы, что правда; вы народ разумный - а промахнулись, не дали имени храброму казаку; за то, может быть, бог карает его и нас вместе, отнимая у Сечи характерного человека.
- А может, и так?.. - сказал кто-то в толпе.
- Именно так, дело ясное! - почти вскрикнул Никита и за ним несколько голосов.
- За что ж мы обидели христианскую душу, - продолжал кошевой, - не дали запорожского имени лыцарю-товарищу? Без имени овца - баран, говорят мудрецы…
- Баран, батьку, баран!..
- Как же явится на тот свет добрый казак без законного прозвища? Грех нам всем, великий грех! Готовились к набегу на Крым и забыли закон исполнить.
- Виноваты, батьку! Что ж нам делать?
- Дадим ему хоть теперь доброе имя, снимем грех с души.
- Добре, батьку! Добре - дельно сказано! Какое же ему имя дать?
- Вот послушайте, братцы, моей рады (совета). Вам известно, что Алексей-попович сам хотел умереть за наше войско, просил, чтоб его бросили в море, лишь бы спасти наши чайки, а с чайками, известно, и наши головы - исповедовал перед богом, морем и нами, старшинами-товарищами, свои грехи, умилостивил бога своими молитвами и тем спас наши чайки. Многим из нас не стоять бы на площади, не думать бы о Сечи и о михайликах без заступлення Алексея.
- Повек не забудем этого! - громко закричали казаки.
- И хорошо делаете. Так не назвать ли Алексея-поповича, в память избавления чаек, Чайковским? Как вы думаете?
- Ты нам, батьку, голова, ты думаешь, и мы думаем быть ему Чайковским!
Громкое "ура!" отозвалось на площади; шапки полетели кверху…
- Итак, - продолжал кошевой, поднимая булаву, от чего народные крики утихли, - отныне впредь никто не смеет под смертною казнью иначе называть бывшего Алексея-поповича, как Алексеем Чайковским. Слышите, храбрые лыцари?
- Чуем, батьку! Никто не смеет!..
- Теперь на прощанье не спеть ли нам, братцы, Алексею Чайковскому песню про Алексея-поповича? Пускай человек в последний раз услышит наш казацкий, лыцарский напев про свои добрые дела для нашего воинства!
Хорошо, братцы?
- Добре, добре! - кричали казаки. - Начинай, Данило.
И Данило кобзарь чистым ровным тенором затянул:
На Чорному морi, на бiлому камнi,
Ясненький сокiл жалiбно квилить, проквиляє.
Мало-помалу окружающие принимали участие в песне, и под конец вся площадь слилась в один звучный, дикий, но стройный хор. Песня, видимо, разжалобила запорожцев…
- Жалко доброго казака! - сказал будто сам себе кошевой, когда казаки окончили песню и стояли в каком-то раздумье.
- Жалко, жалко! - Со всех сторон отозвалось в народе. - Жалко, а делать нечего, когда законно…
- Еще, хлопцы, я прошу у вас одной рады: войско-вый писарь Алексей Чайковский хочет жениться на дочери лубенского полковника Ивана. Полковник Иван сдурел на старости и было призадумался, да его дочка лучше знает, что такое запорожский лыцарь, бросила отца и пришла в Сечь просить у товариства благословения!.. Согласны вы на это?
Казаки в недоумении молчали.
- Знаю, братцы, - продолжал кошевой, - вам жалко лишиться такой характерной души, как Алексей Чайковский, но надобно ему заплатить за услугу Он обещается всегда помогать нам на войне и детей своих пришлет служить на славное Запорожье.
Казаки любили Алексея и уважали за личную храбрость и неуклонный характер, а потому с радостью согласились на его свадьбу.
- Ай да собака наш кошевой! - кричал Никита, размашисто толкая товарищей - Выкинул штуку!
- Штука! - говорил народ. - И справедливо, и законно, и весело!..
- А для чего ж я привез татарина? - спросил угрюмо седой казак.
- Чтоб казнить Алексея-поповича, - отвечал строго кошевой, - найди его и прикажи казнить.
- Да, найди его, Дмитро, - кричали старику казаки, - и пускай его казнят! - Вот штука!.. Ей-богу, штука!
- Смерть Алексею-поповичу и многая лета Алексею Чайковскому! - гремела толпа, ломая подмостки и торжественно уводя Алексея и Марину к церкви Покрова.
- Бейте для потехи поганого татарина!
Подмостки рухнули, и долго еще было видно между досками тело татарина, одетое в красную рубаху, когда народ отошел и окружил церковь, в которой венчали Алексея Чайковского с Мариною.
После венца сейчас же выпроводили новобрачных за ворота Сечи: там старшины простились с Чайковским; кошевой подарил ему пару добрых коней и порядочный мешок дукатов, советовал ехать на зимовник старого Касьяна и там ждать вестей от полковника, обещался приехать к ним на свадьбу в гетманщину и быть посаженым отцом.
Случалось ли вам видеть страшный сон? Не то будто вы проиграли пульку в преферанс, или вас оклеветал ближний, или вам подали холодного супу, или смазливенькое личико, давши вам слово танцевать, отказалось и пошло с мягкими бархатными усиками, а вы для vis-a-vis полчаса гуляли по зале с каким-то привидением - или будто вы в театре, где играют нестерпимую нелепицу: перед вами на сцене русский мужик, бородач, широковещательно перелагает на российский диалект de officlis. Цицерона и машет руками и горячится, как в старину сам оный пресловутый вития перед романским народишком, а его жена в кокошнике, в сарафане и французских башмачках, попивая православный квасок, решает вопрос о Востоке лучше заморских газет и парламентов. Вы хотите бежать, но двери заперты, никого не пускают, а между тем автор пьесы самодовольно глядит на вас из ложи и, улыбаясь, будто говорит "Что, приятель, попался? Знай наших!" Согласен, это страшные виденья, невыносимые сны - но не о таком говорю я: нет, случалось ли вам видеть сон тяжкий, сокрушительный, убивающий ваш дух в самом существе его, сжимающий ваше сердце, открывающий перед вами одно отчаяние и безнадежность?.. Испытали ли вы радость при пробуждении от такого сна?.. Не правда ли, что эта радость не имеет ничего общего с другими нашими радостями? Перед нею бледны и бесцветны, как горящие свечи перед солнцем, лучшие минуты, украшающие вашу жизнь, и первые эполеты, и гармоническое "люблю", сказанное вам когда то очень благовоспитанною барышней, сказанное, может быть, потому, что ей очень хотелось сказать кому-нибудь это слово, и рукопожатие вашего начальника, и приглашение на обед к значительному лицу, и все прочие блага земли, которые в свое время сильно заставляли трепетать ваше сердце, не правда ли?
Если вы можете представить эту восхитительную, светлую, спокойную радость, это успокоительное сознание, что прошедшее - мечта, пустой сон, тогда вы приблизительно поймете состояние Алексея и Марины - я не берусь его описывать: есть минуты в жизни, есть чувства, ощущения, которые не подлежат никакому описанию, хоть они доступны почти всякому. Кто из нас не понимает вполне красоты и величия солнца и кто из прославленных живописцев изобразил его, хотя многие изображали, изображают и будут изображать?
[1] - Пусть все дрожат, я скажу, что чувствую!
[2] - длинного ременного повода
[3] - безродные, холостяки
[4] - возвышение
[5] - литаврщик
[6] - выдра, loutre
[7] - болотистые острова и низменные места днепровского берега
[8] - И до сих пор в Малороссии считается величайшим бесчестием отрезать девушке косу. Ни за какую плату девушка не согласится добровольно лишиться этого украшения. "Коса вырастет, а позору не вернешь", - обыкновенно отвечает она на предложения парикмахера или другого афериста, покупающего волосы.- (авт.)
[9] - хоромами
[10] - судиться
[11] - священника
[12] - плащ с капюшоном













Поділитися