История швейцарской литературы. Том 2. Глава 8
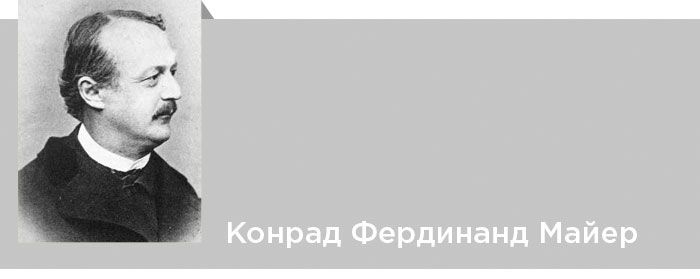
Конрад Фердинанд Майер (Conrad Ferdinand Meyer) младший из трех классиков швейцарской литературы. Он родился в 1825 г., на тридцать лет позже Готхельфа и на несколько лет позже Келлера. В литературу Майер вступил в 70-х, когда “Зеленый Генрих” и первый том “Людей из Зельдвиллы” уже давно прославили их автора, а неистового Иеремии Готхельфа уже много лет не было в живых.
Лучшие вещи Майера отличает предельная сжатость материала, выверенная архитектоника, объективность, ясность, покоряющая мажорность тона, одинаково свойственные ему как в поэзии — он был одним из самых значительных немецкоязычных лириков второй половины XIX в. — так и в прозе, в десяти созданных им исторических новеллах и романе из швейцарской жизни XVII в. “Юрге Еначе”. Но мажорность и ясность были конечными результатами его творчества. Обращаясь в своих произведениях к прошлым эпохам, он видел в истории мучительную борьбу человека с жестокими обстоятельствами. Его занимала тайна поступков людей и хода исторического развития. Он умел уловить многослойность и многозначность великого и малого в жизни.
Майер стоит на перевале от старого к новому. Он прочно связан с литературой прошлого. В его стихах и прозе заметны отзвуки баллад и драматургии Шиллера, он чтил Гете и романтиков, которым многим обязан. Учился у Мериме. Извлекал для себя уроки из чтения Монтеня, Паскаля, Расина, Сент-Бева, де Виньи (перечень можно продолжить). Но в 70-80-х годах он создавал произведения, в которых многое предвещало новое — литературу рубежа веков и, больше того — литературу XX в.
Майер не принадлежал к той плеяде могучих реалистов, которые определяли литературное развитие XIX столетия во многих странах. Характерно, что почитая Тургенева и Толстого, он с наибольшим интересом относился к Достоевскому. Классичность Майера перенапряжена: очевидная ему катастрофичность жизни с трудом удерживается в рамках гармоничных образов и монументальных исторических картин.
***
Майер родился в Цюрихе, в старой патрицианской семье. Отец его был историком и политическим деятелем, либералом старого склада, входившим в высший орган местного управления — Кантональный совет Цюриха. Но в 30-е годы, время подъема демократии, отец будущего писателя отошел от дел. Он стал преподавать историю в гимназии и лишь за год до смерти возглавил кантональное ведомство образования.
Занятия отца и перемены в его служебном положении не прошли мимо сына. Не оставлявший писателя всю его жизнь интерес к истории возник в эти годы. Но в ранней молодости он горячо интересовался и текущей политикой, увлекаясь, вопреки убеждениям родителей, самыми радикальными идеями времени. Есть свидетельства, что юноша Майер с сочувствием и интересом относился к книге позитивиста Д. Т. Штрауса “Жизнь Христа”. Этот интерес был буквально задавлен как вредное заблуждение страстно любившей сына матерью1. Но и в дальнейшем, в годы недолгих занятий правом в университете, он интересовался идеями христианского коммуниста В. Вейтлинга и Л. Фейербахом. Лишь постепенно убеждения Майера обрели большую глубину, а его радикальные порывы охладели. Но усугубилось и его одиночество.
Он рос робким и нелюдимым. Его занятия историей, живописью, его лирические опыты долгие годы оставались его домашним и частным делом. Под опекой матери и преданной сестры он жил вдалеке от своих сограждан. Страх перед людьми соединялся с жаждой общения. Болезненная раздвоенность была так мучительна, что привела его в 1852 г. в психиатрическую лечебницу. Врач рекомендовал общественно полезную деятельность.
Ближайшие следующие годы были для Майера временем утрат, но и упорной работы. В 1856 г. в нервном санатории в припадке тоски покончила с собой его мать. Поселившись во франкоязычной Лозанне, он преподавал историю слепым и перевел на немецкий язык книгу знаменитого французского историка Тьерри “Рассказы из времен Меровингов” (перевод — 1855 г.). Эта книга стала для Майера примером соединения научного подхода к истории с художественной ее обработкой. Книга Тьерри, как и труды старшего друга Майера, писателя и историка Ш. Вюльемена, помогли ему почувствовать прошлое как непрекращающееся противоборство враждующих сил и ощутить их мощное воздействие на судьбы людей.
Одно за другим Майер совершил несколько путешествий. В Париже, а потом в Мюнхене, его привлекают музеи и современная художественная жизнь. Но в целом Париж отвратил его, как двумя десятилетиями раньше нашего Гоголя, своей буржуазностью и деловитой суетой. В марте 1858 г., он едет вместе с сестрой в Рим. Огромное впечатление произвели на него памятники античности и Возрождения, месяцы, проведенные в Италии стали эпохой в его жизни.
Среди крупнейших писателей Швейцарии именно К. Ф. Майер больше других откликнулся на национальную неоднородность своей родины. Он был открыт как немецкой (что естественно для уроженца Цюриха), так и латино-романской, итальянской, французской культуре. Переводя объемистый труд Тьерри, в идеях и стиле которого чувствовалось влияние раннего французского романтизма, читая именно в молодые годы преимущественно французских авторов, Майер оттачивал свой собственный литературный язык. С романской культурной традицией, а отчасти и с творчеством его современников, французских поэтов-парнасцев — их объективностью, пластичностью, зримостью, отстраненностью картин и образов — в недалеком будущем будут связаны лучшие образцы майеровской лирики2.
Но первые лирические опыты Майера далеки от совершенства. В 1860 г. он решился собрать и отослать издателю в Лейпциг, не указав своего имени, рукопись, озаглавленную “Картины и баллады Ульриха Мейстера” (“Bilder und Balladen von Ulrich Meister”). Эти стихи были отвергнуты3. Первая, тоже анонимная, книга Майера “Двадцать баллад одного швейцарца” (“Zwanzig Balladen von einem Schweizer”), появилась во многом благодаря усилиям преданной поэту сестры Бетси в 1864 г. Книга была едва замечена, но и этот малый успех окрылил автора. В 1870 г. — уже под собственным именем — Майер выпустил в лейпцигском издательстве Хесселя второй сборник стихов “Романсы и образы” («Romanzen und Bilder ”). Сочетание свободолюбивых и религиозных мотивов восходит тут к политической лирике Гервега, Фрейлиграта и Ленау. Но определился и собственный интерес к острым историческим и душевным коллизиям.
Одновременно с работой над стихами Майер осуществил два крупных замысла. В 1871 г. в свет вышла поэма “Последние дни Гуттена”. Годом позже была напечатана поэма “Энгельберт” («Engelberg»4). В обоих произведениях Майера привлекают крупные личности и драматизм их судеб. В “Энгельберге” метафизический смысл человеческого существования раскрывается на материале средневековой католической легенды. В “Гуттене” тема личной судьбы человека вписана в контекст всемирной истории. “Гуттен” — это уже новый Майер, вступивший в пору своего недолгого, но мощного расцвета.
Исследователи не раз подчеркивали, что начавшийся в 70-е годы взлет его творчества был связан с немецкой победой во франко-прусской войне и объединением Германии рукой железного Бисмарка. Именно в это время утвердился напряженный интерес Майера к сдвигам в истории. Именно с этого времени, под влиянием произошедших событий Майер чувствует себя не только швейцарцем, но и немцем. Писавший до этого и по-французски, и по-немецки, он остался с тех пор верен немецкому языку. Этот поворот к немецкой истории, немецкой культуре и современным событиям в Германии и отразился в поэме “Последние дни Гуттена” — произведении, которое автор считал своим истинным первенцем (статья “Мой первенец «Последние дни Гуттена»”, “ Mein Erstling «Huttens letzte Tage» 1891).
Как и его отец, Майер был консервативным республиканцем. В зрелые свои годы он критически относился к материалистичности и позитивизму своей эпохи. Не верил в благо, которое сулил принести людям технический прогресс. Был противником дальнейших шагов в сторону демократии. Но он был достаточным демократом для того, чтобы не верить в возможности обновления, если оно не идет из глубин народа. Именно так Майер понимал Реформацию, охватившую в XVI в. многие страны Европы, в том числе и Германию. Поэма “Последние дни Гуттена” (“Huttens letzte Tage”) и посвящена этому времени и его герою — немецкому поэту, рыцарю, гуманисту, борцу против папства, соратнику Лютера и Цвингли.
Во многих отношениях поэма предвещает будущее прозаическое творчество Майера. Она многолюдна, хоть и посвящена одному герою. Как и его новеллы, она ветвиста — соединяет в себе эпизоды, взятые из разных областей жизни. Часто тут слышится грубый народный говор, балагурство и брань “темных людей”.
В разные моменты жизни представлен и сам Гуттен. Смиренным паломником он отправляется в Рим, но впадает в неистовство при виде разврата на папском престоле («Поездка в Рим»). Он непримирим к любому произволу власти. Реформация предстает как борьба за права народа и разума против любых церковных и светских властителей. Этим, однако, не исчерпывается содержание поэмы.
В немецкоязычных литературах поэма Майера продолжает длинный список произведений, посвященных тому же герою. О Гуттене писал в восхищенной статье Гердер. В “Поэзии и правде” о нем вспоминал Гете. Множество произведений, посвященных Гуттену, появилось в революционные 40-е годы. Ему посвящали стихи Келлер и Гервег. Но Майер не раз вспоминал появившийся в 1845 г. эпос в стихах малозначительного швейцарского поэта Фрелиха, с которым его поэму роднит особое значение национальной идеи. Гуттен для Майера прежде всего тот, кто пробудил национальное самосознание немцев. Он защищал не только новую веру, но и достоинство немцев от засилия католического, латино-романского мира.
Поэма Майера косвенно откликалась на победу Германии во франко-прусской войне. Германия противостояла тому, что в тексте поэмы неоднократно обозначается словом “welsch” (романское, итальянское, французское). С большой силой в поэме звучит восхищение сплотившимся в ходе Реформации широким немецким миром. Идея свободы соединяется с идеей немецкого государственного единства (главка “Кузнец”). Как следует из воспоминаний Бетси Майер, автор поэмы хотел видеть в Гуттене человека, который уже в то время мог стать при известном стечении обстоятельств объединителем Германии.
Никогда после в творчестве Майера сочувствие протестантскому немецкому миру не высказывалось с такой определенностью, как в “Последних днях Гуттена”. В написанной через два года новелле “Амулет” (“Das Amulett”, 1873), действие которой происходит во Франции, в Варфоломеевскую ночь, при всем сочувствии гугенотам и кальвинистам швейцарских кантонов, автор указывает и на жестокость Кальвина, и на неправомочность пришельцев-кальвинистов распоряжаться в чужой стране. С другой стороны, амулет с изображением Божьей матери из католического храма в швейцарском местечке Айнзиндельн чудесным образом уводит героя от верной гибели, как бы доказывая правду и второй стороны. Не в поэме “Последние дни Гуттена”, а в этой первой майеровской новелле сложилась характерная для всего его дальнейшего творчества коллизия: единой истины нет, правда двойственна. Главное же в поэме заключалось для писателя, очевидно, не в вероисповедании, а в том воодушевлении национальной идеей, которое в годы издания поэмы охватило не только немцев, но и население немецкоязычных кантонов Швейцарии, с обостренной силой почувствовавшего свою связь с “большой родиной”.
Национальная идея важна для Майера если она связана с консолидацией в единое государство. В статье, посвященной “Последним дням Гуттена”, он вспоминает и произошедшее ранее объединение Италии как событие чрезвычайно значительное.
Проявился в поэме и интерес автора к широким просторам и потрясениям мировой истории. В отличие от Песталоцци, Готхельфа, Келлера с их неизменным вниманием к современной им швейцарской действительности и ее государственному устройству, Майер уносился вглубь времен и за границы страны.
Он творил в те десятилетия, когда существенно менялась ситуация в Швейцарии. Со второй половины века в стране не происходило сколько-нибудь заметных политических потрясений. Экономическое благосостояние росло. Но возникало и чувство насильственной замкнутости, отсутствия “судьбы”, то самое ощущение “неуютности в маленьком государстве”, о котором так много будет писаться впоследствии5. Майер разрывает эти границы — он отступает от замкнутой жизни, выходит к иным просторам. Но проблемы этой жизни, так же как личные проблемы писателя, все же выражены в его творчестве с большой силой.
Перечисляя в уже упоминавшейся статье стимулы, побудившие его написать “Гуттена”, Майер упоминает не только “силу великих событий времени”, но и «взращивавшееся десятилетиями личное мироощущение и впечатления от родного, близкого душе пейзажа»6.
Действие “Гуттена” разворачивалось на острове Уфенау посреди Цюрихского озера. Тут, укрывшись от преследований, умер Ульрих фон Гуттен. Все, что происходит в поэме, таким образом, по существу воспоминания героя, картины, проносящиеся в его воображении.
В первой редакции поэма состояла из пятидесяти четырех стихотворений, разделенных на девять групп. Каждое стихотворение имеет свое заглавие, озаглавлены и девять разделов. Но в поэме есть и внутреннее единство и трагический, противоречащий победе Реформации смысл. Время подвигает Гуттена все ближе к смерти. Это и есть скрытое художественное напряжение поэмы. Все подчинено — как и впредь у Майера — глубокому разладу. Прошлое, полное событий и свершений, проходит перед глазами героя. Но этого прошлого уже нет. Настоящее — это умирающий одинокий герой на маленьком, замкнутом водами озера клочке земли. Гуттен в поэме Майера — это страдающий Гуттен. Это еще и сам автор. В письме к А. Фрейю (11 июля 1881 г.) Майер заметил: ‘Туттен “интимнее”, чем вся моя лирика вместе взятая”. Поэма “Последние дни Гуттена” — не только “полотно эпохи”. Это проблемное произведение, как проблемны, о проблематичности жизни написаны и все произведения К. Ф. Майера.
Всю жизнь писатель полагал, что истина, а значит, и художественная правда растворены в материале, что образ, сюжет, судьбу, логику поведения героя нужно “обнаружить”, отсекая скрывающие их глыбы действительности, как скульптор Микеланджело отсекал куски мрамора, чтобы очистить “скрытую” ими статую. По этому принципу постепенно раскрывающегося смысла построены многие майеровские стихотворения. Его новеллы часто представляют собой развернутый ответ на скрыто и косвенно заданный читателю в начале вопрос. Художественная работа требовала у Майера длительной подготовки не только потому, что он обращался к временам давно минувших эпохи, но потому, что своей мыслью он доискивался: “как оно на самом деле было”. Его интересовала не столько эпоха, сколько человек в ней, человеческая истина.
Главным в поэтике Майера можно считать постепенно раскрывающееся и усложняющееся противоречие. Эпиграф к поэме “Последние дни Гуттена” в русском переводе гласит: “Не книга — человек я во плоти”. В подлиннике сказано иначе: “человек в его противоречиях”. Поэма написана пятистопным ямбом, заключенным в простейшую, распространенную и в народной поэзии строфическую форму — двустишие с постоянной мужской рифмой. Заключительное двустишье каждого эпизода часто стягивает в себе обе стороны намеченного противоречия, как бы заново объединяя их в одно целое. Сам автор, долго искавший размер поэмы, считал его несколько назойливым, жестким, “деревянным”. Но именно такая жесткая стихотворная форма, такая насыщенная противоречиями ясность, проявилась и в майеровской прозе — романе “Юрг Енач” и особенно новеллах7.
***
Роман из швейцарской жизни XVII века “Юрг Енач” («Jürg Jenatsch», журнальное издание 1874, переработанное книжное издание 1876) был задуман еще в середине 60-х годов. Майер предпринял тогда путешествие в горный кантон Граубюнден с целью собственными глазами увидеть место действия будущего своего сочинения, “страну и людей, краски и обычаи” (письмо Фр. Вису, 28 авг. 1866 г.). Он изучал труды, связанные с интересовавшей его эпохой и биографией будущего героя, штудировал документы, работал в архивах. Но роман продвигался медленно. Автор порой был близок к тому, чтобы отказаться от своего замысла и ограничиться историко-биографическим очерком. Из писем Майера ясно, что он остро ощущал недостаточную широту картины. Его таланту свойственна была краткость. Картину эпохи он создавал скупыми деталями. Будущий цюрихский бургомистр Вазер появлялся на первых страницах романа с книгой мыслителя и педагога Яна Амоса Коменского. Он же упоминал о своем соотечественнике, ученом ботанике и лингвисте Конраде Гесснере. Сам Енач держал в руках “Дон Кихота” Сервантеса. Так очерчен культурный горизонт эпохи. Читатель ясно видит и трактир в Куре, военный лагерь Енача, собор на канале в Венеции. Но подробных описаний мало. Перерабатывая рукопись, Майер старался насытить текст материалом.
Однако и правда материала не удовлетворяла Майера. Творчество было для него приближением к более глубокой истине, чем та, которую давали источники.
Перед ним была Швейцария XVII в., десятилетиями раздиравшаяся непрекращавшейся борьбой между протестантскими и католическими партиями за права своей веры, а вместе с тем и за политическое и хозяйственное влияние. В своем романе Майер запечатлел массовое избиение простестантов католиками в ущелье Вальтеллина. Главной площадкой борьбы по причинам не только внутреннего, но и внешнеполитического порядка стал расположенный на земле древней Реции союз трех областей, позднее преобразовавшийся в кантон Граубюнден. В ходе Тридцатилетней войны, в схватке великих держав — Испании и Австрии, с одной стороны, и Франции, с другой — стратегическое значение приобрели расположенные в Граубюндене переходы через Альпы. Граубюнден превратился в поле столкновения враждующих стран и не раз переходил из рук в руки. Стране грозила потеря самостоятельности. Юрг Енач, протестантский священник, а потом полковник, стал спасителем родины в этой труднейшей ситуации. Его усилиями была завоевана основа для политической независимости союза кантонов.
Майер писал свой роман, когда в Европе распространилась мода на произведения об истории. В Германии в свет выходили первые романы исторического цикла Г. Фрейтага “Предки”, автора чуткого к исторической детали, но весьма произвольно трактовавшего историю. Среди читающей публики широкой популярностью пользовались романы Г. Эберса и Ф. Дана. Особенно первые были увлекательным легким чтением, погружавшим современного человека в мир древнего Египта, Рима или раннего христианства. Автор, профессор истории, точно передавал обычаи, костюмы, облик эпохи.
У Майера мишура истории убрана. Колорит времени дан четко, но скупо. Ясно, как на картине в раме, виден пейзаж — величественные горы, цветущие альпийские луга, прозрачный воздух. Фон идилличен, но в неподвижности и тишине — давящая настороженность. В маленьких местечках, в городах Швейцарии и Италии назревают драматические столкновения. Читатель Майера чувствует мощную динамику истории. Гимназический друг Юрга Енача, Вазер, играющий в дальнейшей его судьбе роль сочувствующего, но осторожного наблюдателя, встречает в горах группу всадников, в одном из которых узнает Помпейюса Планту, крупного землевладельца и главу испано-австрийской партии, изгнанного за предательство интересов кантонов из пределов Граубюндена с конфискацией всего его немалого имущества. Молодая дочь Планты Лукреция, знавшая Юрга Енача с детства, сует Вазеру записку с двумя словами — “Юрг, берегись!”. Так начинается роман, в котором на первых же страницах говорится о непримиримой борьбе и звучит мотив предостережения. Сигналы тревоги повторяются затем от сцены к сцене. Порой автор следует за реальными событиями. Ночуя в близлежащей деревне, Вазер узнает, например, как это и было в действительности, о подготовке убийства Юрга. Но совсем необязателен с точки зрения исторической точности слабоумный Агостино, встреченный Вазером в той же деревне, а потом появившийся у жилища священника Юрга раньше других и убивший, как отступницу от католической веры, его молодую жену.
От эпизода к эпизоду опасность растет. Недалеко уже и резня в Вальтеллинской долине. Главный герой все больше представляется читателю жертвой своих политических противников. Но яснее прорисовывается и лицо самого Юрга. Его облик мужествен и героичен, но освещен “отблеском дикой силы”. Сомнению со стороны осторожного Вазера подвергается и его отношение к Планте. Вазер готов понять изгнание Планты, но не обращение с ним, как с подлым преступником. В дальнейшем ходе событий не Юрг, а Помпейюс Планта оказывается жертвой: он зарезан в собственном замке рукой Енача. Оправдано ли насилие исторической необходимостью? — “Нашу испанскую партию, — утверждает Юрг Енач, — необходимо было придавить так, чтобы она не поднялась больше”. — “Правильно, — возражает Вазер, — если бы вы не обращались к таким грубым, насильственным средствам”.
Роман о Юрге Еначе пользовался в Швейцарии огромной популярностью (в 1910 г. вышло его сотое издание). Но исследователям вплоть до нашего времени часто не хватало в произведении последней ясности. Жаждали однозначных оценок и окончательного решения вопросов. Между тем, как отмечал один из лучших знатоков творчества Майера Р. Фэзи, “Енач” — это не тенденциозный, а проблемный роман»8. В следующие годы, в своих новеллах, Майер достиг большего мастерства. Но он попрежнему изображал противоречия, ставил, а не разрешал вопросы.
Проблемность прозы Майера реализуется не только в спорах и диспутах, подобных столкновению между Еначем и Вазером. Таких споров в романе не так уж много. Но с развитием действия разные лица высказывают, и не встречаясь, разные взгляды на события и главных героев. Больше того: события и люди и сами поворачиваются к читателю разными сторонами.
Герои поданы крупно. Они, как Гулливеры, отчетливо выделяются на скупо очерченном фоне. Между ними и в их душах назревают волновавшие автора внутренние, моральные, и внешние, общественные, конфликты. Конфликты XVII в. давали повод к обсуждению вопросов, волновавших и современный Майеру мир: право и власть, политика и нравственность плохо совмещались друг с другом.
На протяжении всего романа Енач связан, как это и было в действительности, с другой крупной фигурой — герцогом Роганом, сподвижником короля Франции Генриха IV и предводителем гугенотов. У Майера он показан, когда, приняв начальство над французскими силами в Швейцарии, стоял, проводя политику Франции в противовес австрийско-испанским интересам, на стороне протестантов в Граубюндене. В 1633 г. он изгнал испанцев и австрийцев из долины Вальтеллина, а еще через несколько лет победил испанцев при озере Комо. За каждым из главных персонажей у Майера — политическая и религиозная партия, интересы и политика разных стран.
Как отметил Р. М. Самарин, написавший о Майере увлеченную статью, “борьбу Граубюндена за независимость писатель изобразил без оттенков швейцарского провинциализма... Майер верно понял и то, что борьба Граубюндена, его судьба — это только небольшая часть гигантской исторической драмы, разыгрывавшейся в Европе... На этой малой сценической площадке действовали примерно те же силы, какие вели борьбу на решающих плацдармах Европы»9. Читатель романа чувствует дыхание большой истории, но границы сюжета держат его в границах истории малой.
Роган сопоставляется с Еначем не только потому, что они были тесно и трагически связаны в действительности, не только потому (хоть это важно для художника), что представляли разные страны и разные социальные интересы (в отличие от герцога Енач близок третьему сословию). В романе это еще и противопоставление нравственных позиций, принципов поведения выдающейся личности в истории. И хоть автор и тут не облегчает дела читателю абсолютным сочувствием одному из двух, преимущества не на стороне Енача.
Роган у Майера отнюдь не “хитрый, старый царедворец»10. В романе он гораздо меньше, чем его исторический прототип, вовлечен в двусмысленность политики. Он умен, но бесхитростен. Заключив союз с Еначем, Роган полностью ему доверяется. Он верит в поддержку Енача и тогда, когда обстоятельства меняются, в Париже отказываются подписать договор, обеспечивающий независимость швейцарцам и права протестантской веры, и “добрый герцог”, как его называют в Граубюндене, оказывается невольным обманщиком, бессильным выполнить данные обещания. Перед двумя главными героями встает вопрос: как действовать дальше?
В “Юрге Еначе” Майер гораздо смелей, чем в поэме “Последние дни Гуттена”, заглянул в бездны души своего героя и в темные бездны истории. Он показал не только его исторические заслуги, он дал читателю возможность задуматься над тем, что такое историческая необходимость, побуждающая человека, если он признает ее над собой, пробивать ей дорогу любыми средствами. Сама манера письма дает автору возможность уйти от суда над своим героем. “Енач склонился над рукой герцога и при этом с невыразимой печалью заглянул ему в глаза. Роган усмотрел в этом загадочном взгляде сочувствие преданного друга к его горчайшей доле; ему и в голову не приходило, какая перемена совершалась в душе граубюнденца, он не подозревал, что Юрг Енач, после жестокой внутренней борьбы, в этот миг отрекся от него”. В следующие годы, в новеллах, Майер будет подробнее следить за постепенными превращениями человека из одного в как будто бы совершенно другого. Пока же совершившееся превращение — разрыв и измена — вмещаются в два предложения.
Изменив герцогу, а стало быть и Франции, Енач переходит на ту сторону, против которой упорно боролся, — на сторону Испании. Более того, протестантский священник и борец за права протестантов, он принимает католичество. Психологические объяснения в романе следуют позже или отсутствуют вовсе11. До процитированного отрывка говорится лишь о давлении на Енача обстоятельств: народ, население Граубюндена все с большим нетерпением и подозрительностью ждут обещанной Францией независимости и требуют от Юрга добиться “старой свободы — с герцогом, если он на это годится, или без него, если он пойдет своей дорогой”.
Готовность Енача на измену подготовлена автором иным способом. Один за другим следуют “сигналы тревоги”, предупреждение о решимости Юрга идти напролом; разные люди видят его разным, а некоторые почти предвидят будущую его измену. Целая система повторяющихся намеков, деталей, ситуаций образует некое смысловое поле, связанное с героем12. Выстраиваются едва заметные параллели. Ведь и жена Юрга была убита братом за измену католической вере (эпизод, вымышленный Майером). Юрг же (и это становится подозрительным) многократно говорит о своей неспособности к отступничеству.
Долголетний союзник и покровитель Енача “добрый герцог” отвечает на вопрос “что дальше?” прямо противоположным образом. Обстоятельства давали Рогану возможность, предав интересы родины, стать на сторону Енача. Он эту возможность не принял. Отклонил он и требование Ришелье выступить против Енача. Роган выбирает третье: он уходит с арены истории, оставшись верным себе и, как презрительно судит о нем Енач, “рабом данного им слова”. Юрг видит в этом проявление слабости. Но в том же поступке есть и свобода от обстоятельств, и внутренняя сила, и единство судьбы и натуры. К Рогану можно отнести сказанное о герое одной из новелл Майера: “Его вчера естественно перетекало в его сегодня”. Этого жалкого “христианского рыцаря”, этого “погибшего человека, стоявшего на краю пропасти”, этого “обманутого и побежденного” (суд Енача над бывшим союзником) с любовью провожает вышедший на улицы народ Граубюндена.
Намечены две позиции. Но “Юрг Енач” не был бы “проблемным романом”, если бы правда Рогана решительно перевешивала.
Юрг Енач и дальше идет по пути измены. Он как может долго скрывает свое отступничество, радуясь, что и у швейцарцев есть человек, равный в коварстве кардиналу Ришелье. В сцене подписания договора с Испанией он неистовствует, грозит “новым союзом с разочарованной Францией” и добивается, наконец, независимости швейцарских кантонов нечестным путем.
Жизнь Енача — обратно-зеркальное отражение позиции Рогана. Герцог Роган не добился свободы кантонов. Он наивно поверил, что кардинал будет считаться со словом, данным сильным слабому. На угрозы Ришелье Роган отвечает, что если нельзя быть одновременно французом и человеком чести, он предпочитает последнее. Изменник Енач прежде всего патриот, швейцарец: “Я заключаю союз с Испанией. Это наше едиинственное спасение”. Как говорит в романе об этом “трудно поддающемся пониманию характере” бургомистр Цюриха: “В одном по крайней мере Юрг Енач превосходит наших великих современников — в его всепобеждающей любви к родине”.
Совершенное Юргом Еначем осталось в памяти потомков. Но и отодвинувшись в прошлое, эта фигура не потеряла своей двусмысленности.
Спор, растворенный Майером в самом ходе повествования, однако, еще не кончен. Что-то неладно в надорвавшейся душе Енача, что-то неладно вокруг него. На последних страницах романа все перемешано. Внезапно приходит известие о кончине герцога. Врывается толпа ряженых. Сцена приобретает, как часто у Майера, почти символический характер: у людей нет лиц, они заменены масками (тот же мотив изменчивости, нечистого превращения). На Юрга движется огромная медведица как будто сошедшая с герба Граубюндена — “республики трех кантонов”. Повсюду блеск обнаженных клинков. Лукреция, дочь убитого Помпеюса Планты, обнимает Енача, чтобы защитить любимого. Но тут она видит занесенный отцовский меч в руках старого слуги. В смятении, со смутной мыслью, что Юрг, а значит и право на месть ему, принадлежит ей, она выхватывает меч и убивает героя.
Именно этот эпизод был расценен впоследствии Г. Келлером как самый неудачный в романе. В письме к Шторму (9 июня 1884 г.) Он отмечал слабость Майера “к подобным убийствам и жестокостям”. Эта слабость и впредь не оставляла Маейра. Но обилие крови, смертей, предательств свидетельствует и о правде истории.
Критики находили в романе отзвуки трилогии Шиллера “Валленштейн” (1800 г.), в которой идеальному Максу Пикколомини противостоял пошедший на измену гениально одаренный полководец. Но сходство с Еначем лишь отдаленное. В Валленштейне нет той жгучей любви к родине, которая была в майеровском герое.
Автор представлял своих персонажей в разрывавших их глубоких противоречиях. Как считал Келлер: “Тут подлинная трагедия, заставляющая каждого поступать, как он считает себя обязанным” (письмо Майеру 3 октября 1876 г.) По словам Майера, ему важно было обнаружить в далеком прошлом зачатки психологии будущего, показать “начала современного человека” (письмо Хесселю 5 сентября 1866 г.).
Трагическим был и его взгляд на историю.
“Йорг Енач” отличен от того типа исторического романа вальтерскоттовской традиции, который господствовал на протяжении XIX в. В отличие от Скотта Майер выражал сомнение, что с развитием совершается и переход к лучшему, морально более высокому состоянию человечества. Если у В. Скотта сами благополучные развязки его романов, примиряли человека и социальные обстоятельства, то Майер кончает относительностью достигнутого. В понимании истории он близок скорее трагическому мировосприятию немецких романтиков — Генриха Клейста («Михаэль Кольхааса”, 1808), или Людвига Арнима. Среди французских писателей именно в этом смысле ему близок Альфред де Виньи, в историческом романе которого “Сен-Мар” (1826) “нет правых сторон”13. Майер творил в то время, когда в недалеком от Цюриха Базеле профессорствовали Фр. Ницше и Якоб Буркхардт. Обоим мыслителям было свойственно глубокое недоверие к прогрессу. В истории человеческого общества, как и в натуре человека, оба видели неискоренимые противоречия. Майер не отрицал, как Ницше, значение морали. Как и Буркхардт, он сохранял требовательность к человеку. Но зафиксировав глубокую двусмысленность жизни, от суда над ней он отказывался.
Сдержанность Майера, “объективность” его стиля содержит в себе стремление отстраниться, нежелание соучаствовать в душевных “разрывах” героев, истолковать которые он, творивший на излете века, когда пошатнулись нравственные устои, был, в отличие от Готхельфа и Келлера, уже не в состоянии. Фигура умолчания, часто возникающая у Майера в самые роковые моменты действия, знак крайнего напряжения, когда в одном герое будто видятся сразу два, друг другу противоположных.
Как и почитавшийся им Достоевский, Майер изображал “безудержных людей”14. Но он не захвачен, как Достоевский, бурями их страстей. Работая над новеллой “Судья” (“Die Richterin”, 1885), Майер читал “Преступление и наказание” Достоевского. В письме к Фр. Вилле 15 марта 1885 г. он отмечал “родственность мотивов” романа Достоевского со своей новеллой: его героиня — чтимая всеми судья в древней Реции — таит совершенное в прошлом “ради высших целей” убийство. Заключительная сцена новеллы — исповедь судьи Стеммы перед народом на площади — отсутствовала в первоначальном плане произведения и была добавлена, как предполагают исследователи15, после знакомства писателя с “Преступлением и наказанием”. У Достоевского автора восхищала “анатомия души”. Но в упомянутом письме Майер неслучайно подчеркнул, что его средневековая героиня “посильнее нервами, чем русский студентишка”. Восхищавшая автора у Достоевского “анатомия души” отсутствовала у него самого за исключением достаточно сдержанной исповеди героини, как можно предположить, не только по причине большой ее стойкости, но и следуя законам его собственного творчества.
В новелле “Святой” Майер углубился в историю Англии XII в., также глубоко драматическую: после нормандского завоевания 1066 г. коренное население страны — англосаксы оказалось в положении угнетенных.
“Святой” (“Der Heilige”) — самая совершенная новелла Майера и во многих отношениях вершина его творчества. Работа над ней совпала со счастливейшими годами его жизни. Он обрел семью. В 1880 г. университет города Цюриха присудил ему звание почетного доктора. Город признал писателя, долгие годы жившего в нем отщепенцем.
Блеском красок и полнотой жизни отличается и новелла “Святой”. Но не исчезли в ней и драматические превращения в судьбах персонажей.
Историческая основа сюжета сводится к конфликту английского короля Генриха II с преданным ему канцлером Томасом Бекетом, провозглашенным им епископом Кентерберийским в надежде подчинить церковь государственной власти. Но Томас Бекет стал действовать непредуказанно: он отстаивал права церкви, за что в 1170 г. был убит приближенными короля, а позже причислен папой к лику святых.
Фигура Томаса Бекета не раз привлекала писателей. В XX веке он стал героем драмы в стихах Т. С. Элиота “Убийство в соборе” (1935) и Жана Ануйя “Бекет или Честь Господня” (1959). К. Ф. Майера интересовало прежде всего “превращение”. Его не могло удовлетворить любое однозначное объяснение произошедшего (например, властолюбием Бекета или, как у Т. С. Элиота, идеей, что истинная свобода предполагает подчинение высшей воле). Объективный Майер стремился увидеть противоречия исторического процесса и противоречия каждой из участвующих в нем сторон. Бесстрашный в постижении бездн человеческих, он желал показать и высшее в самой плоти жизни — “скрытую в человеческих делах справедливость”.
Опять, как в “Юрге Еначе”, Майер выдвигает на первый план двух связанных сложными отношениями героев — на этот раз короля и его канцлера. (Подобная “парность” повторяется затем и в новеллах “Страдания мальчика”, “Судья”, “Ангела Борджа”. Майеру важно выделить полюса жизни, чтобы начать затем выяснение их сопряженности.) Но в отличие от “Енача” тут применен и еще один способ осложнить и объективизировать картину. Майер вводит опосредствующее лицо — рассказчика, королевского арбалетчика, на глазах которого развернулось все происшедшее. С его появления и начинается действие.
В новеллах Майера замечательны первые страницы. Они не только вводят читателя в эпоху и ситуацию, но и содержат в себе драматический узел сюжета, его экспозицию. В “Святом” оружейнику Гансу, въехавшему верхом в заснеженный Цюрих, открывается странная картина: он видит, как в ранний час буднего дня, когда хозяйки обычно не отходят от очагов, к центру города, сверху с холмов, стекаются непрерывным потоком, как муравьи, женщины самых разных сословий.
Читатель Майера попадает в обычное для него положение: ему будто задается вопрос — что все это значит? Вскоре разъясняется, что стечение народа вызвано праздником в честь святого Томаса: в Цюрихе верят, что обращенная к святому молитва спасла город от пожара. Но возникает новое недоумение: кто такой этот Томас — в недавнем прошлом светский человек, канцлер, обронивший как-то о себе, что он такой же святой, как сожженная на костре ведьма? Как могло свершиться подобное превращение? В следующих новеллах автор неизменно предлагает читателю аналогичные загадки: что же такое этот страдающий мальчик? Этот Пескара, герой одной из последних его новелл? — В лучших произведениях Майера ответ не только освещает в конце концов тайну души, но и ловит в расставленные автором сети противоречивый смысл исторической эпохи.
Спрошенный о Томасе Бекете Ганс приступает к рассказу, но то и дело отступает от темы, пускается в отвлечения. Иной раз сюжетные связи легко обнаруживаются, например, в истории сватовства самого Ганса к дочери лондонского оружейника, которую вскоре похитил приближенный короля, нормандский герцог. Отец девушки умолил тогда случайно проезжавшего мимо Бекета вернуть ему дочь. Неизвестно, вернулась ли она в конце концов, потому что прискучила похитителю, или благодаря вмешательству канцлера. В рассказ вклинивается и история семьи и детства самого Ганса и многое другое.
Будто в нарушение законов жанра, требующего экономности, повествование ветвится. Это не мешает, однако, четкости формы. Смысловые нити сцепляются на более глубоком, чем сюжет, уровне, уровне проблем, тематических мотивов, как то было и в “Юрге Еначе”.
Отец Ганса, узнает читатель, оказался когда-то в тяжелых долгах. Дабы избавиться от заимодавцев, а заодно спасти свою душу, он отправился в крестовый поход, из которого не вернулся. В “боковой” истории спрятаны зерна, которые будут прорастать потом: добро и зло, преступление и вера переплетаются. Ответвления проясняют смысл целого и дальше. Сам Ганс, как оказывается, в молодости убил старика-еврея, не пожелавшего отсрочить ему долги. В Томасе Бекете тоже течет кровь иноверцев и угнетенных: он сын сакса и сарацинки. Но встречаются сюжетные ответвления и другого рода. Повествование прерывает сказка о Принце-Месяце, прозванном так за свою доброту, благородство и бледность лица. Фигура канцлера Томаса почти замещается другой, сказка и история мгновениями сливаются и, как у романтика Новалиса в романе “Генрих фон Офтердинген”, концы легенды вдруг обнаруживаются в реальности. Подозрение, не есть ли будущий святой тот самый восточный принц, так и не рассеивается до конца. Как и развязка, заранее поведанная читателю (Ганс начинает с рассказа об убийстве святого), сказка тоже закидывает камешки в будущее. Принц-Месяц отличается не только утонченной восточной красотой, но и благородством, мудростью и тонкостью души. У канцлера эти свойства соединены с надменностью, гордостью и брезгливостью. Сказочный герой воплощает то идеальное ядро личности, ее чистую духовность, которые замутнены в действительности. Принц идеален, будущий святой — нет. Осуществимы ли в этом втором случае государственная мудрость, желание справиться со злом и испорченностью без грубой, кровавой жестокости?
В письме к Лингу от 2 мая 1880 г. Майер писал о главных персонажах новеллы:
“1. Характер Томаса Бекета: 1) восточное происхождение (здесь мной использована легенда); 2) высшая культура и отвращение к своему грубому времени; 3) высший разум и вместе с тем, как у сакса и мавританина, чувство угнетенности и потому дипломатия; 4) человечность, нравственная чистота, благородство натуры; 5) честолюбие или чувство чрезвычайного духовного превосходства; 6) загадочность; я не хочу сказать, что он мстителен, но по отношению к пороку и насильничеству — утонченная жестокость…
2. Характер короля составляет прямую противоположность: сильная натура, добродушие, наивность, совершенная безнравственность... Он считает, что постиг своего канцлера, но постоянно в нем обманывается”.
Эти характеры, гораздо более богатые в самой новелле, взаимодействуют сначала мирно (канцлеру удается предотвратить жестокость короля, стать воспитателем его детей), потом — придя в резкое столкновение. Как говорится все в том же письме: “Конфликт: король безрассудно губит дитя Бекета” — его красавицу-дочь Грацию.
История о том, как король вошел в случайно попавшийся ему на охоте замок, как он, не задумываясь, овладел смиренно отдавшейся и полюбившей его девушкой, история, вскоре кончившаяся ее гибелью, написана с истинным трагизмом. В душе Бекета навсегда осталась смертельная рана. Эти страницы швейцарского классика напоминают трагический узел лучшего романа Л. Фейхтвангера “Еврей Зюсс”, герой которого тоже прятал любимую дочь, загубленную, несмотря на его осторожность, не знающей запретов силой.
Но главный интерес автора был сосредоточен все-таки не на этом. Драматическое развитие событий подвело героя к потрясению. Рассказчик Ганс запомнил время сковавшего его тогда ожидания: наступила пауза, остановка, неведомо было, что произойдет, хотя ясно было, что произойдет ужасное.
Подобная минута оцепенелого ожидания есть во многих произведениях Майера. Жизнь будто дает человеку время подумать, отступиться от зла. В “Еначе” это минута, когда герой почтительно склоняется к руке герцога и смотрит ему в глаза. Еще ничего не выявилось, но в душе героя свершился переворот. Во многих новеллах Майера состояние неразрешенности тянется дольше. В новелле “Женитьба монаха” (“Die Hochzeit des Monchs”, 1884), где превращение героя запечатлено самим названием, оно занимает часы, проведенные сыном у постели умирающего отца. Отец требует, чтобы сын сбросил рясу. Последний тверд, “стоит и не меняется”, и эта внешняя неподвижность и оцепенение длятся до тех пор, пока он не кричит вдруг: “Делайте со мной, что хотите!”. В “Святом” это время еще дольше.
Майер умел показать человека, исковерканного обстоятельствами, по сути уже мертвого, но еще ходящего по земле. Такое состояние — драматический центр новеллы “Искушение Пескары” (“Die Versuchung des Pescara”, 1887). Как признавал сам автор, действия в ней, в сущности, мало, она статична. Напряжение рождается из того, что все ждут от полководца Пескары решительного вмешательства в ход истории (искушение и состоит в том, что испанскому военачальнику обещают неополитанскую корону, пытаясь переманить его на сторону противника — Италии). Пескара же, о чем никто не знает, страдает от незаживающей раны, он уже не совсем тут, дни его сочтены. Рисуя буквальное присутствие смерти в жизни, Майер развивал тему трагедии Клейста “Роберт Гискар” (1808), где тоже действовал ходивший мертвым среди живых полководец. Но мертв и его Томас Бекет, мертв, хотя ни чума, ни меч его не настигли.
Майер был глубоким психологом. Но психологизм у него особый. Писатель, как говорилось, куда меньше погружен во внутренний мир своих героев, чем Достоевский. Он не занят, как Лев Толстой, постоянным сопоставлением того, о чем говорит человек, с тем, что он в это время думает (сцена суда из “Воскресения”). Майер сосредоточен на внутренней жизни, как она проявляется в поступках. Описание внутренних состояний дается редко. Его новеллы глубоко отличны от того основанного на анализе психологических состояний повествования, которое составило суть реалистической новеллы второй половины XIX в. (Тургенев, Мопассан). Лишь по поступкам майеровских героев видно, как жизнь заставляет изгибаться человека. Героев Майера можно счесть предшественниками всех тех неустойчивых персонажей, которых, породила литература на рубеже ХIХ-ХХ вв. Но и тут сходство неполное: герои Майера еще сохраняют внешнее достоинство и спокойствие. Они будто прочно стоят на ногах. Ровная ясность стиля укрепляет это впечатление.
Ганс в новелле “Святой”, как говорилось, ждет, что произойдет ужасное. Но не происходит ничего. Лишь позднее Бекет отказывается от должности воспитателя, а когда король навязывает ему сан епископа Кентерберийского, спрашивает, уверен ли он в нем? За-метны лишь изменения внешние, за которыми должны угадываться изменения внутренние. “Сверхчеловечески умный” царедворец, изысканным одеяниям которого подражали все молодые дворяне, превратился “вдруг” в аскета с запыленными босыми ногами, одетого в рубище, подпоясанного вервием. Именно с этого момента проясняется историческая широта новеллы, намеченная раньше. Ведь и Хильду, дочь оружейника и невесту Ганса, сгубил приближенный короля аристократ-нормандец, а сама она была из угнетавшихся после нормандского завоевания англосаксов. Замкнутое в себе, почти сказочное пространство — спрятанный в глубине лесов маленький замок, восточная девушка, почти еще девочка, подрастающая под надежной охраной, — соединяется с картиной гораздо более широкой. Епископ окружает себя угнетенными, нищими саксами и вместе с ними является во дворец.
Если бы Майер углубился в личные переживания героя, придав им главное значение, он бы, несомненно, сузил поле своего повествования. Скрыв их, проявив только в поступках, он поставил их в естественную связь с кровавой несправедливостью мира и английского королевства, в частности. Конфликт и шире и глубже, чем его определил в процитированном письме автор. Есть, однако, в новелле момент, когда кипение чувств проявляется с неодолимой силой. Возвратившийся из изгнания канцлер встречается с королем, страстно и нетерпеливо его ожидавшим. Они идут навстречу друг другу, губы короля тянутся к герцогу. Ритм рассказа мучительно замедляется. Должен последовать поцелуй примирения — порыв со стороны короля, безусловно, искренний, но не находящий ответа.
Енач поцеловал руку преданного им герцога. Бекет поцеловать короля не может. “...Сир Генрих уже не в силах был больше сдерживаться: вытянув губы, он приблизил свое опухшее, со следами разрушения, лицо к изможденному святому лицу канцлера. Лицо моего короля было безобразно, отталкивающе, но вместе с тем столь трогательно и преисполнено такого страстного влечения, как будто сир Генрих жаждал вкусить святого причастия. Что тут случилось, что произошло в душе канцлера, — кто может это сказать?” Очевидно, предполагает рассказчик дальше, “сочетание безобразия и вожделения напомнило ему об убийстве его дочери...” Он с омерзением отвернулся. Как сказано в стихотворении Майера по другому поводу: “И между губами для смерти врата…”.
Но автор и тут не отдает нравственное превосходство одной стороне. В короле он замечает добродушие, искренность. В канцлере — коварство и злобу. Решающие поступки у Майера всегда содержат двойной смысл. Епископ оправдывает себя тем, что даже Христос, поцеловавший Иуду, не смог бы поцеловать осквернителя своей дочери. Но конец его жизни и сама трагическая его гибель окрашены высокомерием. Почти желая мученического конца, он так мстит королю за его преступление. На устах поверженного Ганс видит улыбку, двойственный смысл которой важен автору. Король же, каясь со свойственным ему прямодушием и даже бичуя себя на могиле святого, также не обретает мира. Он нравственно и физически разрушен.
Последней ясности и достичь нельзя, всегда остаются, говорит Ганс, “необъяснимые вещи”.
В новелле “Святой” отразились многие идеи, характерные для времени ее создания. В те же годы появлялись работы Ницше, подрывавшие доверие к высоким порывам («Человеческое, слишком человеческое”, 1877). Майер, несомненно, был знаком с ними16. Важны для писателя и те позитивистские интерпретации жизни Иисуса Христа, некоторыми из которых он увлекался в юности (Д. Штраус, “Жизнь Иисуса”, 1835-1836; Ж. Ренан, “Жизнь Иисуса”, 1863). Но работая над “Святым”, он тем не менее, по его признанию, боялся “потерять остатки веры” (письмо к Кинкелю 16 марта 1879 г.). За фигурой Томаса Бекета в новелле неоднократно встает образ другого невинно казненного, Иисуса. По существу, Майер размышляет в новелле о человеческом в христианстве, и самом Христе, о возможности объяснения восшествия на крест мотивами людскими.
Придирчивый Готфрид Келлер попрекнул как-то Майера тем, что тот любил изображать великих людей. Но выбор героев давал Майеру особые возможности.
Жизнь для Майера — это прежде всего история, ею он мерит и настоящее. В истории Майер находил ясность определившихся отношений. При всей индивидуальности нарисованных им характеров, они представляли еще и повторявшееся в разные эпохи, обще-человеческое17. Можно обнаружить в них отзвуки современных автору проблем или (еще один пласт содержания) выражение его личных переживаний и обстоятельств. Но все это поднято на новую высоту, отстранено от текущего и частного, представлено в его общем значении. Именно это определяло и выбор героев: у Майера это всегда крупные личности, поступки которых отражаются в жизни людей. Ведь простодушие, необузданность, наивность и совершенная безнравственность его короля, именно потому, что он король, имели следствием не только гибель Грации и епископа Кентерберийского, но и угнетение, позор, неравенство сбившихся вокруг Томаса англосаксов, и море крови, пролитое королем и его баронами. Совершенно другую политическую роль играют человечность и благородство.
Сталкивая короля и Томаса Бекета, автор размышляет о разных возможностях власти: править насилием и кровью или мудростью, убеждением и свободой. Не все и тут прояснено до конца. Недаром образ Томаса, этого “умнейшего человека своего времени” не лишен романтической загадочности. История, по убеждению Майера, непредрешаема и многоосмысленна. Но ее темный и светлый лики писателем обозначены.
Майер рассказывает истории кровавые и трагические. Злодеяния, кровь, убийство есть и в новелле “Страдания мальчика” (“Die Leiden eines Knaben”, 1883), где жертвой отцов-иезуитов и своих ровесников-аристократов становится подросток, не наделенный изощренностью разума, отчего его прозывают в новелле, быть может, не без памяти о Достоевском, belle idiot. И особенно в заключившей прозу Майера новелле “Анджела Борджа”.
Но есть у писателя и другие краски. Он в совершенстве владел искусством отстраненной иронии, позволявшим ему показать, что Томас Бекет — далеко не святой, а Йорг Енач — не только герой. Майер не погружается в месиво исторической жизни, сохраняет дистанцию по отношению к изображенному, а, вместе с тем, и незамутненную ясность взгляда. Автор стоит высоко над своими фигурами. Владеет он и комизмом, позволившим ему, к примеру, рассказать в новелле “Смерть монаха” о палаче Абу-Мохаммеде, относившемся к своим жертвам “деликатно”. И непосредственной веселостью, отличающей такие его новеллы, как “Выстрел с кафедры” (1877), “Плавт в женском монастыре” (1881) и “Паж Густава Адольфа” (1882).
Автор не слишком высоко ценил эти свои новеллы, считая шуткой и пустяком особенно первую. Он сознавал, что в бытописании ему не сравниться с “нашим мастером № 1 Готфридом” (письмо Ю. Роденбергу от 14 декабря 1887 г.). Старый чудак полководец Вертмюллер (историческая фигура, упоминаемая и в “Еначе”), как и его родственник пастор и коллективный портрет жителей вымышленного местечка Мификон на Цюрихском озере описаны в новелле “Выстрел с кафедры” с убедительной пластичностью и юмором. Но Майер боялся, что его Вертмюллер бледнеет в сравнении с полковником Соломоном Ландольтом — героем одной из вышедших в свет в том же году “Цюрихских новелл” Келлера.
Главная причина, однако, не в этом. В собственных комических новеллах Майеру недоставало порой всеобщего плана, всеохватывающих общечеловеческих значений. Больше, чем в других его произведениях, смысл оставался в пределах непосредственно описанного. В наибольшей степени это относится к новелле “Выстрел с кафедры” (“Der Schuß von der Kanzel”). В названии фиксируется характерное для Майера соединение несоединимого. Но происшествие остается в рамках анекдота: пастор, страстный любитель охоты, невзначай нажимает, едва закончив проповедь, курок опущенного в карман сутаны пистолета, что вызывает гневное возмущение прихожан. Ханжески настроенные соотечественники обвиняли автора в насмешке над церковью. Но ясно, что автор был занят лишь легкой критикой обывательских нравов, а не серьезными размышлениями о церкви и религии. В новелле отсутствовало то, что он сам считал главной своей силой — “широкий гуманистический фон связи маленькой жизни с жизнью и борьбой человечества” (письмо к Ф. Вилле 14 декабря 1877 г.)
Главная сюжетная ситуация в “Паже Густава Адольфа” (“Gustav Adolfs Page”) тоже восходит в удивительному происшествию, неоднократно обрабатывавшемуся литературой, — офицерский мундир скрывает отправившуюся воевать девушку. Но на этой основе вырастает ряд общих значений, гораздо более заметный, чем в “Выстреле с кафедры”. Речь в новелле идет об опьянении жизнью перед лицом смерти, о верности и предательстве, о справедливости и соблазне власти, о нравственной строгости и вседозволенности. Действие развивается в годы Контрреформации, на излете большой эпохи, на переломе времен, когда будто сама история стояла перед выбором.
Мастерски построенная новелла “Плавт в женском монастыре” (“Plautus im Nonnenkloster”) так же, как и другие, озарена радостью жизни. Гуманист Браччолини Джовани Франческо (Поджо), живший на рубеже ХIV-ХV вв., сочинитель сатирических новелл и анекдотов, — лицо, которое ведет рассказ для развлечения собравшийся знатных флорентийцев. Хитрый придворный и скептический участник вселенского Констанцского собора, Поджо одержим страстью собирательства античных рукописей. Выдержанная в стиле фацетии новелла Майера повествует о том, как с этой именно целью, но под видом “инспекции” Поджо попадает в женский монастырь, где властвует прожженная бестия настоятельница Бригитта. (Реальный Браччолини Джовани Франческо инспектировал знаменитый монастырь Санкт-Галлен, в башне которого обнаружил полусгнившие рукописи).
В комических новеллах Майера продолжает по-своему действовать тот же закон воплощенного противоречия, который ясно проявлялся в “Еначе” или “Святом”. В “Паже Густава Адольфа” облик человека двоится (в обличии пажа скрывается влюбленная девушка), а кроме того, появляются люди, напротив, роковым образом похожие друг на друга, чуть ли не двойники, что влечет за собой драматические последствия.
В новелле “Плавт в женском монастыре” двоятся предметы. В церемонию пострижения входит несение креста такой неимоверной тяжести, что его не могут поднять несколько мужчин, но легко несут “благодаря помощи пречистой Девы” постригающиеся. Но вместо одного креста скоро обнаруживаются два, совершенно похожих друг на друга, один из которых, однако, легкий. Благодаря действиям Поджо крестьянской девушке Гертруде, постригшейся в монахини, пришлось поднять не предусмотренный легкий крест, неизменно увеличивавший население монастыря, а крест тяжелый, который сильная девушка не смогла снести, несмотря на честные усилия. Осуществляется ее тайное желание — остаться в миру, работать на земле, рожать детей.
Все три главные действующие лица новеллы благополучно выходят из трудной ситуации. Бригитта, которой Поджо грозит осуждением Констанцского собора, лишившись возможности повторять в будущем “чудо”, все же остается настоятельницей монастыря. Поджо получает то, чего страстно хотел — изгнивавший в монастыре список Плавта. Гертруда идет к своему избраннику.
Но, как и в “Паже Густава Адольфа”, сюжет не исчерпывает богатство смысла. Не сюжет, а характеры несут в себе ясно уловимое общее значение. Прежде всего это значение историческое.
Бригитта, писал, комментируя новеллу, Майер, олицетворяет “озверение низшего духовенства в эпоху, предшествовавшую Реформации” и своей “животной грубостью” противостоит “изящной лживости” Поджо (письмо к Ф. фон Вису 25 июня 1882 г.). Человек нового времени Поджо не менее опасен: его цинизм грозит превратиться по “закону нарастания” в “разбой на дороге”. Но так ли идеальна в глазах автора крестьянка Гертруда, с которой он связывает в своих объяснениях замысла нравственный заряд приближающейся Реформации? — Совестливость и прямодушие соединяются в ней с неразвитостью. Она представляет еще и грубую силу немецкого и немецко-швейцарского мира, противостоящего праздничной и утонченной культуре юга.
Есть у К. Ф. Майера часто употребляемое им понятие “тон” — тон жизни, тон души человека. Человеку отнюдь не “все дозволено”. Он должен не только следовать законам и заповедям, но и соотносить их с “тоном”, “красками” (и это тоже слово писателя) своей души. Что-то он вправе сделать, перед чем-то должен остановиться. Но границы и пределы разные. Слишком прост суд, по которому Томас Бекет — святой, а Юрг Енач — предатель. Многие исследователи видели в судьбах героев Майера проявление роковой силы, отзвук учения Кальвина о божественном предопределении, управляющем поступками человека. Свободного выбора не остается. Высшая воля правит судьбой человека. Отзвуки этой идеи и в самом деле сильны, особенно в позднем творчестве Майера.
Но и натура мощный определитель поступков майеровских героев. Суд автора над героями с разными “красками души” различен. Юрг Енач равно способен на героизм и предательство не только из любви к родине и исторической необходимости, но и потому, что это — не без разрушительных для нее последствий — разрешает ему его страстная натура, ее “основной тон”. Согласно велениям своей души действует герцог Роган. А святой Томас не может переступить через человеческое и поцеловать надругавшегося над его ребенком. Человек, разорванный противоречиями, превращающийся из одного в как будто бы совершенно другого, у Майера еще и един, целен, если сохраняет верность себе, своей “краске”.
***
В 1887 г. Майер тяжело заболел. Долгая болезнь стала началом конца, спада его физических и творческих сил. После выздоровления Майер с трудом, хотя и не без увлечения, довел до конца лишь один свой замысел — новеллу “Анджела Борджа”, в которой заметен упадок его дара.
Творчество К. Ф. Майера не раз связывали с эстетизмом рубежа ХIХ-ХХ вв. Особенно резко эта точка зрения была выражена Ф. Баумгартеном в его опубликованной еще в 1917 г. блестящей, но не во всем справедливой книге18. Баумгартен определяет творчество Майера как “ренессансизм” (Renaissancismus). Имелось в виду не только многократное обращение писателя к эпохе итальянского Возрождения («Плавт в женском монастыре”, “Свадьба монаха”, “Искушение Пескары”, наконец, “Анджела Борджа”), но и ренессансные отношения искусства и жизни. Исполненные кипением страстей, представленные будто крупнее, чем в натуральную величину, герои его новелл (Томас Бекет, Судья, Пескара, Анджела Борджа) связаны с Ренессансом не только хронологически, но именно своей значительностью, масштабами личности. Это как будто те самые крупные личности Возрождения, которые принесла с собой Новая эпоха. Потребность в таких людях, точно отмечал Баумгартен, отличала и иное время — время стремительного развития капитализма. Сильная личность в разных ее ипостасях появляется не у одного Майера, но и в драмах Ибсена, и под пером Ницше. Блестящие работы историка культуры Якоба Буркхардта, хорошо известные Майеру, посвящены не только культуре, но и людям Возрождения. Однако духовный подъем давней эпохи не мог стать живым содержанием эпохи новой. Не только Возрождение, но и другие давние времена стали заимодавцами недостававших современности духовных богатств. Именно такие отношения с прошлым и текущей действительностью были характерны для Майера и спустя небольшой срок — для всего европейского эстетизма 90-х — 900-х гг.
В творчестве самого Майера следствия подобного отношения к жизни с наибольшей определенностью проявились к концу пути. Чем ближе к концу, тем безжизненнее оказываются его персонажи. Герои Майера будто смотрят со стороны на собственную свою судьбу.
Показательно, что в последней своей новелле, несмотря на слабеющие силы, Майер, несомненно, ставил перед собой задачу дать более глубокие психологические характеристики. На исходе жизни он будто хотел испробовать еще одну возможность, которая сблизила бы его творчество с аналитическим психологизмом современной ему прозы.
Сюжет новеллы “Анджела Борджа” давал для этого богатые возможности. Не названная в заголовке вторая ее героиня Лукреция Борджа, дочь папы Иоанна XXIII, виновная в гибели своего второго мужа и пылавшая преступной страстью к своему брату Цезарю Борджа, показана автором в тот момент, когда во главе роскошного шествия, она вступает в Феррару, заключивши новый брак с герцогом Альфонсом д’Эсте, который, наконец, смирит ее преступные порывы. Надежды эти оказываются тщетными. Сильная и умная красавица не в силах справиться со вновь вспыхнувшей страстью. Однако, как и в прежних новеллах, буря страстей героини проявляется прежде всего в поступках. Тайные движения души от читателя скрыты, а то, что можно принять за “внутренний монолог” (так реализовалась попытка психологизма) на самом деле представляет собой размеренное авторское изложение мыслей героини. Как всегда у Майера, характеры очерчены ясно, но скупо. Намечены главные черты, часто противоречащие друг другу и так обозначающие сложность человека. Если темные страсти в добродетельной Анджеле Борджа едва обозначены, то автор многократно подчеркивает несомненные достоинства — красоту, ум, рассудительность — злодейки Лукреции. Этой героине свойственно отстраняться от совершенных ею преступлений и каждый день начинать невинной, будто родившись заново. “Виновно-невинная”, — говорит о ней автор.
Центральные персонажи втянуты в события бурные и кровавые. Но, как написал о новелле один из первых рецензентов, “бушующее море будто усмирено слоем нефти»19. Оргия Ренессанса — блеск красок, немыслимая роскошь, буря страстей — все это видится со стороны, а не изнутри, заключено, как картина, в раму.
Баумгартен полагал, что позиция Майера — это позиция стороннего зрителя. Особого рода пластичность, предметность его описаний он считал следствием отстраненности автора от нарисованных им образов. “Майер изображает людей как будто бы это портреты”. Или еще: “Искусство освобождает от страдания и превращает его в красоту”20. “Ренессансизм” Майера полностью совпадает, по Баумгартену, с эстетизмом. В его искусстве он не видел живой муки, не видел заинтересованных размышлений над движением современности.
Но даже и последняя новелла Майера, с ее несомненными слабостями — чрезмерностью красоты, мелодраматическими эффектами, идиллической развязкой — несла в себе живой смысл, соотносилась как с судьбой автора, так и с современной ему европейской действительностью. В 1892 г., незадолго да вновь надвинувшегося на него психического заболевания, он говорил о последней своей новелле как о пророческой. Быть может, скрываясь за ликом заточенного в “старую башню” Джулио д’Эсте, он отчасти предчувствовал и собственное близкое будущее? Ведь все новеллы Майера так или иначе несли в себе след собственной его судьбы. Как и “Гуттен”, они лиричны. Страдания непонятого, отстраненного от жизни мальчика — что это как не косвенное, в костюмах иного века, отражение собственной его участи (“Страдания мальчика”). Так и Пескара, не участвующий в событиях, вынужденный смотреть на происходящее со стороны, — это и воплощение давней боли самого автора, его тайный автопортрет.
Но пророческой последняя новелла Майера может быть сочтена и в другом отношении. По собственным его словам, он сумел показать бесчеловечное и ужасное “во вполне человеческом обличии” (письмо неизвестному адресату 5 августа 1891 г.). Он показал естественную совместимость немыслимого и нормального, столь характерную для будущего Европы. Именно этого рода естественность отличает его обворожительную Лукрецию Борджа, начисто лишенную такого человеческого качества, как совесть. Последняя новелла Майера была произведением столь же проблемным, как и остальные его произведения.
***
Поэзия К. Ф. Майера — а он был одним из крупнейших лириков в швейцарской и всей немецкоязычной литературе второй половины XIX в. — связана с его прозой не только “сюжетно” (отзвуки новеллы “Святой” легко заметить, например, в таких его стихотворениях, как “Гильберт” или “Два слова”), но и едиными законами творчества. Его стихи отличает та же сдержанная отстраненность, что и его прозу. Как и в прозе, однако, эта отстраненность отнюдь не равна бесстрастной описательности. Множество своих баллад Майер посвятил великим людям, показав их в решительные моменты их жизни (“Камоэнс”, “Умирающий Кромвель”, “Месть Мильтона”). Склонность автора к изображению впечатляющих ситуаций осуществилась тут в полной мере. Но за немногими исключениями, каким является, например, его замечательная баллада “Ноги в огне”, Майер не добился значительных результатов в этом роде поэзии. Баллады Майера уступают не только шиллеровским, но и балладам Уланда. Как писал Гуго фон Гофмансталь, уже после смерти швейцарского классика, “стремление оживить историю” приводит в его балладах “к едва выносимому втискиванию событий” в стихотворные строчки21.
Лучшая часть поэтического наследия Майера — его лирика. Сдержанная отстраненность чувствуется и здесь. Он не продолжил ту богато разработанную линию в поэзии, которую именуют “лирикой настроения”. В лирических стихах Майера нет непосредственности. Самые совершенные его стихи — это субстрат когда-то пережитого и передуманного, не потерявшего связь с личным, но поднятого до значения всеобщего, почти символического. В лирике Майера говорится о смерти, разлуке, вечности, неуловимой тайне бытия. Но все это не выражено в словах, а “разлито” в поэтической ситуации, запечатлено в четких контурах предмета. Майер, несомненно, продолжил традицию парнасской объективности, поэзии Готье, Леконта де Лиля, Эредиа. Из немцев ему ближе всего Август Платен.
Но если парнассцы и Платен стремились остановить текущее, навеки запечатлеть мимолетное в строгих строках стихотворения, то ситуация и предметы в стихах Майера полны взрывающего статику внутреннего напряжения. В неподвижности у него заключена изменчивость, в нейтральной предметности, как позже у Рильке, — живой общий смысл. В поэзии Майера нет разрывов между великим и малым, конкретным и отвлеченным, простым и сложным. Все спаяно, связано, одно скрывает лишь постепенно открывающееся другое. Поэт часто начинает с простого воспоминания или картины, чтобы затем, все больше обнажая сердцевину смысла (как строятся и его отвечающие на изначальное недоумение новеллы), превратить все те же воспоминание, предмет или картину в символ, всеобщее, вечное. Примером может быть стихотворение “Римский фонтан”, где совершенная графическая четкость не мешает тому, чтобы взлеты и переливы струй стали одновременно и символом вечности. Нарастание общего смысла отчетливо в стихотворении “Следы”. Конкретное мгновение почти буквально встречается здесь со своим отблеском в будущем. Поэт идет с молодой возлюбленной по дождливому лесу. Она говорит о предстоящей разлуке. На обратном пути он видит отпечаток ее шагов на мокрой земле. И начинается будто двойное движение: маленькие следы, “нечто нестойкое и все же ты” движутся ему навстречу. Возлюбленная предстает уже как воспоминание, как образ сознания. Все сказанное превращается чуть ли не в символ трагической быстротечности жизни: отпечатки на земле исчезают, сглаживаются, “почти на моих глазах исчезают следы последней дороги с тобой”. Как и в новеллах, Майер был занят выяснением “загадки”, содержащейся в этом лирическом сюжете, обнаружением его высшего смысла. Это стихотворение, так же как “Умершая любовь”, “Два паруса” и многие другие, отличает, как писал Гофмансталь, даже не совершенство, а некая большая, сокровенная тайна поэтического мастерства22.
***
Стихи и проза Конрада Фердинанда Майера несут в себе ясный отпечаток его судьбы и его эпохи. При всем их своеобразии его произведения характерны и для определенного этапа в общем литературном развитии. Творчество К. Ф. Майера это усталый реализм, классический реализм на его излете. Героическим напряжением всех своих сил Майер достиг впечатляющих художественных результатов. Он умер в 1898 году, проведя последние свои годы в состоянии душевного помрачения и полной изоляции от мира.













Поділитися