«Простая пьеса» Жана Ануйя
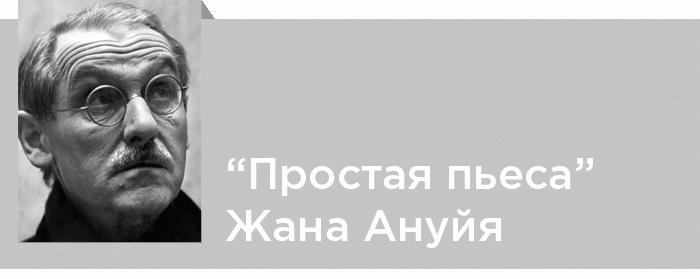
И. Соловьева
За последнее время наш читатель получил перевод четырех пьес современного французского драматурга Жана Ануйя. Три из них — «Ужин в Санлисе», «Антигона» и «Медея» — составили сборник, выпущенный в 1958 году «Иностранной литературой». Четвертая, «Жаворонок», опубликована недавно издательством «Искусство».
Ануй отдает новую пьесу в театр приблизительно раз в год. Он замечает сухо: писатель, взявшийся поставлять нужный актерам ежевечерний материал, обязан выполнять эти поставки. «Если же ненароком выйдет шедевр, — тем лучше». Ануй боится высоких слов насчет профессии драматического поэта. Он вообще боится высоких слов. Они претят ему и преследуют его; его пьесы кишат словоблудниками, чьи тирады равно лживы и традиционны. Буржуазное бытовое фразерство пользуется словарем школьного красноречия. Устраивая домашнюю сцену, устраивают действительно домашнюю сцену; когда в пьесе «Жил-был арестант» ждут возвращения Людовика после пятнадцатилетнего одиночного заключения, кажется, будто домочадцы пятнадцать лет готовили свой выход в картине возвращения блудного сына. Отцу приличествуют грим и ритмы трагедии: кажется, готов зазвучать корнелевский стих, когда он осыпает Людовика укоризнами («Старый Гораций», — умиленно замечает кто-то). Жена, Аделина, открывает возвратившемуся свои всепрощающие объятия — она в образе героини мелодрамы. Она приносит мужу свою безукоризненность и свою косметику: на ресницах фиолетовая тушь, морщины подтянуты у лучшего хирурга. Родич встречает бывшего арестанта в амплуа добродушного деляги из бытовой комедии: он готов поставить крест на прошлых прегрешениях зятя и ввести его в текущие коммерческие дела... Единственный человек, с кем можно чувствовать себя попросту, — это шокирующий приличное общество спутник Людовика, каторжник с отрезанным языком...
Возвращение блудного сына, капитуляция блудного сына — мотив, такой же постоянный у Ануйя, как мотив бегства блудного сына. Окружение героя — чаще всего это его семья — торопит необходимость бегства: с такими пропадешь, испакостишься в два счета. Такова семья Жоржа из «Ужина в Санлисе». Папа — транжир, любитель хороших сигар, театрал и болтун; мама без единой сединки, поддерживаемая усилиями массажистки экстравагантная пошлячка; друг Робер, прихлебатель и циник, для которого ничто не тайна в нем самом и в его приятеле, который одолжается у Жоржа тем нахальнее, чем очевиднее, что Жорж живет с его женой... Такова семья Марка из «Иезавели»: снова папа, щиплющий горничных, разглагольствующий о своей несчастной жизни, пьющий аперитивы, планирующий свое будущее как будущее свекра миллионерши, благо в Марка влюблена девушка с несметным состоянием (кстати, таковы обстоятельства и в «Ужине в Санлисе» — семья Жоржа заставляет сына оставаться в супружестве, поскольку его жена, Анриэтта, содержит в роскоши всю эту ораву). Снова мама, не желающая считаться с годами, в канареечном пеньюаре, накрашенная, скандальная, полупьяная...
«Ужин в Санлисе» — из череды «розовых пьес». «Антигона», «Медея», «Иезавель» — из тома «черных пьес». «Жаворонку» автор не дал места ни среди «розовых», ни среди «черных», ни среди «блистательных», ни среди «царапающих» драм (по авторским подзаголовкам). «Жаворонок» существуете творчестве Ануйя обособленно. Это очень серьезная и простая пьеса.
Сюжет ее хрестоматиен: рассказ о Жанне д’Арк, вернее конец его — суд и казнь. Жанне предлагают рассказать о себе, и по мере надобности на сцену выходят участники тех эпизодов, о которых она вспоминает: ее родители, дуралей Бодрикур, над которым Жанна одерживает свою первую победу, король и его придворные, добродушный зверюга солдат Ла Ир. Тут же постоянно присутствуют ее судьи и обвинители.
Ануй в «Жаворонке», кажется, впервые обращается непосредственно к историческому материалу. Вообще же взаимоотношения Ануйя с историей достаточно остры и парадоксальны. Время действия его пьес обычно бывает размыто.Он свободно накладывает образ библейской погибельной царицы Иезавели на образ современной буржуазки — отравительницы из-за сотни франков, которые вымогает у нее проворовавшийся любовник. В «Антигоне» о ссорах в доме Эдипа рассказывается так, как говорят о семейных сценах в квартире, обставленной патриархальной плюшевой мебелью с бомбошками. Кормилица в финале «Медеи» толкует о вине и о видах на урожай в тех же выражениях, в каких вели бы степенный разговор крестьяне тысячу-другую лет спустя.
Это не театральное представление древности в современных костюмах. Ануй одержим кошмаром буржуазности. Мы уже говорили, что его герои пытаются бежать от этого мира бонвиванов, бездельников, от любострастия и от розовых туалетов старух. Но круг очерчен. Приемная дочь героя «Жил-был арестант», которую тошнит от пятидесятилетней неувядаемости и пятидесятилетнего жантильничанья ее матери, ищет укрытия в лоне добропорядочнейшей семьи жениха: она хочет рожать каждый год, носить нитяные чулки, по вечерам записывать расходы и вязать. Неестественности, фальши матери ей нечего противопоставить, кроме такой вот естественности. Когда же решение героев Ануйя о побеге более круто — как в «Ромео и Жанетте», в «Эвридике», в «Иезавели», — герои обнаруживают свою зараженность той средой, из которой вырвались. Юноши, которым омерзительны их родители-буржуа, тем острее переживают приступ омерзения, что в пакостниках отцах они видят собственное будущее. Антибуржуазный порыв героев — это возрастное явление, кризис совершеннолетия.
Буржуазность, ненавистная Ануйю, теряет у него свою социальную и временную определенность. Она становится категорией извечной. Она толкуется как искомое свойство человеческой природы. Именно отсюда — а не от театральной причуды — взаиморастворение времен в пьесах Ануйя. Нескончаемое вязанье тянется из-под спиц жены Креона в «Антигоне», кормилицы в «Медее», матери Жанны в «Жаворонке» — и точно так же хочет шевелить спицами, ни о чем не думая, Мари-Анна из «Жил-был арестант». Люди извечно поглощены своими занятиями, и занятия примерно те же; людям извечно дело только до себя. Вокруг героинь Ануйя, решающихся на подвиги, — бескислородная среда буржуазности, она гасит горение. Да и самый подвиг — это прежде всего бегство из жизни, потому что у Ануйя жизнь и буржуазность оказались трагически приравнены друг к другу...
В «Жаворонке» Ануй ломает это установившееся в его драматургии ложное тождество. Здесь жизнь и подвиг, воплотившиеся в Жанне, — заодно; заодно — против эгоистической стихии буржуазности.
Идет процесс Жанны д’Арк. О победах, одержанных ею, поминают только в пунктах допроса. Результат сделанного практически почти стерт, англичане рассчитывают в малый срок покончить с французскими неполадками. Король, которому хочет служить Жанна, всячески отнекивается от этого служения. Задачу наделить Карла VII мужеством — этого добивалась Жанна — выполняет хорошенькая Агнеса, обучая короля быть мужчиной для начала хотя бы в постели. И в ходе процесса обвинитель обратится к Орлеанской Деве с вопросом, взятым из подлинных протоколов руанского судилища, но многозначительным в ануйевской драме: «Неужто тебе не кажется, что лучше бы тебе сидеть за шитьем и вязаньем возле матери?»
В «Жаворонке» говорится и о том, что голоса, которые звали Жанну к подвигам, не такая уж неслыханная штука. Почти в каждой деревне найдется девочка, переживающая то же самое. Это, поясняют в суде священники, возрастное явление. Вроде кори. Иногда это затягивается, но рано или поздно «мирно тонет в помоях за мытьем посуды», заглушается писком первенца... И вся единственность, вся необычность истории Жанны д’Арк — в одном: она не только слышала голоса, она сделала то, что они велели. «В один прекрасный день голоса сказали тебе что-то иное, что-то ясное...» — «Да, они велели мне спасти королевство Франции и выгнать англичан».
«Жаворонок» вводит те простейшие мотивировки подвига, которые до сих пор Ануй отсекал в своих драмах. Когда Жанну спрашивают, ради чего она совершала свои деяния, она пожимает плечами: «Раве так уж трудно понять?» Жанна не вздумает повторять ответ Антигоны: «Ни для кого. Для меня». Она жила хорошо, англичане никогда не заходили в их село, а о таких сложностях, как героическое самоутверждение, мужичка Жанна не рассуждает. «Так надо было», — упрямо толкует она и вкладывает в свое «так надо» самый простой смысл. «Вы ученые, вы слишком много думаете. Вам уже не понять простые вещи, понятные самому глупому из моих солдат». Вот ради этой цели, понятной самому глупому из солдат Жанны д’Арк, ради того, чтобы спасти родину, было сделано то, что было сделано Девой. И сделанное неотъемлемо — даже тогда, когда практические результаты кажутся разбитыми.
Осмысленному, простонародному подвигу Жанны приходится проламываться сквозь толщу буржуазности во всех ее проявлениях — от простейшей, «естественной» буржуазности, воплотившейся в папаше д’Арк, который молотит дочь кулаками. «Спасти Францию? Спасти Францию? А кто в это время будет пасти коров?.. Спасать, видите ли, Францию, когда наконец подросла и может помогать по хозяйству?.. Я тебе покажу, как спасать Францию!..» После отцовских побоев Жанну, как ребенка, берет на руки мать, баюкает: «Ты все равно моя маленькая, та же, что так долго ходила за мной, ухватившись за мою юбку... И всегда я давала тебе либо морковку натереть, либо вымыть тарелку, чтобы ты все делала, как я...» Надо пойти и против матери, нарушить скромные заповеди домашности, заповеди тихого ничтожества, оберегающего от ответственности. Жанне и ее подвигу приходится проламываться и через разумность политики, для которой — выкладки не лгут — победы разорительны, а капитуляция обеспечивает удобства. Жанне приходится столкнуться и с буржуазностью, облаченной в скепсис, с цинизмом короля, предпочитающего презирать себя: оно не хлопотно... И, наконец, столкновение с одним из самых страшных воплощений буржуазности: с безразличием, отравляющим массу. Когда Жанну стращают концом, ее пугают не только охапками хвороста, готовыми вспыхнуть: «Ты слышишь шум? Это толпа, ожидающая тебя с рассвета. Люди пришли спозаранку, чтобы занять места получше. Они закусывают принесенной из дому пищей, журят детей и шутят меж собой, спрашивая у солдат: «Скоро ли начнется?» Они не злые. Эго те же, что пришли бы восторженно тебя приветствовать, если бы ты взяла Руан. Но события повернулись иначе. Вот они и приготовились смотреть, как тебя сожгут...»
Жанну уговаривают отречься, покаяться. Она подписывает — как оно и было в действительности — свое отречение. Это всех устраивает. Устраивает председательствующего Кошона, которому не хочется под старость лишний раз пятнать себя кровью. Устраивает элегантного британского вельможу, инспирирующего процесс: для него это политическое дело, как всякое другое. Грязноватое. Неприятное. Тем более неприятное, что лично ему, Варвику, Жанна импонирует. Отречение Жанны — отличный выход. «Костер и эта маленькая, непобедимая, объятая пламенем девочка выглядели бы до известной степени как торжество французского духа. А в отречении есть что-то жалкое. В общем, это прекрасно». «Жанна, дорогая Жанна, вы не можете себе представить, как мы рады этой удаче, я вас поздравляю», — лепечет Агнеса. — «Вы знаете, Жанна, жизнь так прекрасна...» И Жанна, сломленная, тоже готова убедить себя: «Ведь, наверно, это хорошо, когда живешь мирно, когда снят с тебя всякий долг и нужно лишь день ото дня влачить свое тело?..»
Жанне д’Арк предлагают ту самую жизнь, то счастье, о которых героини Ануйя с юным презрением говорят: «ваша жизнь», «ваше счастье»... «Вы себе представляете Жанну, прожившую жизнь, и так, чтобы все сгладилось... Жанну на свободе и, может быть, даже живущую при дворе Франции на маленькую пенсию?.. Жанна примирилась со всем... растолстела... стала лакомкой... А вы себе представляете Жанну раскрашенную, в дорогом головном уборе, нарядную, занятую своей собачонкой или мужчиной...»
Жанна отрекается от своего отречения, требует для себя костра, как требует казни Антигона. Но с иной целью.
Варвик пробует удержать Жанну, он брезгливо ужасается: бесполезное страдание, патриотические выкрики из пламени — это так вульгарно, так простонародно. «Тут уж ничего нельзя поделать, — почти сочувственно бросает ему Жанна. — Мы с тобой не одной породы!» И если Жанна хочет умереть, вместо того чтобы в заточении «пухнуть, бледнеть и болтать глупости» и ждать, пока обстоятельства обернутся выгоднее, то опять же в ее решении есть смысл, понятный самому глупому из ее солдат. Дело не только в том, чтобы «остаться Жанной», — дело в том, что Жанна не вправе отступиться от совершенного ею.
Пламя костра уже занимается, «все происходит быстро и грубо, как убийство». Стоящий на коленях инквизитор, не решаясь взглянуть сам, спрашивает: «Она смотрит прямо перед собой?.. Все так же смело?.. И на устах ее что-то похожее на улыбку?..» Ему трижды отвечают: «Да!» «Я никогда не смогу его победить!» — глухо произносит вопрошавший.
Тут развязка центрального философского узла «Жаворонка». Инквизитор почти безмолвно следил за ходом допроса. Он был саркастичен, когда обвинителю всюду чудился серный запах и козни ада. Его не интересовали политические задачи процесса. Он молчал, пока речь шла о чертовщине и о притязаниях французской и английской короны, и взял слово, когда речь зашла о человеке.
«Итак, Жанна, — Предостерегающе замечает Кошон, — ты оправдываешь человека. Ты мнишь его одним из величайших чудес господних, а может быть, и единственным его чудом». Жанна отвечает: «Да». «Ты богохульствуешь!» — вопит обвинитель. «Человек — это грязь, подлость, непристойные видения! Ночью на ложе своем человек корчится от скотской похоти...» «Да, — опять отвечает Жанна. — И он грешит, и он гнусен. А потом... неизвестно почему (он так любил жить и наслаждаться, этот поросенок), он при выходе из дома разврата бросается наперерез несущейся лошади, чтобы спасти неизвестного ему ребенка, и с переломанными костями умирает спокойно... сияющий, чистый, и бог ожидает его, улыбаясь».
Препирательство в суде перебивается появлением Ла Ира — товарища Жанны по битвам. Он огромен, от него разит потом, луком и вином. Точно так же пахнут стражники, сопровождающие на казнь Антигону, и она задыхается от вони и отвращения... А для Жанны это «хорошие, невинные людские запахи».
«Человек — это грязь, подлость...» Во всяком случае, взрослый человек, переживший, как корь, свою юношескую чистоту, бывал именно таков в восприятии Ануйя до «Жаворонка». Построение сцены спора о человеке здесь изощренно и точно. Жанна выигрывает спор, сводя его с нарочитых высот, снова взывая к «простым вещам, понятным самому глупому солдату». Нет речи о человеке «вообще», независимо от того, что им сделано. Решает то, кидается ли человек спасти ребенка, сражается ли человек за отечество... Дело человека — первое и важнейшее. Прижатая к стене, Жанна повторяет: «От содеянного мной не отрекусь».
Эти-то слова взрывают ее главного противника, инквизитора: «Вот видите, друзья мои, видите, как человек поднял голову?.. Он поворачивается к нам лицом, он не сгибается под пыткой, несмотря на унижение и побои, в звериных страданиях, на сырой подстилке в темнице. Он подымает глаза к непобежденному видению самого себя... ибо это его истинный бог, вот чего я боюсь! — и он отвечает (повтори, Жанна, тебе смертельно хочется это повторить): «От содеянного мной...» — «не отрекусь!»
Подобно тому как он стесняется высоких слов, драматург стесняется простой утверждающей ноты: ведь буржуа обожает счастливые концовки... Ануй самым построением пьесы иронизирует над парадностью исторических книжек для первых учеников: трагический конец переигрывается, кто-то кричит, что пропустили коронование в Реймсе, а его непременно надо сыграть. Вязанки костра растаскивают, Жанне вручают знамя, выстраивается чинное шествие... К содеянному Жанной можно примазываться, как и станет поступать коронованный ею циник, иронизируя и спекулируя зараз.
Ануй прост и серьезен, утверждая реальную ценность и «неотчуждаемость» дел человека. Ануй ироничен и горек, говоря о расхищении подвига, о буржуазном «присвоении» результата народного и героического дела...
Мы говорили про обособленность «Жаворонка» в творчестве писателя — может быть, обособленность не самое точное слово. «Жаворонок» развязывает многие темы, проходящие в иных пьесах Ануйя. Ануй из тех писателей, которые раскрываются не в одном каком-то произведении, а только во всей их последовательности — либо непоследовательности. Это сложный писатель и очень крупный. Его надо знать, для этого надо переводить и издавать.
Л-ра: Новый мир. – 1961. – № 5. – С. 262-264.
Произведения
Критика
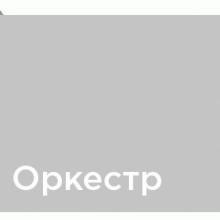
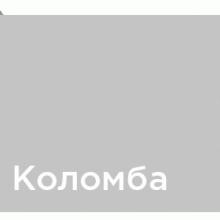

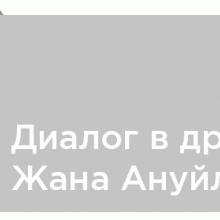









Поділитися