Жорж Сименон. Грязь на снегу

(Отрывок)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ «Клиенты Тимо»
1
Если бы не чистая случайность, тот номер, что отколол ночью Франк Фридмайер, не сыграл бы в его жизни такой решающей роли. Франк, понятно, не предвидел, что в это время по улице пройдет его сосед Герхардт Хольст.
А Хольст прошел, узнал Франка, и все сразу изменилось.
Но Франк принимает и это, и прочие возможные последствия.
Вот почему то, что произошло ночью у стены дубильной фабрики, оказалось для него — и сейчас, и на будущее — куда важнее, чем, скажем, потеря невинности.
Кстати, это первое, что пришло ему в голову. Сравнение и позабавило, и разозлило его. Фред Кромер, его дружок — правда, тот постарше: ему уже двадцать два, — впервые убил человека еще неделю назад у выхода из заведения Тимо, где потом Франк сидел за несколько минут до того, как притаиться у стены дубильной фабрики.
Можно ли считать то, что сделал Кромер, настоящим убийством? Застегивая меховое пальто и, как обычно, посасывая толстыми губами толстую сигару, Фред важно направлялся к выходу. Он весь лоснился. Он всегда лоснится. Как у апельсинов некоторых сортов, кожа у него толстая, плотная и словно маслянистая.
Кто-то сравнил его с бычком, изнывающим без коровы. Как бы там ни было, в его широком лоснящемся лице, влажных глазах и оттопыренных губах есть что-то откровенно похотливое.
Тщедушный человечек — такие попадаются на каждом шагу, особенно по вечерам, бледный, возбужденный и явно не настолько богатый, чтобы ходить к Тимо, — по-дурацки заступил Кромеру дорогу, вцепился в шалевый воротник и пошел сыпать упреками.
Интересно, что Фред ему всучил? Не зря же парень так взбеленился.
Кромер, попыхивая сигарой, спокойно проследовал мимо. Худосочный недомерок побежал за ним по асфальту аллейки и поднял шум — с ним была женщина, и ему наверняка хотелось показать себя.
На улице, где расположено заведение Тимо, шумом никого не удивишь. Патрули тоже стараются заглядывать туда пореже. И тем не менее, проезжай тогда мимо машина с оккупантами, им не удалось бы сделать вид, будто они ничего не заметили.
— А ну катись! — бросил Кромер карлику; голова у того была не по росту большая, шевелюра — огненно-рыжая.
— Нет, сперва я тебе все выложу!
Если слушать все, что тебе хотят выложить, сам живо говорить разучишься.
— Кому я сказал — катись!
Может быть, рыжий хватил лишнего? Да нет, он больше смахивал на наркомана. А может, в пойло было что-то подмешано? Какая, впрочем, разница?
На середине аллейки Кромер, весь черный между двух сугробов, левой рукой вынул сигару изо рта. Правой ударил, всего раз. Гном буквально взлетел в воздух, дрыгнул, как паяц, ногами и руками одновременно и темной массой впечатался в кучу снега на обочине. И вот что любопытно: голова его легла рядом со шкуркой апельсина — сейчас достать их в городе можно только в лавке напротив Тимо.
Тимо тоже выскочил на улицу — без пиджака, без кепки, прямо в чем стоял за стойкой. Ощупал паяца, выпятил нижнюю губу.
— Готов. Через полчаса застынет.
Неужели Кромер уложил парня с одного удара? Похоже, да. Рыжего об этом уже не спросишь. Тимо — он времени терять не любит — что-то сказал, они с Кромером оттащили тело метров за двести и швырнули в старый отстойный пруд, там, где выходят сточные трубы и вода не замерзает.
Теперь Фред вправе уверять, что убил человека, даже если к делу в известной мере причастен Тимо» когда заморыша подняли с земли и перебросили через низкий кирпичный парапет, он, пожалуй, еще дышал.
Кромер считает происшествие мелочью — и вот подтверждение: он по-прежнему рассказывает, как придушил девчонку. Одно подозрительно: история случилась не в городе, а в местности, где остальные не бывали. Так что доказательств никаких. Этак каждый начнет сочинять что вздумается.
— Большая грудь, нос пуговкой, глаза водянистые… — бубнит он.
Описывает он ее всегда одинаково. А вот подробности убийства всякий раз новые.
— Произошло все на гумне…
Допустим. Но в армии Кромер не служил, деревню ненавидит. С чего бы его занесло на гумно?
— Баловались мы на соломе, а она жуть как колется — и все время сбивала мне настроение.
Рассказывая, Кромер посасывает сигару и, словно из скромности, отрешенно глядит в пространство. Есть еще одна деталь, которой он никогда не опускает, — фраза девицы: «Хочу, чтоб ты сделал мне маленького».
Фред уверяет, что с этого все и началось: мысль о ребенке от глупой, грязной девки, которую он тискал, как тесто месят, показалась ему карикатурной и неприемлемой.
— Совершенно не-при-ем-ле-мой.
А девица все ласкалась, все липла.
Ему даже не нужно было закрывать глаза, чтобы представить себе огромную, со светлыми волосиками голову ублюдка, который родится от него и этой твари.
Не потому ли, что сам Кромер — крепко сбитый брюнет?
— Словом, меня замутило, — заканчивает Фред, стряхивая пепел с сигары.
Малый он не промах. Знает как себя подать. Обзавелся привычками, прибавляющими ему обаяния.
— Я решил, что лучше удавить мать, — так спокойней.
Это на меня накатило впервые, но оказалось совсем нетрудно. Ничего особенного.
Кромер не один такой. Каждый из завсегдатаев Тимо кого-то — хоть одного — да прикончил. На войне или как-либо по-другому. А то накатав донос, что совсем уж легко. Не обязательно даже подписываться.
Тимо такими вещами не хвастается, но у него на счету наверняка не одна жертва, иначе оккупанты не позволили бы его заведению работать всю ночь и почаще наведывались бы посмотреть, что там творится. Правда, ставни в доме всегда закрыты и подойти к нему можно только по аллейке, так что вам не откроют, пока не опознают через глазок в двери, но оккупанты не малые дети — им все известно.
Ну а Франк? Невинность он потерял давно и почти без переживаний: благоприятствовала среда. Для других же это целая история, о которой, расцвечивая ее все новыми подробностями, они еще много лет рассказывают, как Кромер о девчонке, задушенной им на гумне.
Словом, первое убийство, совершенное Франком в девятнадцать лет, оказалось все равно что вторичной утратой невинности: переживал он немногим больше, чем тогда, да и произошло все случайно. Просто наступил момент, когда по необходимости и вполне естественно принимаешь решение, которое на самом-то деле принято уже давным-давно. Никто его не принуждал. Над ним не подсмеивались. К тому же подначка приятелей действует только на дураков.
Еще много недель назад, чтобы не сказать — месяцев, ощущая в себе некую неполноценность, он решил: «Я должен попробовать…»
Не в драке. Это не в его характере. Он убежден: поступок значителен лишь когда совершается обдуманно.
Вот случай и представился. И не потому ли он кажется случаем, что Франк сам его ждал?
Они сидели у Тимо. Как обычно, за столиком у самой стойки. Кромер был в меховом пальто, с которым не расстается даже в жарко натопленных помещениях. И, разумеется, с неизменной сигарой. Кожа его, как всегда, лоснилась, в больших круглых глазах действительно было нечто бычье. Фред, наверно, воображает, что он из другого теста, не такой, как все: он даже не дает себе труда прятать в бумажник крупные купюры, а, скомкав, рассовывает их по карманам.
С Кромером пришел какой-то тип, птица явно более высокого полета. Знакомясь, коротко бросил:
— Зовите меня Берг.
Лет сорок, не меньше. Холодный, неразговорчивый.
Шишка, по всему видать, крупная. Недаром Кромер прямо-таки лебезит перед ним.
Он рассказал Бергу о задушенной девчонке, но не слишком хвастливо, а скорее всем видом давая понять, что это мелочь, случайное забавное происшествие.
— Посмотри, Франк, какой нож подарил мне мой друг.
Словно драгоценность, которая выигрывает, когда ее извлекают из роскошного футляра, нож, вынутый из-под мехового пальто и положенный на клетчатую скатерть, производил особенно внушительное впечатление.
— Ты лезвие попробуй!
— Н-да.
— Марку видишь?
Пружинный нож шведского производства отличался такой чистотой линий и был настолько «по руке», что казалось, клинок наделен разумом и сам сумеет выбрать себе дорогу, когда войдет в чужое тело.
Неожиданно Франк, стыдясь своей непроизвольно ребяческой интонации, попросил:
— Одолжи мне его.
— Зачем?
— Просто так.
— Эти игрушки не для того, чтобы их носили просто так.
Гость Кромера улыбнулся. Чуть покровительственно, словно прислушиваясь к бахвальству мальчишек.
— Ну, одолжи!
Не для того, понятно, чтобы носить просто так. Правда, ничего такого Франк еще не думал, но как раз в эту минуту за угловым столиком под лампой с сиреневым шелковым абажуром он приметил толстого унтер-офицера. Уже побагровевший, пожалуй даже лиловый из-за освещения, тот снял ремень и положил на скатерть между рюмками.
Унтера знали все. Он был чем-то вроде амулета или кота, которого вечно видишь на одном и том же месте.
Он, единственный из оккупантов, захаживал к Тимо открыто, не прячась, не советуя помалкивать о его посещениях.
Естественно, у него были имя и фамилия. Здесь, однако, только прозвище: Евнух. Он был такой жирный, такой раскормленный, что мундир распирало, а под мышками и в талии образовывались складки. Глядишь на него и невольно представляешь себе раздевающуюся матрону, на дряблых телесах которой остались складки от корсета. Затылок и шея были в сплошных складках сала, на голове трепыхались редкие волосики, бесцветные и шелковистые.
Устраивался он всегда в углу и неизменно приводил с собой двух женщин — безразлично кого, лишь бы они были худыми и брюнетками.
Если новый клиент вздрагивал при виде его мундира — унтер был в форме оккупационной полиции, — Тимо, слегка понизив голос, успокаивал:
— Не волнуйтесь. Не опасен.
Слышал его Евнух? Понимал? Спиртное он заказывал графинами. Усадив одну из спутниц к себе на колено, другую — рядом, на банкетке, он что-то рассказывал им на ухо и гоготал. Пил, рассказывал, гоготал и подпаивал девиц, между делом запуская им руку под юбки.
На родине у Евнуха, должно быть, осталась семья. Нуши, пошуровавшая в его бумажнике, уверяла, что тот набит фотографиями детей всех возрастов. Девиц унтер зовет не их именами, а другими. Это его забавляет. Он заказывает для них еду. Обожает смотреть, как они набрасываются на дорогие кушанья, каких не получишь нигде, кроме как у Тимо и еще в нескольких совсем уж труднодоступных заведениях, предназначенных для старших офицеров.
Унтер кормит девиц чуть ли не насильно. Сам ест с ними. Лапает их прямо на публике и гогочет. Наконец наступает такой момент, когда он снимает ремень и кладет на стол.
А на ремне кобура с пистолетом.
Само по себе все это ровно ничего не значит. Унтер просто толстый распутник, которого никто не принимает всерьез. Даже Лотта, мать Франка.
Она тоже знает Евнуха. Его знает весь квартал: отправляясь в город, где расквартировано его учреждение, он дважды в день, добираясь пешком аж до Старого моста, пересекает улицу, по которой ходит трамвай.
Живет он не в казарме, а здесь, по соседству, на частной квартире с пансионом у вдовы архитектора г-жи Мор в третьем доме за трамвайной линией. На улице появляется всегда в одно и то же время, розовый, начищенный до блеска, несмотря на вечера у Тимо.
Улыбка у него особенная — кое-кому кажется хитрой, а на самом деле, пожалуй, ребяческая.
Евнух заглядывается на маленьких девочек, гладит их по головке, иногда вытащит из кармана конфетку и угостит.
— Пари держу, он не сегодня-завтра заявится к нам, — предсказала однажды Лотта.
Официально промысел Лотты запрещен законом. Конечно, она вправе держать маникюрный салон в районе отстойного пруда, хотя совершенно очевидно, что никому не придет в голову карабкаться на четвертый этаж перенаселенного дома, чтобы привести ногти в порядок.
Не только улице — всему, так сказать, городу известно, что за салоном есть еще комната. Евнух, служащий в оккупационной полиции, это, безусловно, знает.
— Вот увидите, заявится!
Взглянув на человека из окна четвертого этажа, Лотта безошибочно угадывает, поднимется он к ним или нет.
Может даже рассчитать, сколько времени уйдет у него на колебания, и редко ошибается.
В одно воскресное утро — по будням унтер занят на службе — Евнух действительно появился. Вид у него был смущенный и глупый. Франка дома не оказалось, о чем он после очень жалел; в кухне есть внутренняя форточка, через которую, взобравшись на стол, можно наблюдать за происходящим.
Ему рассказали, как все было. В салоне находилась одна Стеффи, здоровенная дылда с блеклой кожей, в любую минуту готовая завалиться на спину и уставиться в потолок.
Унтер, видимо, остался разочарован: со Стеффи нужно сразу приступать к делу или вовсе ее не трогать. Ума у нее не хватает даже на то, чтобы с подобающей миной слушать истории, которые ей плетут.
— Да ты же просто кусок мяса, деточка, — частенько выговаривала ей Лотта.
Вероятно, Евнух воображал, что здесь все совершается по-другому. Может быть, он вообще ни на что не способен? Во всяком случае, от Тимо он ни разу не ушел с женщиной.
А может, с него достаточно невинных шалостей, только об этом никто не догадывается? Возможно. С мужчинами все возможно. Франк знает это еще с тех пор, как получил воспитание на кухонном столе под форточкой.
И раз уж он решил, что рано или поздно кого-то все равно придется убить, ему, естественно, первым пришел на ум Евнух.
Прежде всего, Франк просто обязан испробовать нож, который ему все-таки сунули. Оружие вправду что надо; вас так и подмывает поскорей пустить его в ход, посмотреть, как оно вонзается в тело и не застревает ли между ребрами.
Франку объяснили, в чем тут секрет. Как только лезвие войдет в мясо, слегка крутани рукой, будто поворачиваешь ключ в замке.
Ремень с кобурой и тяжелым скользким пистолетом лежал на столе. Когда у тебя пистолет, ты можешь все. И сразу перестаешь быть заурядным.
А тут еще этот сорокалетний Берг, дружок Кромера, — значит, парень свой, надежный. И при таком человеке с Франком говорят как с мальчишкой!
— Одолжи, и я за час его обновлю. Вернусь с пистолетом, вот увидишь!
Пока все шло нормально. Франк знал, где устроить засаду. На Зеленой улице, по которой Евнух обязательно пойдет, огибая отстойный пруд и направляясь к трамвайной линии. Там высится старое подслеповатое здание, которое до сих пор именуется дубильной фабрикой, хотя на ней уже лет пятнадцать ничего не дубят. На памяти Франка фабрика всегда бездействовала, но он слыхал, что, когда она выполняла армейские заказы, число рабочих доходило до шестисот.
Теперь от нее остались только голые массивные стены из почернелого кирпича; в высоких, как в церкви, окнах, начинающихся метрах в шести от земли, выбиты стекла.
От улицы фабрику отделяет тупичок шириной самое большее в метр.
До первого исправного газового рожка — в городе полно свернутых, а то и вовсе исковерканных рожков — шагать и шагать: он горит почти у самой трамвайной остановки.
В общем, все так просто, что даже нервы не щекочет.
Франк стоял в тупичке, прижавшись спиной к кирпичной стене; вокруг — полное безмолвие, если не считать пронзительных паровозных гудков, доносившихся из-за реки; в окнах ни огонька. Люди спали.
Между двух стен Франк видел кусок улицы, какой всегда помнил ее в зимние месяцы. Вдоль тротуаров два грязно-серых снежных вала — один у домов, другой на проезжей части; между ними чернеет узкая тропка, которую посыпают песком, солью и золой. От каждого подъезда перпендикулярно к ней идет другая, ведущая на мостовую, где машины накатали довольно глубокие колеи.
Все очень просто.
Он убьет Евнуха…
Людей в мундирах убивают каждую неделю; в ответ оккупанты преследуют патриотические организации, хватают заложников — муниципальных советников, именитых граждан, — расстреливают или увозят неизвестно куда. Во всяком случае, больше о них ни слуху ни духу.
Для Франка все сводилось к одному — впервые в жизни убить кого-нибудь и обновить шведский нож Кромера.
И только.
Единственное неудобство — ему приходилось стоять по колено в плотном снегу, очистить от которого тупичок никто не удосужился, и чувствовать, как понемногу коченеют пальцы правой руки. Но он решил: перчатку не наденет.
Услышав шаги, он не заволновался. Впрочем, он знал: это не его унтер. Под тяжелыми сапогами Евнуха снег скрипел бы куда громче.
Франку было интересно, и все. Шла не женщина — шаги были слишком широкие. Комендантский час наступил давным-давно. Люди вроде самого Франка, Кромера, клиентов Тимо по разным причинам преспокойно нарушают его, но простые обыватели не привыкли прогуливаться по ночам.
Незнакомец приближался к тупичку, но, еще не видя его, Франк уже понял, вернее, угадал, кто это, и догадка доставила ему своего рода удовлетворение.
На снегу подрагивал желтый луч: человек на ходу освещал себе дорогу карманным фонариком.
Размашистые и почти беззвучные, мягкие и в то же время удивительно быстрые шаги автоматически связались в сознании Франка с обликом его соседа Герхардта Хольста.
Встреча приобретала совершенно естественный характер. Хольст жил в том же доме, на той же площадке, что и Лотта; дверь его квартиры была как раз напротив Фридмайеров. Он водил трамвай, и часы работы менялись у него каждую неделю; иногда он уходил спозаранку, еще затемно; в другой раз спускался по лестнице во второй половине дня, неизменно держа под мышкой жестяную коробку.
Роста он был очень высокого. Ходил бесшумно, потому что носил самодельные бахилы из войлока и тряпья. В том, что человек, проводящий долгие часы на площадке трамвая, стремится держать ноги в тепле, нет ничего удивительного, и все-таки Франку, без всяких на то оснований, становилось муторно, когда он видел эти бесформенные опорки серого, как промокашка, цвета. Они вообще казались сделанными из промокашки.
Их владелец — тоже. Вид у него такой, словно он ни на кого не смотрит и ничто его не заботит, кроме этой жестянки под мышкой; в ней Хольст носит на работу еду.
Тем не менее Франк то отворачивался, чтобы не встречаться с ним глазами, то, напротив, нарочито, с вызовом не сводил их с соседа.
Сейчас Хольст поравняется с ним. Ну и что?
По всей вероятности, сосед просто пройдет мимо, высвечивая дрожащим лучом снег и черную тропу под ногами. Франку нет никакой нужды давать о себе знать. Прижавшись к стене, он практически невидим.
Почему же он кашлянул, когда Хольст оказался рядом с тупичком? Простужен он не был, и в горле у него не першило; весь вечер он почти не курил.
Кашлянул он, в сущности, чтобы привлечь к себе внимание. Это даже не было вызовом. Вызов? Кому? Нищему вагоновожатому?
Конечно, Хольст никакой не водитель трамвая. Слепому ясно, что он не здешний, что раньше они с дочкой жили совсем по-иному. Но сейчас таких, как он, пруд пруди — и на улицах, и в очередях у булочных. Никто не оборачивается им вслед, как первое время. Они сами стыдятся своей непохожести на остальных и стараются держаться незаметнее.
И все-таки Франк кашлянул. Нарочно.
Не из-за Мицци ли, дочки Хольста? Ерунда! Он не влюблен в нее. Эта шестнадцатилетняя девчонка совершенно ему безразлична. А вот она точно неравнодушна к нему.
Разве она не приоткрывает дверь, заслышав, как он, насвистывая, поднимается по лестнице? Не подбегает к окну, когда он уходит? Это же видно: занавеска колышется.
Будь у него охота, он бы с нею быстренько сладил. Это пара пустяков: нужны только терпение да подход.
Удивительнее всего, что Мицци — тут уж никаких сомнений! — знает, кто он и чем занимается его мамаша. Их презирает весь дом, с ними почти никто не здоровается.
Хольст — тоже, но он ни с кем не здоровается. Не из гордости. Скорее, от униженности или потому, что не интересуется людьми и живет с дочкой в своем крохотном мирке, не испытывая потребности выходить из него. Такое бывает.
Загадочности и той в нем нет.
Пожалуй, кашлянул Франк из чистого мальчишества.
Больно уж все просто и обыденно.
Хольст не испугался. Не замедлил шаг. Не предположил, что в тупике поджидают именно его. Это тоже странно с его стороны, очень странно. Никто ведь не станет зря отираться у стены далеко за полночь на двадцатиградусном морозе.
Он сделал только одно: у самого закоулка на мгновение повернул фонарик так, что свет упал Франку на лицо.
Фридмайер не дал себе труда ни поднять воротник, ни отвернуться. Он так и остался стоять, сохраняя озабоченное и решительное выражение лица, которое не покидает его, даже когда он думает о пустяках.
Хольст увидел и узнал Франка. До дому ему не больше сотни метров, и через минуту он вытащит из кармана ключ; он единственный из жильцов имеет свой ключ — у него ночная работа.
Завтра он прочтет в газетах или услышит в очереди об унтер-офицере, убитом у выхода из тупика.
И сразу догадается.
Как он поступит? Когда убивают одного из оккупантов, тем более не простого солдата, а унтера, власти объявляют награду за голову виновного. Так будет и теперь.
Хольст с дочерью бедны. Мясо, даже не мясо, а жалкие обрезки, они едят не чаще двух раз в месяц — тушат его с брюквой. По запаху, просачивающемуся через дверь, нетрудно определить, чем питаются в квартире.
Как поступит Хольст?
Конечно, он не в восторге от того, что заведение Лотты помещается на той же площадке, что его конура, где Мицци по целым дням сидит одна.
А тут такой удобный случай избавиться от Фридмайеров!
Тем не менее Франк кашлянул и ни на мгновение не задумался, стоит ли осуществлять свой план. Напротив, несколько секунд чуть ли не молился — просил, чтобы унтер свернул за Зеленую раньше, чем Хольст войдет в подъезд.
Вот тогда Хольст все услышит и увидит. Может быть, даже замешкается немного, а значит, окажется свидетелем…
Так не получилось. Жаль: эта мысль приводила Франка прямо-таки в восторг. Ему уже казалось, что между ним и человеком, который вот-вот поднимется по лестнице из темного дома, возникает некая тайная связь.
Конечно, он убьет Евнуха не из-за Хольста — все решено гораздо раньше.
Только вот минуту назад номер, который он собирается отколоть, был полной бессмыслицей, пустым озорством, мальчишеством. Какое он придумал еще определение? Ах да, потеря невинности.
Теперь все переменилось. Он этого хочет, идет на это совершенно сознательно.
В мире остались только Хольст, Мицци и он; унтер-офицер отошел на второй план; Кромер и его дружок Берг утратили всякое значение.
В мире остались только Хольст и он. Франк.
Честное слово, дело выглядит так, словно он сам выбрал Хольста, словно всегда знал, что в определенный момент тот войдет в его жизнь. Можно подумать, что всю эту историю он затеял только ради вагоновожатого.
Спустя полчаса он постучался условным стуком с черного хода, которым попадаешь к Тимо из глубины аллейки. Отпер сам Тимо. Клиенты почти все разошлись; одну из девиц, пивших с Евнухом, рвало в раковину на кухне.
— Кромер ушел?
— Что?.. Да, да… Просил тебе передать — у него встреча в Верхнем городе.
Нож, вытертый досуха, лежал у Франка в кармане. Тимо, словно не обращая внимания на завсегдатая, мыл бокалы.
— Чего-нибудь выпьешь?
Франк чуть было не согласился. Но предпочел доказать себе, что ни капельки не взволнован и в спиртном не нуждается. А ведь ему пришлось ударить второй раз: спина у Евнуха словно нафарширована салом. Другой карман Франка тоже оттопыривается: там пистолет.
Показать его Тимо? Это не опасно — Тимо будет молчать. Нет, это дешевка: так поступил бы любой.
— Доброй ночи!
— Ночуешь у матери?
Ночевать Франку случалось где попало: иногда у Тимо в хибаре, что позади заведения, — там живут девицы на пансионе; иногда у Кромера — у того прекрасная комната и свободный диван; иногда еще где-нибудь. Но в кухне у Лотты всегда стояла раскладушка для него.
— Иду домой.
Это рискованно: тело все еще валяется на тротуаре.
Однако добираться до моста и брать в обход по главной улице квартала еще опасней — того гляди на патруль нарвешься.
Труп унтера все так же перегораживал тротуар — голова на куче снега, ноги на черной тропке, — и Франк перешагнул через него. Вот тут ему в первый и последний раз стало страшно. Он боялся услышать за спиной шаги, боялся увидеть, например, что Евнух приподнимается.
Он позвонил и долго ждал, пока привратник нажмет на кнопку у изголовья постели, чтобы отпереть подъезд.
Первые марши одолел довольно быстро, потом замедлил шаг и, наконец, у двери Хольста, из-под которой пробивался свет, начал насвистывать, как бы давая знать: это он.
К матери в комнату он не пошел: сон у нее глубокий, жалко будить. Зажег в кухне свет, разделся, лег. Пахло бульоном и луком-пореем, запах был такой острый, что мешал Франку уснуть.
Тогда он встал, распахнул дверь в заднюю комнату и досадливо поморщился.
Сегодня постель занимала Берта. От ее большого вялого тела веяло теплом. Франк отпихнул ее спиной, она заворчала и откинула руку, которую ему пришлось опять согнуть, чтобы отвоевать себе место.
Несколько позже он едва удержался, чтобы не овладеть ею, потому что все не мог уснуть; затем стал думать о Мицци — та наверняка еще девушка.
Расскажет ли ей отец, что выкинул Франк нынче ночью?
2
Когда Берта встала, Франк, еще не вполне проснувшись, с трудом разлепил веки и увидел, что оконные стекла покрыты морозными узорами.
Толстуха босиком вышла в кухню, оставив дверь приоткрытой, чтобы слабый отсвет проникал в комнату. Лежа в кровати, Франк слышал, как девушка натягивает чулки, белье, платье; наконец она уходит, предварительно плотно закрыв дверь. Следующим звуком, который до него донесется, будет ерзанье кочерги по решетке.
Мать умеет дрессировать своих подопечных. Всегда ухитряется по крайней мере одну оставить на ночь. Не из-за клиентов: в восемь вечера подъезд запирается и наверх никто уже не придет. Просто Лотте нужно, чтобы при ней кто-то был. И главное, чтобы ее обихаживали.
— Я всласть наголодалась, когда была молода и глупа.
Теперь пора себя и побаловать. Каждому свой черед.
Ночевать она неизменно оставляет самую бедную, самую простоватую; ты, мол, живешь далеко, а здесь тепло, да и обед приготовлен вкусный.
На всех, кто остается, у Лотты один фиолетовый бумазейный халат, который, как правило, висит на девицах до полу. Всем им от шестнадцати до восемнадцати. Те, кто постарше, Лотту не устраивают. И, за редким исключением, не держатся больше месяца.
Клиенты любят разнообразие. Объяснять это девицам заранее, конечно, не стоит. Им ведь кажется, что они здесь как дома, особенно деревенским. Вот такие обычно и остаются на ночь.
Сейчас Лотта, вероятно, не спит, а дремлет, как ее сын. Франк отдавал себе отчет, который теперь час, где он находится, какие звуки раздаются в квартире, какие — на улице. Непроизвольно ждал, когда загрохочет первый трамвай, шум которого в ледяной пустоте улиц слышен издалека. Ему то и дело казалось, что он уже видит большой желтый фонарь на вагоне.
Затем сразу же, без перехода, послышался стук угольных ведер. Для той, кто дежурит, это самая трудная из утренних повинностей. Одна девушка из-за этого даже сбежала, хотя была крепкого сложения, с тугим мускулистым телом. Тащи два грязных железных ведра, спускайся с четвертого этажа, лезь в подвал, а затем карабкайся с грузом обратно.
Весь дом встает ни свет ни заря и словно населен призраками: электричество нормировано, подают его с перебоями, и у жильцов горят слишком тусклые лампочки. К тому же люди не топят; сварить себе желудевый кофе на маленьком газу — вот самое большее, на что они отваживаются.
Всякий раз, когда кто-нибудь из девиц выходит за углем, Франк настораживается, и Лотта у себя в постели, без сомнения, тоже начинает прислушиваться.
В подвале у каждого жильца свой запертый на замок чуланчик. Но у кого, кроме Фридмайеров, есть уголь и дрова?
Когда девушка с ведрами в вытянутых руках и багровым от натуги лицом возвращается наверх, ей вслед почти всегда приотворяются двери. На нее и на ведра смотрят злые глаза. Женщины вслух отпускают нелестные замечания. Однажды жилец с третьего этажа — потом его расстреляли, правда за другое, — опрокинул ведра и пробурчал:
— Шлюха!
Обитатели всех этажей этой казармы — дом сильно смахивает на нее — кутаются в пальто, надевают по две, иногда по три фуфайки, редко снимают перчатки. А ведь в доме есть и дети, которым надо ходить в школу.
Берта отправилась вниз. Берта не боится; она сильная, спокойная. Наверно, потому и держится здесь больше полутора месяцев, что мало кому удается.
Только вот в любви ей грош цена. Иной раз замычит, да так по-дурацки, что у мужчины всю охоту как рукой снимет.
«Корова!» — думает Франк.
Как раньше подумал о Кромере: «Бычок!»
Вот бы их спарить!.. Берта, опять не закрыв дверь на кухню, разводит огонь и там, и в комнате, где лежит Франк. В квартире четыре печи, больше, чем во всем остальном доме. Четыре печи на них одних! Что если жильцы как-нибудь соберутся да прилипнут в коридоре к стене Фридмайеров в надежде поживиться хоть капелькой тепла?
Интересно, чем обогревается Мицци Хольст?
Франк знает, как это делается: от семи до восьми утра из газовой плиты вырывается слабое голубоватое пламя.
Люди греют руки о чайник. Иные кладут на выключенную плитку ноги, ложатся на нее животом. Все носят невообразимую рвань, напяливают на себя что только возможно.
А Мицци?
С какой стати он подумал о ней?
В доме напротив, который еще беднее — построен раньше и уже весь обшарпан, жильцы для тепла оклеили стекла оберточной бумагой, оставив лишь маленькие отверстия, чтобы проходил свет и можно было выглянуть на улицу.
Наткнулись на Евнуха или нет? А может, тело обнаружили еще ночью?
Шума не будет. В таких случаях шума никогда не поднимают. Многие уже отправились на работу, женщины разбрелись по очередям.
Если тело не обнаружил патруль, что наиболее вероятно — на Зеленую улицу, в сущности тупиковую, патрули практически не заглядывают, — те, кто встал и вышел пораньше, первыми заметили на снегу темную массу, но заспешили к трамвайной остановке.
Потом, когда рассвело, другие наверняка увидели, что на покойнике мундир. Это тем более заставило их ускорить шаги.
Сообщит о случившемся кто-нибудь из привратников.
Они ведь в своем роде на государственной службе. Им нельзя сослаться на то, что они, мол, ничего не видели. И к их услугам телефон в парадной.
Из кухни донесся запах занявшейся растопки. Затем лавиной посыпалась зола из печных поддувал в комнатах, и, наконец, завела свою музыку кофейная мельница.
Эх, Берта, бедная толстая корова! Только что, стоя босиком на половике, она растирала себе тело, разглаживая следы, оставленные на коже простынями. Трико на ней не было. Она исходила потом и, видимо, рассуждала сама с собой. Ведь всего два месяца назад она в этот час задавала корм курам и наверняка разговаривала с ними на понятном для них языке.
А вот и трамвай. Он резко тормозит на углу, предварительно выплюнув на рельсы порцию песка, — иначе ему быстро не остановиться. К его скрежету Франк давно привык и тем не менее весь сжимается, ожидая, когда трамвай снова тронется и задребезжит, как мешок с железным ломом.
Кто же из привратников струхнул первым и позвонил куда следует? Привратники — народ опасливый. Такая уж у них профессия. А угадать того, кто поднял власти на ноги, нетрудно. Вот он отчаянно жестикулирует перед несколькими машинами с оккупантами.
Не так давно подобного происшествия было довольно, чтобы квартал немедленно оцепили, а дома поочередно прочесали. Но это время прошло. Заложников тоже перестали хватать. Кажется, будто люди по обе стороны линии огня стали философами. Да и как ее разглядишь, эту линию?
Ничего. Не разглядят — притворятся, что видят.
Убит жирный распутник. Что он оккупантам? Они, без сомнения, знали ему цену. Гораздо больше их тревожит пистолет: тому, кто его унес, может взбрести на ум воспользоваться им против чужеземцев.
В конце концов, оккупанты тоже боятся. Все на свете чего-нибудь боятся. Две машины ездят взад и вперед. Одна медленно движется от дома к дому.
Это они страху нагоняют. На самом деле ничего не произойдет.
Если, конечно, не заговорит Хольст. Но он не заговорит. Франк верит в него.
Вот оно, слово, которое все объясняет. Может быть, не совсем точное, но дающее хотя бы смутное представление о том, что он пытался уяснить себе минувшей ночью. Он верит в Хольста.
Сейчас тому полагается спать. Впрочем, нет. Он, как всегда, уже поднялся и скоро выйдет на улицу: в свободные от работы дни в очередях стоит он сам.
За иными продуктами Фридмайеры в очередь ни за что не встанут, за другими все-таки ходят, вернее, посылают одну из девушек. Бывает еда, ради которой даже Лотта готова двинуться с места.
Двери в квартире распахнуты. Кухонная плита волнами гонит тепло во все помещения. На худой конец хватило бы ее одной. Затем всюду разносится запах кофе, настоящего кофе.
С другой стороны кухни, прямо против площадки и слева от лестницы, располагается маникюрный салон, где печь топят непрерывно.
У каждой печи свой запах, каждая живет своей жизнью — по-особому втягивает воздух, по-особому гудит. В салоне от печи пахнет линолеумом, и это наводит на мысль о гостиной с навощенной до блеска мебелью, с роялем, с вышитыми салфетками на столиках и вязаньем на ручках кресел.
— Буржуа, они и есть самые распутные, — уверяет Лотта. — А буржуа любят пакостничать по-мелкому в обстановке, похожей на ту, что у них дома.
Вот почему так миниатюрны, можно сказать, почти невидимы оба маникюрных столика. Вместо маникюра Лотта обучает девчонок тренькать одним пальцев на рояле.
— Как их дочки, понятно?
Спальня, большая спальня, как ее величают, где нежится сейчас Лотта, увешана коврами, драпировками, рукоделием.
— Будь у меня возможность, — втолковывает она, — натаскать сюда портреты их папаш и мамаш, женушек и деток, я миллионершей стала бы!
Увезли, наконец, тело Евнуха или нет? Пожалуй, да.
Машины, раскатывавшие взад и вперед, исчезли.
Герхардт Хольст с длинным, посиневшим от холода носом и сеткой в руке стоит где-нибудь поблизости в очереди, неподвижный и преисполненный достоинства. Одни мирятся с очередями, другие — нет. Франк из числа вторых. В очередь он не встанет ни за что на свете.
— И не такие, как ты… — завела однажды Лотта, считающая сына гордецом.
Но разве можно представить себе Кромера стоящим в очереди? Или Тимо? Или других парней?
Разве Лотте не хватает угля? Разве, встав с постели, она первым делом не заводит разговор о сегодняшнем меню?
Как-то девушка, не ходившая еще на панель, поинтересовалась, сколько ей будут платить.
— У меня едят! — ответила Лотта.
Это правда: у Лотты едят. Точнее, жрут. Жрут с утра до ночи. Еду с кухонного стола не убирают, а тем, что остается, можно прокормить целую семью.
Придумывание самых затейливых блюд, на которые идет больше всего жиров и дефицитнейших продуктов, стало в доме своего рода игрой, спортом.
— Сало? Сходи — пусть Копоцки даст. Скажешь, я ему сахару принесу. А не добавить ли еще и шампиньончиков?
— Садись в трамвай и кати к Блангу. Скажешь, чтобы…
Каждая еда — это вроде как пари. А еще вызов, потому что кухонные флюиды разносятся по всему дому, просачиваясь сквозь замочные скважины и под дверями.
Скоро эти Фридмайеры будут настежь свое жилье распахивать! А у Хольстов довольствуются костью, отваренной вместе с брюквой.
Дались ему эти Хольсты! Франк вскакивает. Хватит валяться. Протирая заспанные глаза, он выходит на кухню.
Уже одиннадцать утра. В кухне сидит незнакомая девушка, новенькая. Держится скромно, выглядит прилично.
Не сняла еще ни шляпки, ни белой девичьей блузки.
— Берите сахар, не стесняйтесь, — подбадривает Лотта. На ней пеньюар. Она поставила локти на стол и мелкими глотками попивает кофе с молоком.
Так всегда. Девиц следует приручать. Поначалу они робеют. Смотрят на кусок сахара как на драгоценность. На молоко, да и на остальное — так же. А через некоторое время их приходится гнать взашей, потому что они опустошают шкафы. Впрочем, их выставили бы и без этого.
Сперва они ведут себя робко. Садясь, сдвигают колени. Носят обычно короткий английский жакет, как у Мицци, темную юбку, белую блузку.
— Если бы они оставались такими!
Это ведь как раз то, что нравится клиентам.
Поглядели бы мужчины на них, неприбранных, утром!
Впрочем, как знать!.. По утрам они по-домашнему, неумытые, с лоснящейся кожей, собираются на кухне попить кофе, поесть чего душе угодно, подымить сигареткой, поваландаться.
— Отпаришь мне брюки? — обращается Франк к матери.
Штепсельная розетка в салоне, и Лотта пристраивает гладильную доску между двумя креслами.
Как там с Евнухом?
Соседи, видевшие утром тело на снегу, явно напуганы: из-за этого у них целый день будет на душе тревожно.
Франка беспокоит только пистолет. Около девяти он даже встал на минутку, решив вынуть оружие из кармана пальто и припрятать.
Но где? И от кого?
Берта слишком инертна, слишком размазня, и если Проболтается, то исключительно по глупости.
Другая, малышка в английском костюме, имени которой Франк еще не знает, тоже будет молчать: она новенькая, попала в незнакомое место и к тому же изголодалась.
Что касается матери, ее Франк не принимает в расчет.
Хозяин в доме он. Как она ни злится, как порой ни взбрыкивает, ей известно, что ее не послушают и она в конечном счете сделает все, чего хочет Франк.
Роста он небольшого. Скорее, низкого. Когда-то — правда, очень давно — даже носил высокие, почти как у женщин, каблуки, чтобы казаться повыше. Плотным его тоже не назовешь, но сложения он крепкого, плечи квадратные.
Кожа светлая, как у Лотты, волосы белокурые, глаза серо-голубые.
Почему девушки боятся его, хотя ему и девятнадцати нет? В иные минуты он выглядит совсем мальчиком. Если б захотел, был бы, вероятно, ласков, но не дает себе труда.
Самое удивительное в нем при его возрасте — невозмутимость. Он был еще кудрявым большеголовым карапузом, едва научился ходить, а его уже называли маленьким мужчиной.
Он никогда не суетится, не жестикулирует. Его редко видят бегущим, разозленным, голос он повышает еще реже.
Одна из девиц, к которой он довольно часто забирался в постель, все обхватывала его голову руками и спрашивала, почему он такой печальный.
И не верила, когда он, высвобождаясь, сухо отвечал:
— Я не печальный. В жизни печальным не был.
Это, пожалуй, верно. Печальным он не был, но не испытывал и потребности смеяться или шутить. Он всегда оставался невозмутимым, и эта его невозмутимость сбивает всех с толку.
Вот и сейчас, думая о Хольсте, он совершенно спокоен. Не чувствует ни малейшей тревоги, разве что чуточку заинтригован.
Здесь пьют кофе с сахаром и настоящими сливками, намазывают хлеб маслом, вареньем, медом. Хлеб тоже почти белый — такой во всем квартале можно раздобыть лишь у Тимо. Что едят в квартире напротив? Что ест Герхардт Хольст? Мицци, его дочь?
— Ты же почти не завтракал! — сокрушается Лотта» по привычке набившая живот до отказа.
В прошлом, когда всласть ели другие, она так настрадалась от голода, что вечно боится, как бы сын не съел слишком мало, и готова пичкать его силой, словно гуся.
Франку все не хватает духу одеться. К тому же делать в это время на улице нечего. Он медлит. Поглядывает на Лотту, которая усердно наглаживает ему штаны, лакированными ногтями сколупывая с них пятнышки грязи. Затем принимается наблюдать за новенькой. Смотрит, как она раскладывает на столике маникюрный инструмент, хотя пользоваться им не умеет.
С затылка на тонкую еще шею с очень нежной, напоминающей цыплячью кожей у нее падают мелкие завитки, и порой она привычным жестом пытается водворить их на место.
Спускаясь или поднимаясь по лестнице, Мицци часто так же поправляет волосы.
Новенькая называет его г-н Франк, как велела Лотта.
Он из вежливости осведомляется, как ее зовут.
— Минна.
Юбка на ней хорошего покроя, ткань почти не изношена, и вид у девушки чистенький. Спала она уже с кем-нибудь? Вероятно, иначе не пришла бы к Лотте. Но наверняка не за деньги и не с кем попало.
Вскоре, когда явится первый клиент. Франк взберется на кухонный стол. Он заранее уверен, что, оставшись в одной комбинации, Минна отвернется к стене и долго будет теребить бретельки, прежде чем раздеться донага.
Мицци живет на другой стороне площадки. Поднявшись по широкой лестнице, справа видишь одну дверь, слева другую, а между ними коридор, куда выходят остальные. Иные жильцы занимают целую квартиру, иные — всего лишь комнату, а над головой у них еще три этажа. Слышно, как люди снуют вверх и вниз по лестнице.
Женщины тащат сетки, пакеты, и с каждым днем им все трудней подниматься; недавно одна, хотя ей только тридцать, грохнулась в обморок прямо на ступеньках.
У Хольстов Франк не бывал, зато интерьеры кое-каких других квартир ему знакомы. Жильцы подчас оставляют двери распахнутыми, потому что женщины стирают в общем коридоре, хоть это и запрещено домовладельцем.
В дневное время дом залит слишком резким, можно сказать, ледяным светом: окна высоченные, широкие, лестничная клетка и коридоры выкрашены белым, на все ложится отблеск снега с улицы.
— Вы на рояле играть не учились? — спрашивает Лотта новенькую.
— Немного играю, мадам.
— Прекрасно. Сыграйте-ка что-нибудь.
Уже вечером Лотта начнет ей тыкать, но сперва всегда обращается на «вы».
Лотта — рыжеватая блондинка без единого седого волоска, да и лицо у нее молодое. Ешь она поменьше, не давай себе расплываться, и была бы настоящей красавицей, но Лотта не бережет фигуру — напротив, словно радуется, что толстеет, и, видимо, нарочно устраивается так, чтобы пеньюар постоянно распахивался, выставляя напоказ очень крупные, мягкие, дрожащие при каждом движении груди.
— Твои брюки готовы. Уходишь?
— Еще не решил.
Иногда Франк с удовольствием согласился бы проспать целый день, но это невозможно: надо прибрать комнаты, да и клиенты, бывает, звонят у двери сразу после полудня. Правда, приятелей Франка до пяти не увидишь. Для всех, с кем он водится, настоящая жизнь начинается вечером, так что днем ему приходится убивать время в одиночку.
Часто он в халате, неумытый, непричесанный, торчит в кухне, положив ноги на дверку плиты, а то и засунув в духовку, и читает что попадается; когда же за стеной звучат голоса и у него есть охота понаблюдать, взбирается на стол.
Сегодня, сам того не замечая, он отирается возле новенькой, которая играет на рояле — и недурно. Но занят он в действительности не ею. Мысли его непрерывно возвращаются к Хольсту, к Мицци, и это его злит. Он не любит, когда мысли докучают ему, как осенние мухи.
— Франк! Звонят.
Из-за музыки звонок почти не слышен. Лотта убирает утюг и гладильную доску, проверяет, все ли в порядке, бросает Минне:
— Продолжайте.
Затем приотворяет дверь, узнает посетителя и без особого энтузиазма приглашает:
— А, господин Хамлинг, заходите. Оставьте нас, Минна.
И, придерживая рукой пеньюар, пододвигает вошедшему стул.
— Садитесь, пожалуйста. Галоши вам, пожалуй, лучше снять.
— Я ненадолго.
Минна уходит на кухню к Франку. В комнате Берта застилает кровать. Новенькая нервничает, она встревожена.
— Это клиент? — любопытствует она.
— Нет, главный инспектор полиции.
Минна пугается еще больше. Франк сохраняет чуть презрительное спокойствие.
— Не бойтесь. Он мамашин приятель.
Это почти правда. Хамлинг знавал Лотту в молодости, еще девушкой. Было ли что-нибудь между ними? Не исключено. Сегодня, во всяком случае, это мужчина лет пятидесяти, крепкий, не обрюзгший. Видимо, холостяк. А если и женат, супругу не поминает, обручального кольца не носит.
Его боится весь квартал, кроме Лотты.
— Можешь войти. Франк.
— Добрый день, господин инспектор.
— Добрый день, молодой человек.
— Франк, не нальешь ли рюмочку господину Хамлингу? Я тоже с удовольствием выпью.
Визиты главного инспектора всегда протекают одинаково. Входит он действительно с таким видом, словно по-соседски, по-приятельски забежал поздороваться. Садится на придвинутый стул, не брезгует предложенной рюмочкой. Курит сигару, расстегивает толстое черное пальто, удовлетворенно вздыхает, как человек, радующийся случаю погреться и отдохнуть минутку-другую в теплой, благожелательной атмосфере.
Так и кажется, будто он сейчас о чем-то заговорит, о чем-то спросит. Первое время Лотта была убеждена, что он пытается выведать, не происходит ли чего у нее.
В прошлом они и впрямь были знакомы, но на долгие годы потеряли друг друга из виду; к тому же Хамлинг все-таки главный инспектор полиции.
— Хорош! — крякает он, ставя на столик рюмку.
— Лучший, какой сейчас можно достать.
Затем наступает молчание, но оно Курта Хамлинга не стесняет. Может быть, он смолкает умышленно, зная, как это обескураживает людей, особенно Лотту, которая перестает трещать лишь когда у нее набит рот.
Он безмятежно посматривает на раскрытый и такой невинный с виду рояль, на оба столика с маникюрными наборами. Минну он приметил, когда та выходила из салона на кухню. Несомненно, сообразил, что это новенькая: рояль он услышал еще на площадке.
Что у него на уме — никто не знает, хотя об этом уже не раз шли споры.
Он, разумеется, осведомлен о делишках Лотты. Однажды — правда, всего однажды — он появился поближе к вечеру, когда в комнате находился клиент. В салон доносились звуки, не оставляющие сомнений на этот счет.
Сославшись на необходимость присмотреть за рагу, Лотта выплыла на кухню предупредить мужчину, чтобы тот не выходил, пока она не подаст знак.
В тот раз Хамлинг просидел у нее больше двух часов, так и не объяснив, зачем пришел, не извинившись, сохраняя обычную позу, словно и впрямь решил по-приятельски нанести визит.
Уж не знает ли он Минну? Вдруг ее родственники подняли на ноги полицию?
Лотта растекается в улыбке. Франк, напротив, хмуро поглядывает на инспектора, не давая себе труда скрывать антипатию. Лицо у Хамлинга суровое, тело литое, он весь как каменный; тем большим контрастом кажутся иронически поблескивающие маленькие глазки. У него всегда такой вид, точно он подсмеивается над вами.
— Задали сегодня этим господам работу у вас на улице.
Франк ухом не ведет. Его мать с трудом сдерживается, чтобы не взглянуть на него, словно чувствует, что сын имеет какое-то отношение к случившемуся.
— У дубильной фабрики, метрах в ста отсюда, убит какой-то толстый унтер-офицер. Тело всю ночь пролежало на снегу. Вечер он провел у Тимо.
Все это говорится как бы невзначай. Хамлинг снова берет рюмку, греет в ладонях, неторопливо пригубливает.
— Я ничего не слышала! — удивляется Лотта.
— Стрельбы не было. Убили ножом. Один уже арестован.
Почему Франк мгновенно решает: «Хольст!»
Глупо! Тем более глупо, что, как тут же выясняется, речь идет вовсе не о вагоновожатом.
— Вы должны знать его. Франк: это юноша ваших лет, проживающий с матерью здесь в доме. Второй этаж, слева по коридору. Он скрипач.
— Да, я иногда встречал молодого человека со скрипичным футляром.
— Забыл, как его зовут. Он утверждает, что ночью не выходил из квартиры; мать, понятно, твердит то же самое.
Он уверяет также, что ноги его никогда у Тимо не было.
Мы тут ни при чем. Следствие по делу ведут эти господа.
Я слышал только, что скрипку он использовал как прикрытие: в черном футляре, который он вечно таскал под мышкой, обычно лежали печатные материалы. Он, кажется, принадлежал к террористической группе.
Франк даже не моргнул. С какой стати? Он закуривает новую сигарету и вставляет:
— Мне казалось, он чахоточный.
Это правда. Франку не раз попадался на лестнице высокий изможденный парень в черном, со скрипичным футляром под мышкой. Лицо у него было бледное, с красными пятнами на скулах и слишком красными губами; случалось, он останавливался на ступеньках и заходился в кашле.
Хамлинг выразился как оккупанты: «К террористической группе». Другие употребили бы слово «патриотической». Но это ничего не значит, особенно когда имеешь дело с полицейским: что у него на уме — понять трудно.
А что если Курт Хамлинг презирает их с матерью? Не за девиц — это его не интересует, за остальное: за уголь, за связи со всякими типами, за то, что в доме бывают офицеры?
Но предположим даже, Хамлинг что-то задумал против Лотты. Невелика беда! Она сходит к своим знакомым в оккупационной полиции, Франк поговорит с Кромером, а у того руки длинные.
В конце концов эти господа вызовут главного инспектора и посоветуют не рыпаться.
Поэтому Лотта ничего и не боится. Наверно, Хамлинг понимает это. Он посиживает у нее, греется у огня, выпивает рюмочку коньяка.
А Хольст?
Франк точно знает, что думают о них с матерью некоторые жильцы. В большинстве своем они презирают и ненавидят Фридмайеров. У иных при встрече прямо-таки губы от злости дрожат.
Одних бесит, что у Лотты вдоволь угля и еды. Эти, вероятно, сами действовали бы как она, если б могли. Других, особенно женщин и отцов семейств, возмущает ее промысел.
Но есть и такие, что непохожи на остальных. Франк это знает, вернее, чувствует. Они-то как раз самые сдержанные. Даже не смотрят на Фридмайеров, прикидываясь, словно из стыдливости, что не подозревают об их существовании.
Не так ли обстоит дело с Хольстом? Не принадлежит ли он, как молодой скрипач, к подпольной сети?
Нет, маловероятно, хотя Франк одно время подозревал в этом Хольста, видя, как тот внешне спокоен и уравновешен. И еще оттого, что никакой Хольст не вагоновожатый — от него за километр интеллигентом несет. Может быть, он из преподавателей и выслан сюда за убеждения?
А может, сам отказался от места, чтобы не учить тому, что противоречит его взглядам?
В нерабочее время он не выходит из дома, разве что в очередях стоит. Никто их с дочерью не навещает.
Известно ли уже ему об аресте скрипача? Нет — так узнает. Привратник обязательно сообщит всем жильцам, кроме Лотты и ее сына.
А Хамлинг опять замолчал и с мечтательным выражением лица сидит в салоне, посасывая сигару и мелкими колечками выпуская дым.
Пусть он что-то знает или подозревает — какое дело Франку? Хамлинг не посмеет даже вякнуть.
Считаться приходится только с Герхардтом Хольстом, который уже вернулся из очереди и заперся с Мицци в квартире напротив.
Что у них там? Какие-нибудь овощи, брюква, быть может, кусок прогорклого сала, какое изредка попадает на прилавки.
Хольсты ни с кем не видятся, ни с кем не общаются.
О чем они говорят между собой?
А Мицци высматривает Франка, приподнимает занавеску, когда он выходит на улицу, приоткрывает дверь, заслышав, как он насвистывает на лестнице.
Хамлинг со вздохом поднимается.
— Еще рюмочку?
— Нет, благодарю. Мне пора.
С кухни плывет запах чего-то вкусного, инспектор на ходу непроизвольно принюхивается, и аромат тянется вслед за ним по коридору, заползая, вероятно, под дверь к Хольстам.
— Старый дурак! — невозмутимо роняет Франк.
Произведения
Критика
- Адвокат человека: легенды и правда о Жорже Сименоне
- Жорж Сименон. Мегре и совершенно одинокий человек
- Пиррова победа комиссара Мегрэ

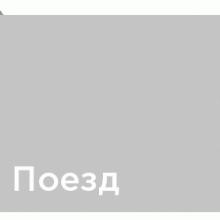











Поділитися