Гёльдерлин и Французская революция
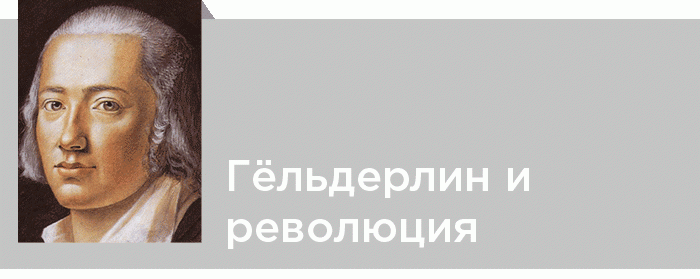
С. В. Тураев
Фридрих Гельдерлин (1770-1843) о своем восприятии Великой Французской революции мог бы сказать, как и В. Маяковский: «Моя революция!» И все же каждому бросится в глаза несоотносимость имен и позиций. Да и любой другой революционный поэт, будь это Гейне или Потье, Гервег или Петефи, как-то не воспринимается в одном ряду с этим ранним (выступившим еще до иенской школы!) немецким романтиком, создавшим свою революционную лирику, поэму и роман на таком поэтическом языке, шифры которого были недоступны пониманию придирчивых и подозрительных немецких цензоров.
Эта зашифрованность, характерная для Гельдерлина, всегда порождала трудности для исследователей. К тому же многие письма поэта дошли до нас с купюрами, которые уже невозможно восстановить. Такого рода цензурные изъятия учиняли сами адресаты, чтобы не подвергать ни себя, ни автора неприятностям. «У писем есть уши», - писал один из друзей поэта. Точнее, уши были у германских властей.
Зашифрованность порождала догадки и гипотезы, а главное, давала почву для формирования искаженного образа поэта, якобы далекого от политических бурь его времени. Так, в большом томе, изданном в ФРГ и посвященном наследию Фр. Гельдерлина, были представлены работы многих выдающихся ученых первой половины века, как отмечено в подзаголовке, «для его оценки в нашем столетии».
В сборник включены статьи Ф. Гуцдольфа, Э. Кассирера, Э. Шпрангера, К. Виетора, Э. Штайгера и др., а также стихи Ст. Георге и Р. М. Рильке. Перед нами мэтры с международной репутацией. За каждым именем стоит целое направление немецкой литературной мысли. Некоторые из них, как Гундольф, кроме того, были известны именно своим обращением к Гельдерлину, более того, в значительной мере именно благодаря Гундольфу Гельдерлин был вырван из забвения.
Статьи, включенные в названный выше том, были посвящены многим важным аспектам наследия немецкого романтика: его философии, в частности концепции природы (Э. Шпрангер), одному из ведущих жанров в его поэтическом творчестве - элегии (К. Виетор), некоторым программным произведениям («Архипелаг», статья Ф. Гуццольфа).
В томе трактуются - с разных позиций - сложные проблемы мировоззрения и эстетики Гельдерлина. Немецкий поэт предстает как гениальный мыслитель, достойный соратник своих сокурсников по Тюбингену - Гегеля и Шеллинга. Исследуется и весь комплекс его мифологических представлений и образов (статья В. Шацевальдта «Путь Гельдерлина к богам»).
Но среди полутора десятка статей и откликов нет ни одной, которая бы трактовала тему революции в его мировоззрении и творчестве. Французскую революцию авторы тома упорно не замечают, как будто ее не было и если она была, то к Гельдерлину не имела никакого отношения. Немецкий поэт приподнят над историческими реальностями его времени и это делается с благородной целью - прославить в его вневременных ценностях.
Традиция немецкого литературоведения была так устойчива, что в публикациях в ГДР 50-х гг., посвященных Гельдерлину, проблема французской революции не была еще поставлена в полном объеме.
В отечественном литературоведении долгое время Гельдерлин оставался вне поля зрения. До войны была издана в русском переводе только «Смерть Эмпедокла» со статьей А. В. Луначарского. (Дореволюционной традиции здесь не существовало.) На русском языке были опубликованы работы Г. Лукача, который раньше всех заговорил о значении французской революции в творчестве поэта.
Проблема «Гельдерлин и революция» в ГДР была впервые намечена в кратком послесловии (ноябрь 1903 г.), опубликованном в сборнике универсальной библиотеки Реклам (Лейпциг, 1904). Этому же автору - Г. Миту - принадлежит обстоятельное исследование «Фр. Гельдерлин. Поэт буржуазно-демократической революции».
Однако значительно раньше во Франции и в ФРГ появились книги французских исследователей Мориса Делорма (1959), Пьера Берто (1969), озаглавленные одинаково: «Гельдерлин и французская революция». Особый интерес вызвала книга Берто. При относительно небольшом объеме она содержит обстоятельный анализ всех доступных биографических материалов, переписки, суждений современников - итог почти 40-летней работы автора. (Первые его публикации о Гельдерлине (диссертационные) датируются 1936 г.)
В предисловии П. Берто отмечает, что, хотя его работа над наследием Гельдерлина заняла почта четыре десятилетья, данное исследование не является простым итогом гельдерлиноведения. Автор заново ставит вопросы, которые до сих пор были в полном забвении (в качестве исключения он называет линь работу Д. Лукача).
Цитируя в предисловии ряд работ, принадлежащих перу известных немецких ученых, Берто расценивает систему их взглядов как «организованную дезориентацию».
В качестве примера автор приводит комментарий Людвига фон Пилено к 3 тому сочинений Гельдерлина (1921.): «Что касается политических взглядов Гельдерлина, то вопрос этот до сих пор почти не ставился и представляется мне вообще беспредметным. Как мало по сути значит, когда его в соответствии с веянием времени называют то роялистом, то якобинцем, ибо у него ведь все и в каждом данном случае возникает из некоего внутреннего побуждения и его реакция на внешние события может быть понятна только с позиций метафизического мышления». Самое поразительное в этом комментарии то, что он, как отмечает Берто, отнесен к стихотворению, которое есть все основания рассматривать как «немецкую Марсельезу». «Так, пожалуй, и французская Марсельеза, может быть понята только с позиций метафизического мышления!», - иронизирует Берто и приводит строки из первой редакции стихотворения: «О утренняя заря немцев, о битва! В пламени и крови ты всходишь над народами, ибо больше терпеть они не могут, - дети, немцы».
Наряду с многочисленными попытками отлучить Гельдерлина от политического мышления эпохи, Берто приводит пример и совершенно одиозной трактовки взглядов немецкого поэта как контрреволюционного - у некоего Е. Г. Винклера, выступившего в 1936 г., т.е. в годы фашизма.
Суть всех этих искажений облика немецкого поэта сводится в конце концов к одному: изъятию его из конкретных исторических обстоятельств его эпохи. Как пишет французский исследователь, «поиски в его сочинениях «великого», «субстанционального», «чистой поэзии» не столько обогащали трактовку творчества поэта, сколько искажали его благородный облик, открывая дорогу всевозможным фальсификациям.
[…]
Уже сказано выше, что образы античной мифологии и примеры из античной, прежде всего греческой, истории, а также философские идеи древности формировали поэтический мир Гельдерлина, в совокупности они предстали своего рода знаковой системой, помогавшей поэту в исследовании современности: «античность как революционный идеал в процессе реального осмысления современности и античность как идеальное убежище в бегстве от современной реальности».
К темам и образам античности немецкие писатели эпохи Просвещения обращались часто, ставя перед собой разные задачи. Была античность Винкельмана, но с ним энергично полемизировал Лессинг, отстаивая свою концепции древнего искусства Много моделей античности предложила литература «бури и натиска», разной она была у Шиллера от «Разбойников» до «Богов Греции» и у Гете от «Прометея» до «Ифигении».
Позиция Гельдерлина резко отделяет его от Гете и Шиллера - веймарских классиков. Суть расхождений в политическом плане очевидна. Берто четко формулирует эту грань. Веймарские классики считали, что надо сначала изменить (образовать, bilden ) человека, тогда и общественные структуры начнут меняться. «Для Гельдерлина решающим является убеждение, что человечество может стать совершенней только в атмосфере свободы (и это чисто якобинская мысль) и что свобода должна быть сначала завоевана, если потребуется, то в борьбе, и второе, что изменение структур в кратчайшие строки (отнюдь не на протяжении многих поколений) преобразует и характер человека, как изменился характер французов всего за несколько лет».
[…]
Образованные люди помнили завет Винкельмана: «Лучшее средство стать неподражаемым, подражать древним». Но этот завет относился исключительно к людям искусства. О подражании чему-либо или кому-нибудь из древних греков в самой жизни речи не было - облик идеализируемой античности был абсолютно несоотносим с тем жизненным укладом, который господствовал в Европе.
французская революция сразу придала античной теме иную тональность и иной масштаб! В Париже и во всей Франции разыгрались такие события, для которых в ближайшем прошлом не было никаких параллелей. Революции в Нидерландах и в Англии по своему историческому смыслу были идентичны, но ни по своему размаху, ни по богатству социального и особенно общекультурного содержания несопоставимы с героическим пятилетием, начавшимся 14 июля. И дело не только в том, что английская революция облекалась в библейские одежды, а с трибуны Конвента звучали имена Гракхов и Брута. Буржуазные революционеры в Нидерландах и в Англии заняты были исключительно национальными проблемами, французы если не с первых дней, то в первый же год заявили другие претензии - стать примером для всех народов. Французская революция представлялась ее авторам и героям как революция мировая, или по крайней мере сигнал к таковой.
Как говорилось в декрете от 20 августа 1792 г., «люди, которые сочинениями своими и своим мужеством служили делу свободы и подготавливали освобождение народов, не могут во Франции считаться иностранцами». Отметим, что речь идет об «освобождении народов!»
И если бы референты Дантона знали о Гельдерлине, он, конечно, попал бы в этот список поборников свободы для всего человечества. Патриотизм, чуждый какому-либо национализму, - это была одна из характерных примет французской революции и это вдохновляло всех ее сторонников в других странах.
Дальний родственник Гельдерлина - Х. Фр. Рейнхард (1761-1837) - десятилетием раньше его также учившийся в Тюбингене, писал 21 ноября 1791 г. Шиллеру: «Я видел во французской революции не просто дело одной нации... но громадный шаг в развитии человеческого духа вообще и счастливую перспективу облагорожения судьбы всего человечества».
И. Кампе восторженно сообщал в «Письмах из Парижа в годы революции»: «Всякие национальные различия, всякие национальные предрассудки рушатся... Французы добились человеческих прав, которых они были до этого лишены; но и мы со своей стороны чувствовали себя людьми». Но еще раньше, вскоре по прибытии в Париж, Кампе писал: «Неужели это правда, что я в Париже? Что вокруг и рядом со мной я вижу новых греков и римлян, которые всего несколько недель тому назад были еще французами».
Он, конечно, не просто отражал те или иные идеи, облаченные французами в античные одежды. У него была своя политическая мифология, кстати, в отличие от французов более ориентированная на греческую, а не на римскую древность. Но его мысль формировалась и развивалась в таком направлении, что в ряде случаев он предвосхищал события, а не просто шел по их следам. Н. Я. Берковский остроумно заметил: «Словесные празднества у Гельдерлина предваряют празднества, позднее на деле устроенные в Париже». Речь идет о том, что в первые годы революции Гельдерлин пишет оды человечеству, красоте, свободе - «по оде в пользу каждой сущности и каждого божества, впоследствии узаконенных Робеспьером».
Исследователи нередко пытаются точнее определить политическую позицию Гельдерлина, оперируя понятиями и терминологией французских революционеров: считать ли его жирондистом или якобинцем. Такая постановка вопроса едва ли правомерна. Гельдерлин - не политический деятель с четкой программой действий. О нем можно говорить как о политическом мыслителе лишь в рамках его философской и эстетической системы.
Гельдерлин учился в 1788-1790 гг. в Тюбингене на теологическом факультете (вместе с Гегелем - в общежитии они жили в одной комнате - и с Шеллингом). Стены этого закрытого учебного заведения не были препятствием для общения с внешним миром, в котором разыгрывались всемирноисторические события. Обычно биографы сообщают о том, что названные выше знаменитые питомцы теологического заведения сажали дерево Свободы - это было символическим жестом поддержки идей французской революции на ее раннем этапе. Но на протяжении целого столетия в западной науке умалчивали о другом: Гельдерлин входил в состав тайной организации, которая имела задачей если не поднять восстание, то по крайней мере оказать поддержку французским революционным войскам (подробнее об этом см. в упомянутых работах французских ученых П. Берто и М. Делорма. Характерно, что Лукач в 1938 г. этого факта еще не касается). Герцог вюртембергский, в ведении которого находился университет, однажды неожиданно явился, чтобы самолично изоблачить тех, кто сочувствует «французским бандитам», но среди молодых теологов не нашлось предателя. Кстати, герцог появился в Тюбингене, встревоженный посланием австрийского правительства, которое выражало беспокойство по поводу «ультрадемократического духа», получившего распространение на факультете».
В отличие от Шиллера и некоторых других немецких деятелей, события, связанные с якобинской диктатурой, существенно не отразились на позиции Гельдерлина. Конечно, он знал о терроре и осуждал его, но считал это отступлением от принципов революции и сохранял приверженность этим принципам, как он их понимал. В этом те смысле показательна и эпиграмма, направленная Гете, о чем говорилось.
О том, насколько рискованна была в тогдашней Германии эта активная симпатия, которую проявлял к революции Гельдерлин, свидетельствует послание, которое адресовал ему Гегель, во многом (хотя не до конца) разделявший его взгляды, но искренне опасавшийся за судьбу своего друга.
В августе 1796 г. Гельдерлин находился где-то в пути, в районе Касселя. Адрес был по-видимому приблизителен, как объясняет П. Берто, Гегель проявляет осторожность - письмо могут вскрыть! - и предпринимает двойную маскировку: во-первых, пишет в стихах, а во-вторых, пользуется образами греческой классики. Это - призыв к осторожности, сдержанности в своих речах и письмах».
Роман Гельдерлина «Гиперион, или Отшельник в Греции», опубликованный при активном содействии Шиллера (т. 1 - 1797; т. 2 - 1799) имеет значение итога - эстетического и общественно-политического, поэт размышляет над судьбами Германии и Европы после завершения французской революции.
Но эта внешняя канва событий составляет лишь один уровень сюжета, при этом не самый главный. Совершенно иной уровень - социально-философский и психологический.
«Гиперион», как отмечено выше, роман лирический, но герой неидентичен автору, но вместе с тем глубоко автобиографичен - и опять-таки не в смысле участия в каких-то конкретных описываемых в романе событиях. Читатель может понять автора, если примет его правила игры, будет исходить из того, что это - не исторический роман, что перед ним разыгрывается не то или иное реально происходившее событие, а романтическая притча, в которой все приметы места и времени, описания местности, какими бы подробными они не были, герои и их судьбы определяются не обстоятельствами, а столкновением идеала и действительности. При этом действительность не в ее конкретном выражении, а в ее, так сказать, глобальном измерении. Горы, долины, реки и море, омывающее побережье Греции, все это лишь блистательно выписанный местный колорит, красочная декорация для размышлений и чувствований героев. Как отмечает Г. Лукач, Гельдерлин в своем романе «не столько рассказывает, сколько жалуется и обвиняет».
В конце первого тома романа происходит диалог Гипериона и Диотимы, взволнованно лирический, даже несколько выспренный, в котором звучит уверенность, что идеал достижим, - надо только твердо верить в него и упорно работать над его осуществлением.
Первый том романа завершается на патетической ноте. А над развалинами Афин герой ощущает себя «пахарем перед невозделанным полем». «Мир тебе, - думал я... мир тебе, спящая страна! Скоро здесь зазеленеет юная жизнь и потянется навстречу благодатному небу» 364)1(6.
Однако план Гипериона освободить Грецию и восстановить здесь гармонию античного Полиса терпит крушение. Гиперион чуть не погибает от рук самих греков.
В сознании многих поколений читателей и в литературной науке первой половины XIX в. утвердилось мнение об уникальности феномена Гельдерлина в немецкой литературе. В самом деле, в период «царствования» великих веймарцев Гете и киллера, в годы начавшегося романтического движения, во главе которого выдвинулись бр. Шлегели и Новалис, Гельдерлин (как, впрочем, и Жан-Поль) шёл своим особым путем. И хотя в печать его продвигал преимущественно Шиллер, ни он, ни Гете, как уже отмечено, не смогли достойно оценить его гений; иенские романтики вообще его не заметили и, естественно, не попытались привлечь его в свой кружок.
Но одиночество и изолированность фигуры Гельдерлина вытекали из самого социально-политического контекста тогдашней Германии. «Героическая бескомпромиссность Гельдерлина неотвратимо вела его в тупики отчаяния» (Г. Лукач). И только теперь, в исторической перспективе, очевидно, что в общеевропейском контексте Гельдерлин отнюдь не был таким уникальным исключением. Историки литературы, в частности, называют имена Китса и Шелли. В судьбе Китса они видят некоторые черты, внешне роднящие его с Гельдерлином. Правда, это сопоставление иногда дается в широком диапазоне поэзии, обращенной к античному наследию, включая Гете и Шиллера. Н. Я. Дьяконова, в частности, ссылается на работу американского литературоведа Манна, который сопоставляет «Гипериона» Гельдерлина и «Эндимиона» Китса.
Эти факты и явления из другой литературы, при этом более поздней, подчеркивают логику исторического и поэтического мышления на относительно значительном отрезке времени, помогают понять место Гельдерлина не как некоего историко-литературного раритета, а как звена в цепи. Во-вторых, они помогают точнее представить специфику мировоззрения Гельдерлина, то сочетание героики и элегии, которое продиктовано специфическими условиями деятельности поэта в стране, которая не разделяла с Францией революцию, но разделяла реставрацию.
Трагическая судьба Гельдерлина по своему уникальна и в то же время несет на себе отпечаток тревог и надежд своего времени.
«Французская революция, - говорит Берто, - это тот великий контекст, в который вписывается личная судьба Гельдерлина, он придает ей свое собственное величие, свой неповторимый резонанс и свою глубокую реальность, без которого Гельдерлин необъясним и просто непонятен».
Л-ра: Романтизм: вопросы эстетики и художественной практики. – Тверь, 1992. – С. 4-13.
Произведения
Критика
- Античный код в мифопоэтической системе Фридриха Гёльдерлина
- Гёльдерлин и Французская революция
- Жанровое своеобразие романа Гёльдерлина «Гиперион»

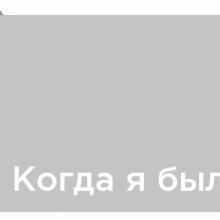
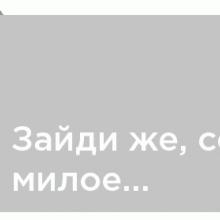










Поділитися