Особенности творческого метода К. Л. Иммермана-драматурга
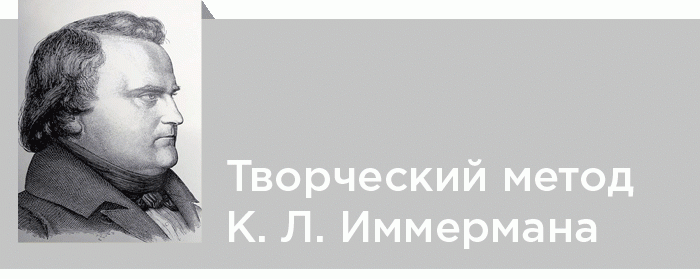
В. И. Черненков
Литературная деятельность Карла Леберехта Иммермана (1796-1840 гг.) началась в сложную историческую эпоху, когда после развернувшейся в Европе начала XIX века консолидации реакционных сил и широкого национально-освободительного движения ломались привычные общественные отношения, происходило крушение идеалов, распространялись религиозные откровения и мистические искания, когда возникали скептические настроения и усилилось трагическое восприятие жизни. Новому поколению, сменившему «бурных гениев», стали тесны рамки точно установленных «благоразумных требовании нравственности» и поэтических правил просветительского XVIII в. Литературно-идеологической формой мышления стало субъективно-идеалистическое восприятие действительности. Творческая энергия новых гениев была обращена не к тому, что устроено по законам разума, а к тому, что более согласно с природой. «Поэт ... должен советоваться только с природой, истиной и своим вдохновением, которое также есть истина и природа», — отмечал В. Гюго в предисловии к драме «Кромвель».
История романтической школы трактовалась литературоведами XIX в. как «литературная революция», которая «была сознательно задумана романтиками и ... произвела решительный переворот в литературе»: критическому пересмотру подверглась поэтика не только отдельных жанров, но и целых родовых структур. На авансцену литературной жизни вместе с автобиографической и интимной лирикой вышли «субъективнопрозаические» формы: письма, дневниковые записи, журналы путешествий и др. В связи с этим в немецком литературоведении появилось мнение, что в эпоху романтизма в силу ее идейно-философских особенностей драматические жанры потеряли свое значение. Мы придерживаемся иной точки зрения: при всей «субъективации» действительности, шедшей от провозглашенной Фихте идеи абсолютного «я», новая историческая ситуация, наполненная драматическими коллизиями, способствовала развитию драматических жанров, так как драма, по убеждению романтиков, — это тот жанр, который по своей специфике лучше всего передавал драматизм переходной эпохи, способен был лучше «выразить то, чего хочет девятнадцатое столетие». В драме было представлено все пестрое зрелище жизни, изображалось «не только ближайшее окружение, но и далекая перспектива».
Драматургия в Германии начала XIX в. развивалась в нескольких направлениях. Во-первых, большой популярностью продолжала пользоваться мещанская драма, обращенная не столько к разуму человека, сколько к его чувству. Основной тон диалога («сентиментально-величественные фразы в бюргерском вкусе») и принципы построения сюжета были обусловлены открыто декларируемой тенденциозностью. Слезами и добродетельными поступками искупают свою вину персонажи пьес «Примирение двух братьев», «Вязальные иголки», «Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу; доброе сердце исправляет пороки и заблуждения («Преступление из тщеславия», «Охотники» Иффаланда); виновные получают прощение и т. д. Зоден, Иф-фланд, Коцебу, Раутгах и др. предлагали зрителям пьесы о трогательном, даже «бедственном» происшествии, связанном с неприятностями по службе, ссорами и заботами о пропитании, то есть все то, что «с утра до вечера» происходило в их доме.
Мы не отрицаем наличия в пьесах подобного жанра некоторой критической направленности, в частности, антифеодальных мотивов. Но в любой из «семейных картин» сословные противоречия сглажены, классовые мотивы подменены моральными. Пруц справедливо называл мещанскую драму «по-домашнему уютной», «в шлафроке и туфлях», а Л. Берне говорил о ней как о фальшивой драме, так как «она рисует несуществующих благородных князей, верноподданных крестьян, добрых пасторов и учителей».
В сравнении с мещанской драмой эмоциональная сфера романтических пьес определялась не желанием пробудить в зрителе чувствительные порывы, а стремлением вызвать в нем глубокие духовные переживания. Поэтому простое изображение человека, его страстей и поступков признавалось романтиками недостаточным. «В поэзию должно быть привнесено иероглифическое изображение окружающей природы, просветленной фантазией и любовно», — провозгласил Ф. Шлегель, автор теории «мифологической, драмы». По его мнению, мифология есть «средоточие поэтического искусства», а «племенной искрой всякой поэзии должна стать гармония идеального и реального». Первыми художественными опытами в области «мифологической драмы» стали «Аларкос» Ф. Шлегеля и «Ион» А. Шлегеля, созданные по идеалу Эсхила и Эврипида, но «с романтическим содержанием и в романтическом костюме». В них, как и в драмах Тика «Жизнь и смерть святой Геновевы», «Император Октавиан» и «Фортунат», ставших, по мнению С. С. Мокульского, «своеобразной реализацией ... проектов Шлегелей», мало собственно драматического: действие в обычном смысле этого слова вытеснено эпической объемностью повествования, лишено динамики и присущей драматическим жанрам сценичности.
Мотив языческого обожествления человека, положенный Ф. Шлегелем в основу «мифологической драмы», в дальнейшем сменился христианскими мотивами чести, греховной страсти, идеей религиозного искупления и мистикой, которые вылились в немецкой драматургии начала века в форму сомнамбулизма, стихийной страсти и панического страха смерти. Мысль о беспредельном, окружающем человека, и невозможности постичь его во всей полноте сформировалась в сознании немецких романтиков как «предчувствие бесконечного в видимом и воображаемом». Это мистическое представление о человеке и окружающем его мире, который, по мнению романтиков, «материализуется» в сознании людей в форме ночных видений или «знаменательных» голосов, в итоге было определено как судьба и легло в основу романтической «трагедии рока».
Тема рока появилась в немецкой литературе как следствие тенденциозного взгляда на человека, чья жизнь, якобы, находится во власти каких-то потусторонних сил. Поэтому действие в «трагедии рока» всегда окутано таинственностью, враждебной всему человеческому, и происходит в мрачных замках, крестьянских хижинах и дремучих лесах. Гаснущие свечи, слабый свет лампады, бледные лица и лихорадочный блеск глаз, блуждающие тени дополняли впечатление таинственности и «непрочности» бытия, неотвратимо приближающегося возмездия. Мелодические церковные перезвоны, суеверия, безумие и убийства утверждали мотив господствующей над человеком судьбы.
Мещанская и «мифологическая» драмы, романтическая «трагедия рока» воспитывали в немецком бюргере покорность установленному порядку, уводили его от актуальных проблем времени. Поэтому борьба за новое драматическое искусство, отвечающее запросам революционного времени, стала движущим фактором развития немецкой драматургии 1-й половины XIX в. Прогрессивные драматурги не приняли «слезливой комедии» и «сентиментальной» драмы, отказались от поэтики «трагедии рока». С пародией па мещанский театр выступили Кл. Брентано («Густав Ваза») и Л. Тик («Кот в сапогах»), А. фон Платен создал в
Молодой драматург искал новые пути развития современной ему немецкой литературы, вместе с писателями «Молодой Германии» критически осмысливал традиционные для литературы того времени приемы и принципы создания характеров, развития конфликтов, мотивов и т. п. Поиск завершился двумя интересными романами — «Эпигоны» и «Мюнхгаузен. История в арабесках». Но и первые драматические опыты Иммермана обратили на себя внимание современников. В
В отечественном и зарубежном литературоведении укрепилось мнение, что драматургический период творчества Иммермана носил ярко выраженный романтический характер, что Иммерман-драматург в течение 20-х гг. и первых двух лет 30-х гг. не создал ничего интересного и самобытного, что его эстетическая мысль была лишена в то время сколько-нибудь выраженной самостоятельности. Сулейманов считает, что Иммерман «целиком зависел от литературного климата своего времени. В 20-е гг., в силу распространенной традиции, Иммерман писал драмы и романтические поэмы, в 30-е гг., когда наблюдается оживление интереса к жанру романа, Иммерман обращается к большим прозаическим повествованиям».
К мнению А. Сулейманова близка точка зрения А. А. Серебрякова, который считает, что первые литературные произведения Иммермана «полностью принадлежат романтизму», а «оригинальный» Иммерман начинается после 30-го г., то есть когда драматург обратился к жанру романа. Генрих Мампк называет первые произведения Иммермана «ниже среднего уровня .... а горячие устремления к высоким драмам и идеалу стиха» определяет как «подражательство» и «делетантизм».
Мы придерживаемся иной точки зрения. В сложных условиях общественно-политической, литературной и театральной жизни Германии того времени Иммерман вместе с Гейне, Граббе и Шамиссо укреплял фундамент формирующегося в рамках романтического искусства метода реализма. Его «Путевой журнал», литературные статьи и пьесы 20-х гг. убеждают нас в том, что философско-эстетическая идеология романтизма была чужда писателю, что он критически относился к романтической поэтике. Другое дело, что к реализму драматург шел, отталкиваясь от романтического искусства. Наличие во многих его пьесах романтических образов и мотивов, иногда даже сюжетных линий сомнения не вызывает. Иммерман был оригинален, когда обращался к русской истории, когда обрабатывал античные и средневековые сюжеты, когда в художественной форме обобщал картины исторического прошлого и жизнь современной ему Германии. Просто он не смог подняться до высот своих кумиров, всегда оставаясь в ранге «второстепенного» писателя. Но объективно его творчество было «кладом в развитие переломных, гуманистических и демократических традиций немецкой литературы».
С одной стороны, для него не является обязательным изображение действующих лиц «в путешествии по миру реальному и волшебно-фантастическому», которое, по мнению В. И. Грешных, является одним из ведущих принципов романтического искусства, способствующим утверждению романтического представления об исключительности и превосходстве романтического героя над людьми обыкновенными. С другой — он помещает своих героев в исключительные обстоятельства. Но в каждом случае исключительность положения имеет объективную мотивировку: социальную («Эдвин», «Глаз любви»), социально-политическую («Тирольская трагедия», «Алексей»), эстетическую («Петрарка»), морально-этическую и психологическую («Карденио и Целинда», «Евдокия» — заключительная часть трилогии «Алексей»). Иммерман-драматург осваивал реалистические принципы творчества через преодоление старопрусской идеологии. При этом он не игнорировал художественных открытий романтизма, обогатившего искусство чувством истории, критическим восприятием буржуазной действительности. Драматург использовал в своей практике образ чудесной страны Оберона и Титании, волшебный напиток, роковые страсти, мотив «голубого цветка» и т. д. Но каждый из этих мотивов в творчестве Иммермана утрачивает свойственные романтизму черты. Его герои лишены сверхчувствования мира, они не ощущают себя одинокими, избранными, в их характерах нет романтической меланхолии — источника душевной замкнутости романтического героя. Если Принц в комедии «Глаз любви» печален и утратил интерес к повседневной жизни, если он в своей грусти часто погружается в мир воспоминаний или грезит будущим, то это состояние влюбленного сердца, которое лишено источника своего счастья — прекрасной Аманды, очарованной Обероном, и активно ищет его, своей верой приближая момент желаемой встречи.
Человек с умеренно-консервативными старопрусскими представлениями, Иммерман критиковал романтическую школу за «беспочвенное фантазирование» и призывал «стремиться к реально-прагматическому элементу». Однако вслед за романтиками он моделирует в своих пьесах историческое время, позволяющее ему через прошлое, далекое или недавнее, выйти к характеристике настоящего, соотнести близкие по своей идейнополитической насыщенности страницы истории. Так он поступает в «Тирольской трагедии» и трилогии «Алексей». Но в отличие от немецких романтиков Иммерман не стремится к раскрытию и объяснению тайн мира и человеческого бытия. Создание характера шекспировского типа — вот к чему стремится писатель.
Невозможно однозначно определить характер художественного метода Иммермана-драматурга. Поэтому задачей исследователя в такой ситуации должно стать не «причисление» писателя к какому-то определенному методу или направлению, а стремление понять художественный мир автора, определить особенности его художественного мышления. Именно такого подхода требует комедия Иммермана «Глаз любви».
Действие развивается в двух художественных плоскостях. В центре первой сюжетной линии находится романтический образ Принца. Мы не знаем его имени. Характеристика, дана только по сословной принадлежности, особой, «возвышенной», такой, какую обычно занимает романтический герой. Это его обобщенный тип, авторское представление о нем. Но драматург отказался от абсолютного произвола авторской фантазии, свойственного «чистой комедии». Поступки Принца имеют вполне определенные психологические истоки (устремленность к возвышенному идеалу) и логическую завершенность (достижение поставленной цели). Эта сюжетная линия развивается в спокойной лирической тональности: все акценты действия уже расставлены. Судьба героя известна и особого интереса не вызывает. Чистое фантазирование (романтический мир, которым живет Принц, Оберон и Титания, эльфы и духи, фантастические игры и метаморфозы) не имеют эстетической ценности, так как романтическое восприятие, мира, по терминологии Н. Я. Берковского, — это лишь одно измерение жизни: идеальное, застывшее, а потому полусказочное. Читателя увлекает вторая сюжетная линия, связующим звеном которой является любовная интрига двух королевских советников Тимиана и Зейбольда. Судьба же Принца на некоторое время отходит на второй план.
Образы Тимиана, Зейбольда, хитроумных служанок Оттилии и Виллы, весельчака Иоганна Тюрка свидетельствуют о реалистической направленности комедии. Их речь проста и непринужденна, она лишена витиеватости и романтической приподнятости. Герои вольны в своих поступках, никакие фантастические силы не вмешиваются в их жизнь. В ней, правда, есть неожиданные повороты и острые углы: переодевание Оттилии и Виллы в платье своей госпожи, «злополученные» кольца и золотая цепочка, подаренные девушками своим «кавалерам», случайная встреча «героев» с Фригидой, — но они лишены какой-либо заданности, они правдивы и естественны.
В заключительных сценах последнего акта Иммерман объединяет обе сюжетные линии. Замысел такого сюжетного хода примечателен, так как автор стремился снять свойственный романтической литературе конфликт между отдельной личностью и реальной действительностью. Образ Принца утрачивает былую романтическую мечтательность: достигнув цели, герой входит в мир реальных отношений. Но драматург не сумел быть последовательным до конца: конфликт между романтическим и реальным снимается только в морально-этическом плане (суд над Тимианом и Зейбольдом). С точки зрения философско-эстетической он продолжает существовать; образ Принца несет в себе идею романтического универсализма. Поэтому реалистическая линия теряет свою первоначальную самостоятельность. Финал комедии явно тенденциозный, и его появление кроется не только в старопрусской системе взглядов драматурга, но и в том, что Иммерман, по справедливому замечанию Гейне, не постиг еще искусства «концентрировать» все богатство' наблюдений.
К созданию напряженного, концентрированного действия драматург приступил в своих трагедиях, где источником развития интриги являются неистовые страсти, приводящие к обману и преступлению. Иммерман был романтиком, когда воскрешал средневековые сюжеты и рыцарские сословные предрассудки, когда насыщал свои трагедии тенями умерших, которые вершат суд на героем, тайнами и роковыми случайностями, вмешательством в судьбу людей сверхъестественных сил, мистическими галлюцинациями, когда использовал мотивы яда, кинжала, любовного напитка и другие художественные приемы, свойственные романтической «трагедии рока». Иммерман был реалистом, когда создавал глубоко индивидуальные характеры действующих лиц, когда изображал ход событий и определял истоки конфликтных ситуаций. Романтические темы, мотивы и образы переосмыслялись, когда драматург начинал концентрировать действие вокруг центральной проблемы. Такова, на наш взгляд, художественная позиция Иммермана в трагедии «Карденио и Целинда».
Трагедия написана на сюжет драмы Грифиуса, обработанный Ахимом фон Арттом в первой части драматической дилогии «Галле и Иерусалим». Роковые страсти Карденио и Целинды у Арнима сопровождаются призраками и видениями, землетрясениями и кладбищенским пейзажем. В трагедии, созданной Иммерманом, идейно-эмоциональное содержание призраков и видений иное: художественные образы потусторонних явлении наполнены протестующим началом и утратили чисто романтические функции. Иммерман использовал только ту часть любовной истории героев, которая дала возможность показать напряженный драматический конфликт: неудержимую страсть, вспыхнувшую в сердце Лизандра к Олимпии и Целинды к Карденио и толкнувшую их на путь преступления. Коварный Лизандр обманом разлучает Карденио с Олимпией и вступает с ней в брак. Карденио, узнав о хитрости Лизандра, обуреваемый жаждой мести, убивает его.
Вторая сюжетная линия — любовь Целинды и Карденио — еще более динамична. Любовь Целинды не имеет разумных пределов. В достижении своей цели она убивает горячо любившего ее Марцелла и из пепла от его сердца с помощью колдуньи готовит напиток, который преподносит Карденио.
На протяжении трех действий сильные страсти, скрытые в психологических глубинах характеров, демонические порывы в душе героев выливаются в бурные, вулканические проявления внешнего действия: неудержимый поток чувств сменяется не менее стремительными деяниями. Лишь в четвертом акте наступает кратковременная эмоциональная разрядка: Карденио встречается с Целиндон, хаос чувств сменяется счастливым союзом двух сердец. Однако счастье, построенное на преступлении, не может быть прочным. Героям не избежать возмездия: перед Карденио и Целиндон появляются тени Лизандра и Марцелла. От ужаса умирает Целинда, Карденио убивает себя.
Казалось бы, драма создана по всем законам романтической «трагедии рока», но характер заимствованных автором сюжетных ходов совершенно иной. Не тени умерших определяют «роковое» начало в трагедии, а внутренние истоки поведения самих героев. Призраки и роковые мотивы имеют второстепенное значение. Доминирует человеческий характер, активный и деятельный по своей натуре. Тени Лизандра и Марцелла — это не совсем явления потустороннего мира, это своеобразно материализовавшаяся в зрительных образах память, которая карает Карденио и Целинду. За что? За всепреступную страсть, жертвами которой оказались Лизандр и Марцелл.
Мы поддерживаем точку зрения С. С. Мокульского, что «Иммерман стремился создать драму «шекспировского» типа», и считаем справедливым мнение Г. Гейне, высказанное им в письме к Карлу-Августу Фарнхагену фон Эпзе от 14 мая
«Роковое» начало будет присутствовать и в последующих его пьесах, но тема судьбы утратит свою ведущую роль. Уступившая первенство судьба еще активна, но изменился ее характер. В романтической «трагедии рока» судьба — это метафизическое явление извне, диктатор, властно распоряжающийся человеческой жизнью. У Иммермана она стала следствием отношений между людьми, производным от трагических столкновений сильных личностей.
Свою философско-эстетическую программу Иммерман изложил в трактате «О бешеном Аяксе Софокла», критически оценивая современный ему театр, где «шумят ... причудливые карикатурные фигуры». В центре внимания молодого критика вопрос: «Где в пьесах можно увидеть ... хотя бы след от глубокого и серьезного взгляда на мир, от проникновения в человеческие отношения, от того, что мы называем мудростью поэта? Где в них радующий нас ... веселый, озорной юмор, смелая фантазия? В этот период усилилось наметившееся в его ранних пьесах неприятие романтической поэзии рока, так как «идея рока ... является формулой древнего лирического мировоззрения и способа изображения», а каждая эпоха создает свои характеры, соответствующие ее конкретным условиям. «Мы не можем больше смотреть глазами греков на положение дел», — заявил Иммерман в
В
В основе сюжета трагедии — действительное событие 1809 года: восстание жителей Тироля против Наполеона. Первые сцены «Тирольской трагедии» — прекрасный образец формирующихся в рамках романтического метода реалистических принципов творчества Иммермана. Отличительная черта этих сцен — эпический размах: действие переносится с постоялого двора в Изсло в кабинет австрийского канцлера, в замок Инсбрука, в лагерь восставших. Каждая сцена динамична, насыщена социально-политической и психологической информацией. Это особенно заметно, когда появляется коллективный образ народа и его предводителя Гофера. Взволнованные пламенной речью своего вождя, тирольские крестьяне сплачиваются вокруг него и заявляют о своей воле бороться с врагом.
Причину восстания, ставшего центром драматического действия, H. II. Верховский объясняет нежеланием жителей Тироля быть «подданными Наполеона», их стремлением «остаться подданными австрийского императора». Исследователь имеет в виду финальные сцены драмы, в которых Иммерман, исходя из своих старопрусских взглядов, показывает, что вторичное восстание тирольцев против Наполеона обернулось бунтом против австрийского двора, и видит в этом истоки трагической вины Гофера и причину гибели в этой борьбе целого народа.
В этой связи С. С. Мокульский называет «Тирольскую трагедию» пьесой, отягченной «антиреволюционными мотивами».
Согласны, что некоторые сцены последнего акта трагедии, особенно монологи Гофера, укоряющего себя за «самовольные» действия, позволяют сделать подобные выводы. Тем более, что сам автор в предисловии к трагедии считает невозможным «обеспечить на длительное время» результаты любого восстания. Но мы склонны рассматривать «Тирольскую трагедию» созвучной революционному XIX в. Убеждают нас в этом следующие обстоятельства.
Когда Гофер призывает народ сохранить Тироль для своего императора, со всех сторон раздается: «Но император отказался от страны», «Он нас оставил». В народе пошатнулась вера в императора, в силу его власти. Не ожидая решения австрийского двора, тирольцы своим непреклонным стремлением к свободе воодушевляют Гофера на продолжение боевых действий против Наполеона. Еще в большей степени контраст между повседневным героизмом тирольцев, их волей к борьбе и лжепатриотизмом двора императора передан Иммерманом во второй редакции трагедии. Подлинным художником-реалистом он становится, когда создает образы представителей феодально-аристократических кругов. Прежде всего это император Вильгельм III, испугавшийся размаха тирольского восстания и призвавший Гофера подчиниться воле Наполеона; это и австрийский канцлер, презрительно отзывающийся о тирольских крестьянах; и священник Допай, который ради собственной выгоды способствует трагическому финалу тирольского мятежа.
О революционной направленности трагедии свидетельствует постоянно звучащий мотив меча. Симптоматичен в этом отношении образ Ангела, пришедшего к спящему Гоферу и вручившего ему меч как символ борьбы за свободу. Образ Ангела — это не романтический символ, указывающий на разрыв с действительностью, как у романтиков, и не произвольный знак, условно обозначающий явление. Он есть носитель этого явления, а потому идейно-тематически связан с ним. Его появление перед спящим Гофером — это своего рода материализация желания руководителей восстания активизировать действия вождя.
Образ Гофера задуман автором как художественное выражение своих старопрусских идеалов, как носитель верноподданнической идеологии, нарушение которой определило бы суть трагической вины героя и причину его гибели. Эта заданность характера снижает эстетическую ценность образа и вскрывает противоречия, свойственные в этот период самому Иммерману. Гофер велик, когда его желание едино с волей народа, и жалок, когда, следуя своим верноподданническим чувствам, отказывается от борьбы и в ожидании письма от Вильгельма III замыкается в собственных душевных переживаниях. Поэтому его образ получает драматическое звучание не столько в результате воздействия каких-то внешних сил или обстоятельств (потерянное письмо, видение Ангела), сколько как следствие его напряженной и противоречивой внутренней деятельности, источником которой является борьба между желаемым и должным. В итоге должное подавляет желаемое: когда письмо было найдено и Гофер узнал волю своего императора, патриотический порыв сменился раскаянием. Андреас пытается объяснить случившееся. В одиночестве он размышляет о том, что причина его преступления перед императором кроется не в нем, а вовне, в трансцендентальных проявлениях, и сознательно обрекает себя на гибель. Такой финал разрушает художественное единство трагедии. Развязка действия вступает в конфликт с ходом его развития, с содержанием массовых сцен, с общей идеей самого произведения: возвышенным и благородным «стремлением народа освободить свое отечество от иноземного ига».
Трагическая вина Гофера много шире, чем только в его неподчинении реакционным силам истории. Образ страдающего отечества, появляющийся в пятом действии трагедии, дает основание говорить о том, что вина Андреаса — в его презрении интересов своих соотечественников. Этот скрытый в психологическом подтексте мотив, который революционизирует трагедию и служит источником ее популярности среди парода, определяет основную тональность финала, лишенного пессимистической окраски: гибель героя воспринимается в свете приобретенного опыта, па фоне исторической перспективы. Слабость драматурга — в его собственной позиции, когда автор один на один остается со своими старопрусскими взглядами, которые вступают в конфликт с художественным миром трагедии. Поэтому образ Гофера — это поражение автора.
Заслуга Иммермана в том, что он обращается к исторической действительности своей родины: в «Тирольской трагедии» ожили картины освободительной борьбы немецкого народа. Национальная история предстала как целостный эстетический объект, который становится для автора единственным источником творческого вдохновения, источником развития его творческого метода.
Л-ра: Проблемы метода и жанра в зарубежной литературе. – Москва, 1986. – С. 65-78.
Произведения
Критика











Поділитися