Кристоф Хайн. Чужой друг
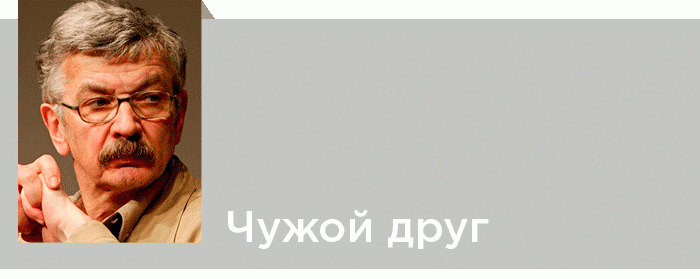
(Отрывок)
Сначала появляется незнакомый ландшафт.
Вдали — зелень кипарисов, узкая полоска на фоне хрустально-ясной пустоты. Ближе мост, повисший над пропастью над ущельем, на дне которого течет ручей, у самого моста — движение напоминает проезд кинокамеры — видно, что он разрушен, остались развалины. Две стальные балки протянулись над зияющим провалом. Перед ними в нерешительности стоит человек. Кажется, это я сама. Рядом спутник. Я оглядываюсь. Лицо спутника неотчетливо, но это мой знакомый, мой друг. Он показывает рукой — нужно перебраться на противоположную сторону. Назад пути нет. Впереди пропасть. На дне ее — обломки скал, заросли дрока и едва угадываемый ручей. Мы ступаем на мост. Меня знобит. Первые три-четыре шага я цепляюсь за перила. Потом они кончаются. Мост нелепым обрубком торчит над пропастью. Мой спутник встает поперек балки и протягивает руку. Он продвигает на несколько сантиметров одну ногу, затем другую. Я снимаю туфли, беру его руку, левая нога ощупывает землю, балку. Его рука влажна от пота. Отпусти, мысленно прошу я. Каждый сам по себе. Но у него мертвая хватка, он не выпускает мою руку. Я не отрываю глаз от дальней полоски зелени, чтобы не смотреть вниз. Стоит посмотреть — упаду. Мы делаем первые шаги по балке, которая кажется бесконечной. Идем медленно. Вдруг я замечаю какое-то движение, какой-то промельк среди зелени. Неясные из-за дрожащего марева силуэты неожиданно становятся четкими и резкими на фоне ослепительного сияния. Из кипарисовой рощи один за другим показываются пятеро бегунов. На них белые шорты и майки с зигзагообразной эмблемой. Я хочу показать их моему спутнику. Я говорю ему, кричу, но не слышу себя. Не слышу собственного голоса. Бегуны приближаются к мосту. К нашему мосту. Их бег красив, ровен точно работа машины. Они молоды, сильны, у них открытые, бодрые лица. Дышат они громко, но не тяжело. Бегуны удивительно похожи друг на друга, наверное, это братья. Пятеро близнецов бегут к разрушенному мосту. Я кричу, чтобы они остановились. Тишина. Мой крик беззвучен. Лица бегунов до ужаса отчетливы. Не то что расплывчатый облик моего спутника. Мне явственно видна каждая черта их мужественных лиц. Бегуны уже у моста. Не замедляя темпа, они бегут по второй балке навстречу нам, пробегают мимо, на другую сторону. Я вижу широкий шаг, ровные махи рук, раскрытые рты, хватающие воздух, но звуков не слышно. Немая сцена. Спутник крепко держит меня. Его ногти впиваются в мою руку. Мы окаменели. Вторая балка еще дрожит, но уже тише. Можно идти дальше. Или лучше назад? Но назад повернуть нельзя, мы должны попасть на ту сторону. Только теперь стало еще страшнее. Затем видение исчезает. Вместо него — туман, тьма, ничто. Вдруг включается звук. Ровный шаг бегунов, словно четкий ход часов. Поскрипывание балки, тихий свист. Под конец он звучит протяжно, высоко. Без картинок. Асинхронно.
Потом, гораздо позднее, я пытаюсь восстановить увиденное. Реконструировать. В надежде разглядеть, понять. Однако мне по-прежнему не ясно, что это было. Сон? Или смутное воспоминание? Видение остается неуловимым и в общем-то непонятным. Однако среди того безымянного и необъяснимого, что есть во мне, оно продолжает существовать и даже успокаивает. В конце концов, желание найти разгадку проходит. Меркнет. Поверх наслаивается реальность более конкретная, переводные картинки будней — пестрые, крикливые, быстро стирающиеся в памяти. И потому целительные. Помнится только тот страх и чувство беспомощности. Непостижимые и неизгладимые.
1
Даже в день похорон я поначалу не знала, пойду ли на кладбище. Неизвестно, какое настроение будет потом. На всякий случай достала из шкафа демисезонное пальто с небольшим кроличьим воротником. Оно было темно-синим, почти черным. Надевать его летом, конечно, нелепо, но и ходить целый день в темном костюме не хотелось. А появляться на кладбище в светлом платье, если я впрямь туда пойду, тоже неудобно. Пальто служило как бы компромиссом. Перекинув пальто через руку, я закрыла ключом дверь.
На лестничной клетке пришлось ждать. Между дверей обоих лифтов стоял офицер из квартиры фрау Рупрехт. Он не отрывал пальца от кнопки. На руке у него тоже висел плащ, точнее дождевик, который носят военные. А может, он был полицейским. В форме я не разбираюсь. Из-под дождевика выглядывал «дипломат». Когда я подошла, офицер молча кивнул и вновь нажал на кнопку, нервно постукивая носком сапога в стену.
Из глубины шахты послышался шорох, стальной трос многообещающе дрогнул — надежда, с которой легче ждать. Наконец, за дверным окошком показался свет. Офицер открыл дверь и вошел в кабину, где уже кто-то был. Прижав к себе свернутое пальто, я втиснулась следом. Неподвижные чужие лица. Безмолвный спуск вниз. Дважды лифт останавливался, хотя никто не входил и не выходил. Я молча смотрела на соседей почти в упор, и те разглядывали меня так же молчаливо и пристально. Невольный контакт, в котором участвуют все органы чувств, особенно неприятен для обоняния.
Внизу я заглянула в почтовый ящик. Там лежали только газеты, письма доставляются позднее. На доске объявлений все еще висел листочек с траурной рамкой. Стандартный бланк, куда от руки вписаны фамилия, место и время похорон. Кто-то прикрепил его кнопкой. Наверное, домоуправ. Видимо, извещение доставлено по почте. Когда-нибудь такое извещение придет о каждом жильце, о каждом, кто здесь умрет. Это одна из разновидностей общения домоуправа с жильцами — вроде починенного крана или двери, которую он открывает отверткой и плечом, если она случайно захлопнулась.
Не думаю, чтобы кого-нибудь это извещение особенно тронуло. В нашем доме умирают слишком часто. Да и живет тут слишком много стариков. В подъезде каждый месяц висят бланки с траурной рамкой по три-четыре дня, пока не снимут. Вряд ли у Генри были здесь знакомые, кроме меня. Он бы сказал мне об этом.
Я положила пальто в машину и поехала в поликлинику.
Под дверью моего кабинета лежала записка. Главврач просил сходить с ним после обеда к бургомистру. Шеф напросился на прием, так как жилищная комиссия недодала клинике две квартиры. До сих пор жилья нам не урезали. Квартиры нужны для медсестер из провинции. Они едут в Берлин лишь на том условии, что подучат жилплощадь. Не знаю, зачем я понадобилась шефу. Вероятно, он считает, что я все еще отвечаю за социально-бытовой сектор. Но я сдала дела в прошлом году. А может, ему просто хотелось появиться у бургомистра с эскортом. Мы знали, что шеф это любят. Он просил сразу же позвонить.
В четверть девятого прибежала моя медсестра. Карла. Она, как всегда, начала объяснять, что опоздала из-за детей. Она опаздывает каждый день и всегда ссылается на детей. Вероятно, надеется разжалобить меня. Карла принадлежит к женщинам, избравшим для себя роль заботливых матерей. Эдакое волоокое, теплое счастье — мы, дескать, знаем, в чем смысл жизни, этого у нас не отнимешь. Смысл жизни в детях, которые живут ради своих детей, а те опять-таки живут ради детей. Порочный круг. Не является ли продолжение человеческого рода — следствием из неверных посылок? Не подсунут ли этот силлогизм самим дьяволом? Ошибка будет стоить дорого. Зато у жизни есть смысл. Во всяком случае для Карлы. Она уверена, что знает, почему я развелась: муж бросил меня потому, что я не нарожала ему симпатичных карапузов, или у меня недостаточно пышный бюст, или же, наконец, потому, что я не крашусь.
Открыв шкаф, Карла увидела пальто и поинтересовалась, не иду ли я на похороны. Я пожалела, что не оставила пальто в машине. Теперь-то уж точно пойду на кладбище. Бестактность Карлы рассеяла сомнения. От злости внутри у меня все сжалось. Начались обычные разговоры: родственник? Ах, даже друг. Кошмар, совсем еще молодой, ужас-ужас! Как я вас понимаю. Вы очень бледны.
Я сделала вид, будто читаю историю болезни. Карла начала переодеваться. В комнате медсестры стоит картотека и шкаф с историями болезней, поэтому платяной шкаф оказался у меня. Медсестрам приходится переодеваться и приводить себя в порядок в моем кабинете. Карла делает это очень обстоятельно. Она может подолгу разгуливать в бюстгальтере, возиться с пилкой для ногтей или мазаться кремом. Однажды Карла сказала, что она потлива. Одно это слово вызывает у меня отвращение. Пока Карла переодевалась, я позвонила шефу и отпросилась на похороны. Он даже не пытался выразить соболезнование. Я почувствовала некоторое облегчение и добавила, что мои прежние профсоюзные обязанности теперь выполняет новая сотрудница из офтальмологического отделения. (Она у нас работает недавно и не сумела на перевыборном собрании найти убедительную отговорку.) Она моложе и симпатичнее меня, сказала я. Шеф сделал вид, будто расстроен, и отпустил комплимент о моем неиссякаемом шарме. Потом повесил трубку. Карла вышла, я услышала, как она открыла дверь в коридор и вызвала пациента.
Незадолго до обеда пришел господин Дойе. Ему семьдесят два года, он из гугенотов. Жена у Дойе парализована, однако по его словам, он регулярно спит с ней. Старик вообще любит поговорить, за тем и приходит сюда каждую неделю. Он вполне здоров. Минут пять длится болтовня о том, каким мужчиной он был прежде и остается теперь. Потом я выпроваживаю его из кабинета, он идет к Карле или продолжает болтать в коридоре. На прошлой неделе Дойе принес тюбик губной помады и попросил посмотреть при нем. Я выкрутила стержень, который оказался неприличной игрушкой. Старик находил такие штуки забавными. Мы с ним, дескать, знаем толк в этих вещах. Мерзкий тип, но что-то в нем есть. Порой я слушаю его болтовню. А иногда мне становится тошно, и я сразу же гоню его вон.
Дойе завел речь о похоронах. Видно, Карла проговорилась. Старику не терпелось узнать, насколько близки были мы с Генри. Наконец, Дойе вернулся к Карле. Она часто жалуется, только вряд ли его приставания ей действительно противны. С такими женщинами, как Карла, мужчина может позволить себе любую вольность, просто потому, что он мужчина. Во всяком случае, читать нотации Дойе я не собираюсь. Карла взрослая женщина и должна уметь постоять за себя. Надо ли обижать из-за нее жалкого старика, коротающего у нас час-другой до начала телепередач?
Во время обеда шеф пригласил за свой стол новую сотрудницу из офтальмологии. Он подмигнул мне и незаметно кивнул на нее. Я села на обычное место и принялась за овощной суп. Коллеги уже знали о похоронах и из вежливости задавали вопросы. Но на самом деле никого это не интересовало, поэтому вскоре разговор пошел о другом. У рентгенолога недавно угнали машину. Он купил ее за двойную цену, а проездил всего несколько месяцев. В полиции ему сказали, что машину не найти, и послали в госстрах. Однако страховка не возместит даже номинальной стоимости машины. Последнее время рентгенолог не может говорить ни о чем другом, и большинство коллег тоже. Поймай они угонщика — убили бы на месте. У клятвы Гиппократа есть свои границы. Впрочем, как у всего остального.
После обеда я пила кофе с Анной. Она старше меня на три года. Анна была стоматологом, но несколько лет назад ей пришлось сменить профессию из-за воспаления суставов рук. После переподготовки она работает анестезиологом. У Анны четверо детей и муж, с которым, по ее словам, у них все в порядке, если не считать того, что иногда он берет ее силой. Ему это нужно, утверждает она. Развода Анна не хочет — из-за детей, да и одной остаться страшно. Поэтому терпит. Стоит ей выпить, как она начинает плакать и ругать мужа. Но от него не уходит. Я отношусь к ней сдержанно. Непросто дружить с женщиной, которая смирилась с унижением. Муж Анны, тоже врач, старше ее на четырнадцать лет. Она ждет, что все у него пройдет само собой. Надеется на старческую немощь. Что ж, бывают надежды еще более странные.
В кафе Анна держится чопорно. Фрау доктор пьет свой кофе. Немножко кокетничает с хозяином. Впрочем, если бы он положил Анне руку на плечо, ее бы передернуло. Она показывает новый костюм, черный с лиловым воротником, купленный вчера. Анна говорит, что костюм жутко дорогой, но муж выложил деньги без звука. Цена примирения. Бедная Анна. Может, одолжить костюм? Для похорон он подходит больше, чем пальто. Впрочем, даже таким образом не хочется касаться ее проблем. Пусть разбирается сама.
Анна рассказала о литературном вечере в церкви на прошлой неделе. Автору задавали довольно щекотливые вопросы, но он дипломатично и остроумно уклонялся от ответов. Я старалась не пялиться на ее тарелку. Анна ела уже третье пирожное. Но если сказать ей хоть слово, она до слез расстроится. Я и помалкивала. Пускай ест, фигура ей позволяет.
Мы взяли еще по рюмке коньяку. Потом я попрощалась и пошла к себе за пальто. Карла как раз говорила по телефону с кем-то из пациентов и делала мне отчаянные знаки, чтобы я подождала. Но я жестом показала, что тороплюсь, и закрыла за собой дверь.
В обеденное время машин на улицах мало. Ехать можно быстро. По пути я купила в цветочном магазине несколько белых гвоздик. Чем ближе к кладбищу, тем тягостнее было на душе. Мне пришло в голову, что за целый день я ни разу не вспомнила о Генри. Я и теперь буквально заставляла себя думать о нем, но ничего не получалось. Еще не поздно было вернуться, съездить домой за фотоаппаратом, поснимать где-нибудь. Остаток дня был свободен, а «провожать в последний путь» Генри и сам не любил. Навещать больных или ходить на похороны казалось ему едва ли не вмешательством в чужие дела. Да и пустой тратой времени. Культ покойников — пережиток. Заигрывание с вечностью, в которой мы все еще не разуверились. Злорадный триумф: кто кого несет в могилу? Ведь существуют похоронные бюро, которые справляются со своими обязанностями вполне профессионально. Это ли не оптимальное решение проблемы? Разве личное присутствие так уж необходимо? И зачем? Чтобы продемонстрировать близость к покойному? Откуда это желание быть свидетелем при закапывании в землю или сожжении? Почему это считается долгом? Ведь мертвый уже не тот человек, который был любим. Я надеялась, что похороны будут в Дрездене. Дрезден далеко, и я бы с легким сердцем туда не поехала.
Мотор застучал. Переключив двигатель на холостой ход, я дважды нажала на газ. Не забыть бы потом заправиться.
Машину я оставила на соседней улице, хотя на стоянке перед кладбищем мест было достаточно. Некоторое время я сидела в нерешительности, ни о чем не думая, затем взяла цветы и накинула пальто на плечи.
Перед часовней у входа на кладбище стояли две группы людей. Вероятно, похоронное бюро выбилось из графика, и образовалась очередь. Мне пришло в голову, что я не знаю никого из близких Генри. К какой группе подойти? При моей неприязни к похоронам было бы совсем нелепо участвовать в панихиде по совершенно чужому человеку. Но кого спросить? И как? Простите, вы кого хороните?
Я надеялась увидеть коллегу Генри — все-таки знакомый, который хоть как-то оправдал бы мое появление здесь. Но его не было видно. В замешательстве я остановилась, и все сразу же повернулись ко мне. Томительное ожидание, неловкость, приглушенные разговоры о покойном, о превратностях судьбы и капризах погоды. Круг тем ограничен, новый человек обрывает разговоры, и каждый с облегчением начинает ею разглядывать.
Я достала из сумки сигареты, но тотчас положила их обратно. Курить здесь не принято.
Меня продолжали разглядывать. Нас томил, вероятно, один и тот же вопрос: «К кому? На чью панихиду?» Нужно ли поздороваться? С кем? Я зашла в цветочный магазин сразу за воротами кладбища. Звякнул дверной колокольчик. В круглом павильоне с кафельным полом было сыро, всюду зелень, белые ленты. Стеклярусная занавеска отгораживала подсобные помещения. Через витрину было видно стоявших подле часовни. Вошла продавщица, сухопарая женщина в черном, с глубокими складками у рта. Отпечаток работы, каждодневной близости к смерти.
— Что вам угодно? — Она взглянула на мои гвоздики.
— Вы не могли бы сказать, чья сейчас будет панихида?
— Спросите у служителя.
Голос у продавщицы был усталым. Ее догадка подтвердилась: покупать я ничего не собиралась.
— Где найти служителя?
— Где-то там.
Женщина показала на кладбище. Вернувшись в подсобку, она поглядывала оттуда сквозь стеклярус, пока я не вышла из магазина.
Рассматривая цветы в витрине, я решала, как быть дальше. Может, я попала не на то кладбище и Генри хоронят совсем в другом месте? В отражении витрины я увидела, что дверь часовни отворилась. Я обернулась. Из часовни вышел человечек с кривой шеей. Он что-то сказал, однако слов я не расслышала. Одна из групп зашевелилась и снова замерла в нескольких шагах от часовни. Я подошла к ним, но не успела даже открыть рот, как человек сам спросил меня, не жду ли я панихиду по Генри Зоммеру. Я кивнула. Он сказал, что церемония начнется через несколько минут.
Теперь я примкнула к группе человек в двадцать, взгляды которых сделались еще пристальнее. Одернув пальто, я принялась глядеть попеременно то на свои цветы, то на туфли.
Двери часовни распахнулись, и нам пришлось посторониться. Четверо мужчин пронесли гроб, за ним шли трое молодых людей, все не старше двадцати, с длинными, неопрятными волосами. Я проводила их глазами. Один из парней перехватил мой взгляд. Подняв голову, он коротко посмотрел мне прямо в глаза и ухмыльнулся. Я отвернулась. Двери закрылись, чтобы тут же открыться снова. Сложный церемониал похорон. Человечек с кривой шеей жестом пригласил в часовню. Я вошла последней. Перед алтарем стоял гроб. Принесенные венки и цветы человечек разложил на помосте. Делал это умело, соблюдая определенный порядок: венки разместил по центру, ленты с надписями аккуратно разгладил. Мои гвоздики где-то затерялись.
На передней скамье сидела женщина с двумя детьми. Заметив ее взгляд, я попятилась к задним рядам. В репродукторе раздался легкий щелчок, послышался шорох пластинки, шелестящие приливы и отливы, дрожание воздуха. Потом орган заиграл фугу. Слишком громко. Приземистый человек, видимо служитель, приглушил звук. Он сидел на стуле у проигрывателя. Рядом с алтарем открылась дверца, и появился священник. Он подошел к небольшому пюпитру, положил на него книгу и замер. Вид у него был такой, будто он про себя читает молитву. Через некоторое время священник поднял голову и взглянул на служителя. Затем сдержанно откашлялся. Служитель тоже посмотрел на священника, сделал музыку еще тише, а потом осторожно снял звукосниматель с пластинки. Раздался щелчок, и музыка умолкла. Священник начал свою речь. Он говорил о Генри. На минуту мне пришла в голову идиотская мысль, будто священник зачитывает личное дело Генри, собираясь взять его к себе на работу. Слова священника были благозвучны и изысканны, а голос — красив. Он обратился к вдове, молодой женщине с двумя детьми в первом ряду. Интересно, заметила ли она, какой мягкий у священника голос? Удивительно приятный голос. Уверенный, полный достоинства. Священник был честолюбив, не иначе. Любопытно, изменяют ли священники женам? Я полистала книгу псалмов, лежавшую передо мной. Предписанные песнопения, предписанные жесты. На каждый случай приличествующий ритуал. Вот в чем преимущество традиций. Не надо думать, как одеться.
Когда отправляться буду
и я в свой последний путь,
то я тебя не забуду,
и ты меня не забудь.
Смерть как возвращение к своим? Я не знала, что Генри был верующим. Пожалуй, он и сам этого не знал. Коррективы вносятся посмертно. Попади мое мертвое тело какой-нибудь индийской секте, его обратят в прах на индийский манер. Служитель вновь опустил звукосниматель на пластинку. Жаль, я бы еще послушала священника. «Речист», — приговаривала бабушка, когда ей нравился какой-нибудь мужчина. Священник — из речистых. Бабушке он бы понравился.
Жена Генри опустила голову. Время от времени она что-то шептала детям. Вероятно, делала замечания. Мне была видна только ее спина.
Музыка кончилась. Выключив проигрыватель, служитель поспешил к дверце, откуда вышел священник, открыл ее и махнул рукой. Появились четверо мужчин в засаленных цилиндрах — те самые, что вынесли первый гроб из часовни. Они встали двумя парами. Служитель быстро убрал венки с помоста. Священник, держа требник в левой руке, подошел к вдове, протянул ей правую руку и что-то шепнул, мужчины ловко подняли гроб на плечи. Они сделали несколько шагов, но служитель остановил их. Он, видимо, был чем-то вроде Maitre de plaisir, распорядителя этой траурной церемонии. Священник вместе с вдовой и детьми встал за гробом. Теперь поднялись и другие, разобрали венки и цветы, пристроились сзади. Образовалась траурная процессия. Я сидела в самом последнем ряду, поэтому все уже собрались у выхода, пока я нашла свои гвоздики — на черном сукне они выглядели совсем засохшими. Служитель распахнул двери и дал знак носильщикам.
Путь до могилы казался бесконечным. Носильщики шли по все новым и новым дорожкам между могил. Мне было жарко, но пальто снимать не хотелось. Показалась открытая могила. Гроб поставили на жерди, положенные над ямой Носильщики развернули длинные лямки, протащили их под гробом, взяли лямки на плечо. Один из носильщиков убрал жерди, гроб опустили вниз. Я встала так, чтобы видеть жену Генри. Она все время что-то говорила детям. Священник подвел ее к железной чаше с землей, взял горсть земли и бросил на гроб. То же сделала жена, за ней дети. Они остались у могилы. Бросив свою горсть земли, каждый из присутствовавших пожимал им руки или обнимал.
Земля падала на гроб удивительно тихо. Я ожидала громкого стука, а слышался скорее шорох. «Стук земли о крышку гроба». Где-то я читала такое. Я не знала, обо что вытереть грязную руку. Похлопать ладонями вроде неприлично. Я потерла пальцы, но толку от этого была мало. Подавая руку жене Генри, я почувствовала на ладони землю. Мы взглянули друг на друга. Глаза ее были неподвижны, взгляд полон тоски и ненависти, будто она хотела навсегда запомнить мое лицо. Некрасивая, ожесточившаяся женщина, она до сих пор искала виновного в том, что жизнь так просто разрушила все ее надежды. «Сейчас ударит, — подумала я, — влепит пощечину прямо у могилы мужа». Эта мысль рассмешила меня. Быстро отняв руку, я подошла к детям. Потом мне подал руку священник. Я надеялась, что своим мягким голосом он произнесет какую-нибудь стандартную фразу. Но он просто пожал руку и улыбнулся привычной соболезнующей улыбкой. Жаль. В нескольких шагах от могилы люди собирались вновь. Они ждали окончания церемонии. Я быстро прошла мимо, надеясь, что сама найду обратную дорогу. Спиной я чувствовала взгляд жены. За первым же поворотом я сняла пальто, повесила его на руку и обернулась, но увидела сзади одни могилы и неподвижные пыльные деревья.
Потом я долго ездила по городу безо всякой цели. Зашла в кафе неподалеку от дома, выпила коньяку и попыталась вспомнить Генри. Сакральный акт. Мне казалось, это нужно ради него. За мой столик подсели двое мужчин. Оба навеселе. У одного на правой щеке багровый лишай. Мужчины взяли водки себе и мне. Я отказалась. Мне хотелось вспомнить Генри, мертвого Генри, похороны, мягкий, волнующий голос священника. Но у меня ничего не получалось.
Критика
- Кристоф Хайн. Опасный переход
- Кристоф Хайн. Смерть Хорна
- Оливер Кромвель и король Артур (О двух пьесах Кристофа Хайна: «Кромвель» и «Рыцари Круглого Стола»)













Поділитися