Новые архивные материалы о семье Некрасовых (Грешнево)

А.Ф. ТАРАСОВ
Во время работы в Ярославском областном архиве зимой 1965 года мною были обнаружены неизвестные исследователям творчества Н.А. Некрасова материалы о семье Некрасовых, которые позволяют лучше представить грешневскую обстановку в период детства поэта, лучше понять его стихи.
Материалы эти уточняют, а в некоторых случаях и поправляют принятые в литературоведении представления об А.С. Некрасове и его семье.
Одновременно с выявлением новых материалов мною была проведена проверка-сличение уже использованных исследователями документов со ссылками и толкованиями их в работах некрасоведов. И здесь выявлены неточности и ошибки.
Наиболее авторитетно, обстоятельно и документированно грешневский период биографии Некрасова рассмотрен в первом томе трехтомной монографин В.Е. Евгеньева-Максимова «Жизнь и деятельность II.А, Некрасова». Однако и он, как показала проверка, нуждается в поправках.
Не разбирая мелкие неточности и ошибки, допущенные исследователем при ссылках па документы, остановимся на главном, меняющем суть дела.
Характеризуя отца поэта, А.С. Некрасова, исследователь насчитывает у него «не одну сотню крепостных», а в другом месте уточняет, что число их «едва достигало четырехсот», что помещик содержал «два десятка псарей и два десятка музыкантов», снабженных «инструментами, такими как „во французской гвардии"». Таким образом, А.С. Некрасов предстает перед читателем помещиком средней руки, достаточно обеспеченным и благополучным; имея четыре сотни крепостных, он мог и музыкальные инструменты для крепостного оркестра из Парижа выписать, и себя потешить (одних псарей да музыкантов 40 человек).
Все это действительно было, только в 1850-е годы — через 12-15 лет после отъезда юного поэта в Петербург. Характеристика материального положения Л.С. Некрасова построена на ревизских сказках за 1850 год, письмах его к сыну и воспоминаниях крестьян, относящихся к последним годам его жизни.
Хранящееся в Ярославском архиве дело — «Алфавит о числе душ в помещичьих дачах Ярославской губернии» — говорит о том, что в 1829 году, когда будущему поэту было 7 лет, у его дяди, штабс-капитана Сергея Сергеева Некрасова, числилось 59 душ, у второго дяди, штабс-капитана Дмитрия Сергеева, — 50 душ, а у отца поэта, капитана Алексея Сергеева Некрасова, — 52 души, из которых 45 было в Ярославском уезде и 7 в Романово-Борисоглебском.
Как известно, раздел наследства после смерти деда поэта проводился полюбовно в 1821 году. Тогда-то и достались А. С. Некрасову 52 души, с которых он начинал свое хозяйство. При 52 душах и жил А.С. Некрасов первые 8 лет в Грешневе (до 1832 года — отъезда будущего поэта в гимназию). Не до музыки тогда было Алексею Сергеевичу: из 52 крепостных «мужеска пола» только 23 были взрослыми, вполне трудоспособными, 21 имели возраст до 16 лет, а 8 «душ» к 1829 году уже умерли и только числились по ревизским сказкам. Примерно столько же было тогда крепостных женского пола. Для нас важен именно этот период, протекавший на глазах юного Некрасова. В этих условиях жила вся семья.
В 1832 году умер Дмитрий Сергеевич, и его наследство, в том числе и 50 душ , крепостных, поделили между собою оставшиеся братья и сестры. И в первом случае — после деда, и во втором — после дяди поэта, Дмитрия Сергеевича, крепостных, как увидим дальше, делили по списку — седьмым ревизским сказкам. Делили всех — и живых и мертвых. В 1834 году по всей России составлялись восьмые ревизские сказки. Мне удалось разыскать сказки Алексея Сергеевича. Теперь у него оказались налицо 142 души, в том числе 69 мужских. В 1836 году в «Ярославских губернских ведомостях» появилось объявление о продаже с торгов земли в Романово-Борисоглебском уезде, принадлежавшей губернской секретарше Елене Певшщкои (сестре А.С. Некрасова), «по иску разных лиц и казенного взыскания более 50 тысяч рублей». В 1837 году подобные объявления появлялись еще несколько раз. Очевидно, к этому времени закончился судебный спор из-за наследства бывшей крепостной Некрасовых Федоры, и А.С. Некрасов, одержав верх, стал прибирать к рукам принадлежавшие сестре земли и крепостных сначала в Ярославской губернии, а потом и за ее пределами.
В 1850 году, судя но девятым ревизским сказкам, Алексей Сергеевич владел уже 325 душами в Ярославской губернии. Кроме того, в это время у него появились крепостные во Владимирской и Симбирской губерниях. Сопоставив эти цифры, можно проследить, так сказать, весь период «первоначального накопления» у А.С. Некрасова. Для нас же особенно важны те 52 души (или примерно 100 вместе с женскими), которыми владел он в бытность будущего поэта в Грешневе. Ревизские сказки А.С. Некрасова за 1834 год не были известны. Они сами по себе очень интересны. В сказках других помещиков, по крайней мере тех, которые я видел, крепостные, как правило, называются по своему имени и имени отца — Иван Петров, Петр Степанов и т.п. Фамилий как таковых я не встречал. Не было фамилий и у крепостных дяди поэта, Сергея Сергеевича. А у Алексея Сергеевича половина всех мужчин — глав семейств (15 из 31), помимо своего имени и имени отца, имели еще фамилии, причем многие из них восходят к кличке, часто иронической, язвительной: Степан Степанов Деревягин, Федор Михайлов Дубинин, Егор Федоров Шляхтин, Федор Степанов Жулов, Илья Михайлов Карачкин, Петр Андреев Гундерин и т. и.
По-видимому, клички-фамилии эти давал сам Алексей Сергеевич. В этой связи вспоминается «Осенняя скука» Некрасова, герой которой, помещик Ласуков, от скуки забавляется тем, что не дает ночью спать крепостному мальчику, называя то Храпаковым, то Козыревичем, то Свечкиным.
Ревизские сказки А.С. Некрасова за 1834 год могут служить хорошей иллюстрацией к «Мертвым душам» Гоголя, работу над которыми он начал примерно в то же время. В них встречаются такие записи:
Алексей Дмитриев. Достался по наследству в 1832 году после смерти брата Дмитрия. Умер в 1817 году.
Иван Григорьев Сырой. Достался по наследству в 1832 году после смерти брата Дмитрия. Умер в 1817 году.
Федор Степанов Дубинин. Достался по наследству в 1832 году после смерти брата Дмитрия. Умер в 1820 году
Степан Федоров. Достался по наследству в 1832 году после умершего брата Дмитрия. Умер в 1821 году
Выходит, что все они уже мертвыми при разделе наследства в 1821 году достались Дмитрию Сергеевичу, а после его смерти перешли к Алексею Сергеевичу. Таких «мертвых душ» перешло от Дмитрия к Алексею Сергеевичу 9, да своих к 1834 году набралось 11, Всего получается 20 (Чичикову стоило бы заехать к А.С. Некрасову!).
В.Е. Евгеньев-Максимов, А.В. Попов и некоторые другие исследователи рассказывают в своих работах о судебной тяжбе А.С. Некрасова со своей сестрой за крепостного Степана Петрова, бежавшего еще до раздела наследства и возвращенного уже после того, как крепостные были поделены. При полюбовном решении судьбы крепостного Алексей Сергеевич предложил оценить Степана в 600 рублей и передать ему с условием, что он выплатит остальным наследникам деньгами части, которые им причитаются. Сестра Татьяна предложила 800 рублей и забрала Степана себе, но причитающиеся братьям части не выплатила (она и без того должна была им до 18 тысяч рублей). Тогда Алексей Сергеевич подал в суд л высудил Степана себе «в вечное и потомственное владение». Дело это хранится в Ярославле.
В конце ревизских сказок Алексея Сергеевича за 1834 год приложен отдельный лист — дополнительная ревизская сказка о дворовом человеке Степане Петрове, которая проясняет его дальнейшую судьбу. Судя по сказке, Степан бежал в 1813 году, возвращен из Бессарабии (!) в 1827-м, присужден Алексею Сергеевичу в 1832-м и в том же году «отдан в рекруты без зачета». Видимо, погулявший на воле 14 лет дворовый пришелся не ко двору, стал опасен, и хотя Алексей Сергеевич выплатил за него братьям солидную сумму, он вынужден был «без зачета» сдать Степана в солдаты (по закону казна платила за рекрута не старик; 35 лет, а Степану было 38, и Алексею Сергеевичу пришлось сбывать мужика даром).
В.Е. Евгеньев-Максимов в 1914 году, а вслед за ним К.И. Чуковский и другие исследователи, настойчиво говорят о том, что еще при жизни матери поэта Елены Андреевны, в доме хозяйничала крепостная наложница Алексея Сергеевича, «домоправительница» Аграфена, всячески унижавшая законную хозяйку. К.И. Чуковский даже утверждает, что все это происходило на глазах будущего поэта. Алексей Сергеевич «ввел к себе в дом свою крепостную любовницу и потребовал, чтобы Елена Андреевна угощала ее. Та отказалась. Он побил ее в присутствии сына», — пишет исследователь в биографическом очерке Некрасова.
В.Е. Евгенъев-Максимов, А.В. Попов считают, что Аграфена родом из Кощевки. В.Ф. Чистяков, ссылаясь на воспоминания крестьян Пургина и Паутовой, утверждает, что она родом из Гогулина.
В ревизских сказках А.С. Некрасова за 1834 год числится одна единственная Аграфена — дочь Федора Степанова Жулова из Кощевки. В 1834 году ей было 10 лет. Следовательно, в 1841 году, когда умерла Елена Андреевна, Аграфене было 16-17 лет. Могла ли крепостная девчонка в 16-17 лет захватить такую власть в помещичьем доме? Мне представляется это сомнительным. Тем более этого не могло быть при жизни поэта в Грешневе: Аграфена была моложе его на 2 года, даже в 1838 году, перед отъездом Николая Алексеевича в Петербург, ей было всего 14 лет.
Проверяя, нет ли ошибки в указании возраста Аграфены, обратимся к ревизским сказкам Алексея Сергеевича за 1850 год. В них Аграфена приписана уже к дер. Васильково, числится вдовой, ей 26 лет (как и должно быть). Муж ее. Анемподист Петров, по тем же сказкам умер в 1840 году в возрасте 20 лет. Даже если их поженили накануне его смерти, в момент свадьбы Аграфене было не более 16 лет. В 16 лет она и овдовела.
Утверждение исследователей о том, что Алексей Сергеевич, чтобы покрыть свой грех, выдал Аграфену за немощного мужика, который вскоре умер, по-видимому, справедливо. Однако от жертвы помещичьего «женолюбия» (термин В.Е. Евгеньева-Максимова) до роли «домоправительницы» еще далеко.
В воспоминаниях Полянина, приехавшего, кстати сказать, в Грешнево девятилетним мальчиком, через 11 лет после смерти Елены Андреевны, не говорится, что Аграфена властвовала в доме при жизни матери поэта.
К.И. Чуковский в доказательство своей точки зрения приводит полустершиеся слова, обнаруженные им на полях рукописи Некрасова:
Чай не хорош... и чашку опрокинул,
И Аграфену приказал позвать
И ей ему чай сделать…
Вдруг отец
Сказал: «садись», и села Аграфена И нагло посмотрела на нее
На мать мою...
Но и эти слова, если их даже принимать за точное описание сцены (что сомнительно), не дают оснований для тех выводов, которые исследователь делает: о присутствии сына-поэта здесь ничего не говорится. Самое большее, что можно предположить, это то, что Алексей Сергеевич жестоко оскорбил свою жену, подавшую «плохой чай»: позвал Аграфену, которая пользовалась его «благосклонностью» (и это, очевидно, было известно Елене Андреевне), и посадил ее за один стол с женой.
Утверждение, что Аграфена была фактической хозяйкой в доме при жизни Елены Андреевны, не соответствует действительности. Судебное дело, о котором будет сказано ниже, свидетельствует о том, что в 1842 году, через год после смерти матери поэта, Аграфена не жила еще в барском доме: уезжая в Кострому на несколько дней, Алексей Сергеевич оставил дом на попечение дворового. Будь Аграфена «домоправительницей», надобности в таком поручении ненадежному дворовому, при котором дом обокрали, не было бы.
Очевидно, в эту роль Аграфена вошла в середине 40-х годов, когда Алексей Сергеевич, оставшись один (дети выросли и: разъехались), отбросил всякие условности. Но и после этого, по крайней мере до 1850 года, Аграфена была крепостной. Дал ей «вольную» и записал в ярославские мещанки Алексей Сергеевич позднее.
До сих пор мы очень мало знаем: о самой Елене Андреевне. Алексей Сергеевич поскупился на расходы и портрета ее не заказал. Мы не знаем ее облика, можем смутно представить ее себе только по воспоминаниям крестьян, записанным через 60 лет после ее смерти. Никаких подлинных вещей и документов этой замечательной женщины ни один исследователь не видел.
Среди ревизских сказок 1834 года я нашел листок, заполненный рукой Елены Андреевны. Это ревизская сказка на единственную крепостную — «девку Катерину Андрееву», принадлежавшую «помещице майорше Елене Андреевой дочери, жене Некрасовой». Сказка эта написана женской рукой (сказки на крепостных Алексея Сергеевича писаны другим почерком) и имеет внизу подпись: «К сей ревизской сказке майорша Елена Андреева дочь, жена Некрасова, руку приложила». Пока это единственный подлинный документ — автограф матери поэта.
Слово «девка» не должно нас смущать. В то время оно не носило того пренебрежительного оттенка, какой имеет сейчас. Так, спустя три года, в 1837 году, даже дочь состоятельных родителей, отправляясь за границу, сообщала об этом в газете в такой форме: «Мологская мещанка девка Аксинья Ермолаева Ветрина отправляется за границу» (объявление в «Ярославских губернских ведомостях», 1837, № 27, 2 июля).
По ревизской сказке Катерине было 28 лет. Следовательно, в момент отъезда семьи Некрасовых с Украины ей было 18. Очевидно, эту девушку отправили с Еленой Андреевной ее родители, наказав служить ей и оберегать ее (наподобие пушкинского Савельича у Гринева). Какую роль играла Катерина — единственная живая память о родителях — в жизни Елены Андреевны, как сложилась ее судьба после смерти хозяйки, мы не знаем. Видимо, после смерти Елены Андреевны Катерина перешла в собственность Алексея Сергеевича. Однако в ревизских сказках его за 1850 год (тогда ей было бы 44 года) ни одна Катерина и близко не подходит по годам к Катерине Андреевой.
Лет 15 тому назад при первом моем посещении Ярославского архива один из работников его, Ю.Н. Трыков, рассказывал мне, что в 1950 году, когда он только поступил туда работать, ему попалось в руки интересное дело — жалоба крестьянки на крайне жестокое, бесчеловечное обращение с нею А.С. Некрасова. Его поразило сходство судьбы крестьянки с судьбой героини некрасовского стихотворения «В дороге»: крестьянка была грамотна, где-то училась, а теперь помещик над нею издевается. Дело это не было обработано и описано. К сожалению, Ю.Н. Трыков не отложил его, а потом ни ему, ни мне не удалось это дело отыскать. Я тогда высказал сомнение: откуда у Алексея Сергеевича могла появиться грамотная, образованная крестьянка? Ни школы, ни условий для ученья в Грешневе не было. А теперь думаю: не Катерина ли это? Не она ли, доведенная до отчаяния жестокостью Алексея Сергеевича после смерти хозяйки, кричала о помощи? Не о ее ли судьбе поведал нам поэт в одном из самых первых стихотворений, написанных вскоре после второй поездки в Грешнево?
В Ярославском архиве хранится другое дело, не менее ярко показывающее, до какого состояния мог довести своих крепостных А.С. Некрасов. Это — дело о дворовых людях помещика Алексея Некрасова сельца Грешнева Дмитрие Андрееве и Иване Егорове по подозрению в краже разного господского имущества и о порезании первым самопроизвольно себе горла».
Суть дела в следующем: в июне 1842 года, через год после смерти жены, Алексей Сергеевич отправился на несколько дней в Кострому. Поскольку ни жены, ни детей дома уже не было, он оставил дом на попечение дворового Ивана Егорова. Ночью из дома украли сундук с барским добром (серебро, одежда). Сундук нашли разломанным и пустым в саду. Староста кинулся искать вора, пересчитал всех мужиков — нет дворового Дмитрия Андреева. А он и раньше был на руку нечист. К вечеру его нашли на берегу Волги, в 7 километрах, в Диево-Городищах возле кабака. При нем оказались новые плисовые шаровары и бритва, украденные у соседа, тоже крепостного А.С. Некрасова. Барского добра при нем не было. Беглеца привели в Грешнево. О том, что у Алексея Сергеевича кухня была в отдельном здании, известно давно. Оказывается, на кухне возле печи был специальный «железный столбец» и на нем цепь. Дворового связали и посадили на цепь. Приехал Алексей Сергеевич — начался суд. На шею дворовому накинули петлю из ременных вожжей. Концами вожжей связали руки за спиной. Посыпались удары кулаками по лицу, а когда мужик свалился на пол — каблуки в ход пошли. Тоже по лицу. Принесли охапку палок для наказания...
Не выдержал мужик, взмолился: «Подожди, батюшка барин, отложи наказание до завтра, авось пропажа найдется».
Наказание приостановили, а мужика снова посадили на цепь. Вместе с ним посадили дворового Ивана Егорова, которому было поручено хранить господский дом, — не он ли помогал. На ночь обвиняемому руки развязали. Прошла ночь, а пропажа не нашлась: видимо, обвиняемые барского добра не брали, а настоящий вор не явился. Чувствуя, что расправы не миновать, в отчаянии Дмитрий Андреев схватил лежащий в печурке нож и располосовал себе горло.
К счастью, рана оказалась не смертельной. То ли лекарь оказался поблизости, то ли в город успели отвезти — зашил лекарь рану на горле и отправил мужика в больницу. А раз попал в больницу, дело вышло наружу, получило огласку.
Чтобы выйти сухим из воды, Алексей Сергеевич и подал на самоубийцу и второго дворового, Ивана Егорова, в суд, обвинив их в краже. По требованию суда к делу прислал заключение уездный врач Подгаевский о том, что у Дмитрии Андреева «на шее пониже подгортанного хряща общие покровы поперечно разрезаны длиною слишком на вершок, самое же дыхательное горло было порезано соответственно ране слишком за половину, на левой скуле имеется ссадина кожи затекшая длиной с вершок, а шириною в 3 линии, которая также произошла не иначе, как от действия наружного касания» (каблуки Алексея Сергеевича). В деле, как положено, — показания свидетелей и обвиняемых (смысл их изложен выше).
Дело тянулось с 1842 по 1846 год. Острота его пропала. Гроза над Алексеем Сергеевичем миновала. Лишаться мужиков жалко. Улик нет. Алексей Сергеевич послал в суд хорошую характеристику на обвиняемых. Суд по делу о краже господского добра оставил обоих обвиняемых «в сильном подозрении», но наказания не определил. За кражу у соседа новых плисовых шаровар и бритвы, с которыми дворовый попался, пришлось отсидеть «в рабочем доме» 15 дней. А за великий грех — попытку лишить себя жизни — его еще духовному суду предали.
Так и закончилась эта история. На 21 листе сухого судебного дела во всей его страшной повседневности раскрылся перед нами один из эпизодов грешневской жизни, Не попади мужик в больницу, мы бы ни слова не узнали об этой истории. Кто скажет, сколько подобных историй кануло в Лету? Сколько подобных сцен наблюдал будущий поэт еще мальчиком за 14 лет жизни в Грешневе?
Пока, до времени, они оседали где-то на дне его души. Незаметно для себя он увез их с собою в Петербург вместе с тетрадью романтических стихов. Но страшная действительность встретила его и там — в подвалах, на чердаках, где ютилась беднота. Поэт бросил романтику и начал писать стихи «эгоистические» (выражение самого Н.А. Некрасова), поставив себе задачу во что бы то ни стало вырваться из засасывающей его нищеты.
Летом 1841 года молодого поэта позвали в Грешнево: выходила замуж старшая сестра Елизавета. Он спешил па свадьбу, а попал на свежую могилу матери. Что с ней случилось, мы не знаем. Видимо, была здорова, если затевалась свадьба. Умерла неожиданно.
Ее смерть очищающей грозой прошла над Грешневым, примирила отца с сыном. Поэт прожил в Грешневе и Ярославле с начала августа до поздней осени 1841 года. И мать незримо присутствовала, жила во всем — в вещах, в разговорах и поступках с оглядкой на нее, в режиме дня: никто не смел нарушить установленный при ней порядок. И поэт не почувствовал еще вполне всей глубины, всей непоправимости утраты.
Через четыре года поэт вновь приезжает на родину. Невеселыми «деревенскими новостями» встречает его Грешнево. К могиле матери прибавилась могила сестры Елизаветы, умершей через год после свадьбы. По усадьбе бродит со свежим шрамом на горле неудавшийся самоубийца Дмитрий Андреев (его «дело» закончится в следующем году). В доме теперь уже вовсю распоряжается «домоправительница» Аграфена, перекроившая постепенно жизнь на свой лад. Теперь ей 21 год. Помыкавшись года три один, без жены и детей, Алексей Сергеевич махнул на все рукой и ввел Аграфену в дом «хозяйкой». И теперь все — от расстановки мебели до режима стало иным.
Очевидно, в этот приезд во время псовой охоты, пригласив на нее сына, на, глазах у него, Алексей Сергеевич избил арапником псаря, упустившего зверя. (Сестра поэта, А.А. Буткевич, вспоминая об этом, года не указывает, а пишет «в первые годы». Первый приезд отпадает, так как было бы так и сказано — «в первый год». Третий раз Николай Алексеевич приезжал в 1853 году, когда уже избрал для себя другой вид охоты — с ружьем и собакой в сопровождении кого-либо из крестьян или в одиночку, в псовых охотах он почти не участвовал, да и был-то в Грешневе только проездом). Прибавим к этому предполагаемую трагедию Катерины, и картина получится законченной.
Каких-либо документальных следов от этой поездки в Грешнево мы не имеем. Только на основании косвенных данных исследователи относят ее к августу-сентябрю 1845 года. Если во время первой поездки в Грешнево, в 1841 году, Некрасов написал четыре письма, то сейчас, имея более широкий круг друзей, не отправил ни одного. Если в 1841 году он полон творческих планов — пишет водевиль, работает над повестью, обещает Ф.А. Кони статьи о ярославской литературе, о концерте, то за это время не создает ничего.
В это время поэт стоял накануне решительного поворота, который еще не совершил. Стихи «эгоистические», водевили, проза его уже не удовлетворяют. Под влиянием Белинского, бесед с Герценом (у которого только что побывал), других факторов в сознании Некрасова происходит «переоценка ценностей» — все окружающее проверяется критерием активного гуманизма. И первым этой проверке подвергается родное с детства — все то, что до сих пор принималось бессознательно, как неизбежное, ибо нечего было ему противопоставить. (Заметим, что до тех пор ни в одном произведении поэт открыто не выступал против своего отца; идеологического водораздела, если можно так сказать, между ними проведено еще не было, по крайней мере публично).
Увиденные поэтом «деревенские новости» в совокупности своей ярким светом осветили и прошлую и настоящую грешневскую жизнь; они помогли поэту вдруг прозреть (это «вдруг» готовилось давно), ясно увидеть и оценить отца своего, сущность крепостничества вообще. И не через чужое, постороннее, а через свое горе, через судьбы дорогих ему людей.
Уезжая из Грешнева, поэт бросает по адресу отчего дома гневные слова:
И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства, Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть...
И поэт шлет отчему дому проклятие:
И с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор —
В томящий летний зной защита и прохлада, —
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо, Понурив голову над высохшим ручьем.
И на бок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий,
И только тот один, кто всех собой давил, Свободно и дышал и действовал и жил...
Стихотворение «Родина» относится исследователями к 1846 году. В автобиографических набросках поэт указывает, что начало стихотворения читал Белинскому «около 1844 года». «Возможно, что Некрасов случайно ошибся в дате...». Это «около» было после возвращения из Грешнева.
Вслед за «Родиной» или одновременно с ней поэт пишет «В дороге» и «Псовую охоту». И хотя стихи эти написаны в ином ключе, авторская позиция скрыта в них за внешним беспристрастием, все три стихотворения согревает одно дыхание, одно настроение, один порыв. Поэт нашел свою тему, свое место, свой стих.
Как это часто бывает у молодых, начинающих поэтов, стихи получились автобиографичными: своя, лично пережитая трагедия, своя боль лежит в них на поверхности. Но в том-то и сила настоящего таланта, что за этой личной болью, личной трагедией стоит трагедия всей мыслящей, ищущей, страдающей России.
Потом, по мере развития таланта и сознания Некрасова, общее горе, общая трагедия станут все ярче звучать в его стихах. А найденная им лиричность, умение провести эту общую боль через свое сердце останутся на всю жизнь.
В конце своей жизни умирающий поэт продиктует сестре: «В произведениях моей ранней молодости встречаются стихи, в которых я желчно и резко отзывался о моем отце. Это было несправедливо, вытекало из юношеского сознания, что отец мой крепостник, а я либеральный поэт. Но чем же другим мог быть тогда мой отец? — я побивал не крепостное право, а его лично, тогда как разница между нами была собственно во времени. Иное дело, личные черты моего отца, его характер, его семейные отношения, тут я очень рано осознал свое право и не отказываюсь ни от чего, что мною напечатано в этом отношении».
Читая сейчас эти стихи, мы не видим в них какой-либо позы, мелочного противопоставления Николая — Алексею, сына — отцу. Это поднимающаяся на Руси новая общественная сила — разночинная интеллигенция — устами Некрасова предъявляет счет крепостничеству. Но слова эти лишний раз подтверждают нам автобиографичность этих его стихов.
Источник: Русская литература. – 1967. - № 3. – С. 142-148.

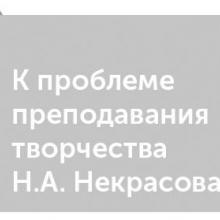











Поділитися