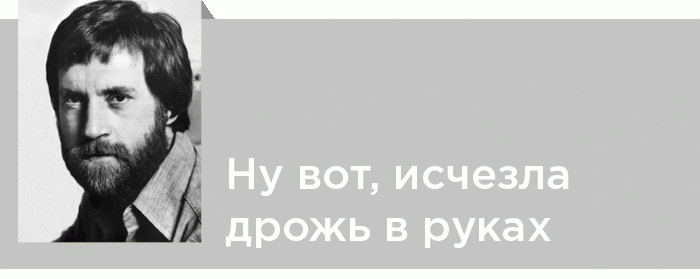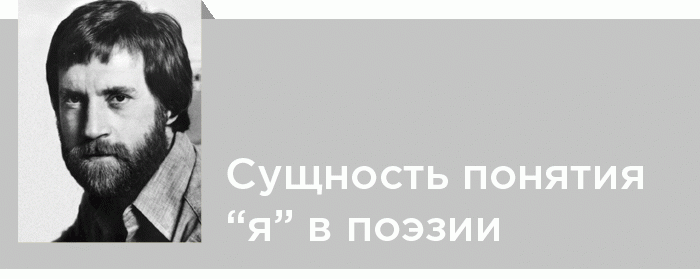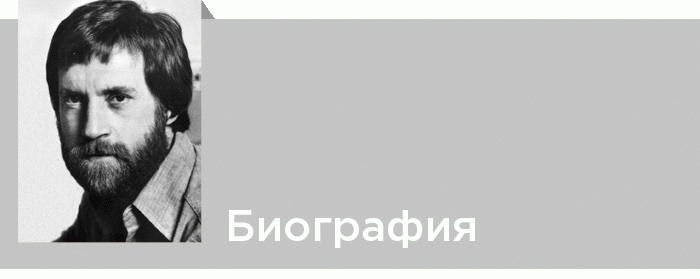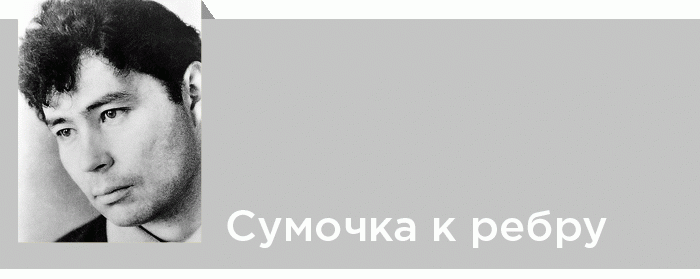Живая вода: Заметки о языке поэзии Владимира Высоцкого

В.И. Новиков
У Леонида Мартынова есть такие стихи: «Вода / Благоволила / Литься! / Она / Блистала / Столь чиста, / Что — ни напиться, / Ни умыться. / И это было неспроста. / Ей / Не хватало / Ивы, тала / И горечи цветущих лоз. / Ей / Водорослей не хватало / И рыбы, жирной от стрекоз. / Ей / Не хватало быть волнистой, / Ей не хватало течь везде, / Ей жизни не хватало — / Чистой, / Дистиллированной / Воде!»
Строки эти невольно вспоминаются, когда размышляешь о языке современной поэзии.
К сожалению, представление о художественном совершенстве нередко связано с интонационной гладкостью, нормативной правильностью словоупотребления, умеренностью в использовании разговорной и просторечной лексики, с отсутствием резких контрастов и неожиданных поворотов в движении речи. Написанные внешне безупречным, дистиллированным языком стихи обладают хорошей «проходимостью», не беспокоят редакторов, не шокируют критиков, но в то же время мало дают уму и сердцу, отнюдь не утоляют духовную жажду читателей.
Стихи и песни Владимира Высоцкого, сразу полюбившиеся массовой аудитории, при жизни автора почти не печатались, и их принадлежность к подлинной поэзии долгое время оспаривалась. Известную роль в этом сыграла ярко выраженная «недистиллированность» речевого состава произведений Высоцкого, их стилистическая неканоничность, непринужденность автора в обращении с языковыми нормами и традициями.
Язык Высоцкого противоречив — как противоречива жизнь, в этом языке отпечатавшаяся. В песнях поэта постоянно открыта граница между сатирой и патетикой; между реалистическим бытописанием и гротеском, между авторской речью и речью разноликих персонажей. В настоящих заметках мы коснемся лишь некоторых особенностей словесного строя произведений Высоцкого, главным образом его поэтических «вольностей», за которыми стоят интересные общеязыковые и общелитературные проблемы.
Начнем с того, что никто из работающих со словом не застрахован от ошибок. На них мы, как известно, учимся, а не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. В песне «Банька по-белому» (цитаты даются в основном по книге Владимира Высоцкого «Нерв» (2-е изд. М., 1982), по текстам, опубликованным в журналах «Дружба народов» (1986, № 10) и «Театр» (1987, № 5), в газете «Московский комсомолец» от 8 мая 1987 года, а также по фонограммам, отражающим окончательные авторские варианты. Автор статьи приносит благодарность А.Е. Крылову, исследователю творчества Высоцкого, за текстологическую помощь) есть строки:
На полоке, у самого краешка,
Я сомненья в себе истреблю.
Конечно, слово полок в предложном падеже имеет форму полке. О том, как приключился у Высоцкого грамматический казус и вообще об истории создания «Баньки» исчерпывающе рассказал В. Золотухин («Как скажу, так и было, или Этюд о беглой гласной» — Огонек, 1986, № 28). Зачем вновь обращаться к этому примеру? Чтобы подчеркнуть, что это едва ли не единственный в практике Высоцкого явный языковой «прокол». В целом же, несмотря на всю свою внешнюю неприглаженность, речевая структура песен Высоцкого непривычна не потому, что она «неправильна», а потому, что сориентирована на разговорную раскованность, на правдивость и полноту в передаче жизненного многоголосия.
Бросается в глаза, что Высоцкий часто «цитирует» своих не очень грамотных персонажей, подтрунивая над ними, юмористически обыгрывая просторечные формы. Так, герой песни «Ой, где был я вчера...» повествует:
...Только помню, что стены с обоями.
Помню, Клавка была и подруга при ей,
целовался на кухне с обоими.
Таких примеров можно привести множество. Но главное своеобразие языка Высоцкого, думается, все же следует искать не здесь, а в тех случаях, когда голос автора и голос героя сближаются, когда живая разговорная речь становится моделью, прообразом поэтических трансформаций языкового материала. Вот лирический герой рассказывает о покинувшей его женщине: Жила-была и вдруг взяла, собрала и ушла...
«Собрала» (вместо «собралась» или «собрала вещи») — усечение, эмоционально вполне оправданное драматизмом житейской ситуации. Или в «Беге иноходца»:
Нет, не будут золотыми горы — я последним цель пересеку.
Цели — достигают, а пересекают — финишную черту. Но сама импульсивность, нервная взвинченность монолога хорошо передается именно непривычным сочетанием.
Большинство героев песен Высоцкого — это люди, остро ощущающие разлад с жизнью, выпадающие из нее и жаждущие вновь обрести единение с миром. Так и многие слова у Высоцкого как будто расстались со своим привычным значением, но еще не нашли нового и окончательно определенного. Вот в «Диалоге у телевизора» Зина обращается к мужу со словами: «А тот похож — нет, правда, Вань,— на шурина...» Но, позвольте, «шурин» — это брат жены, а значит, у Зины шурина быть никак не может. Трудно предположить, что никто из слушателей не обратил внимание автора на это слово в его песне. По-видимому, Высоцкому «шурин» оказался нужнее, чем, скажем, «деверь», который был бы в устах героини более оправдан. Дело в том, что слова, обозначающие степени родства, становятся в наше время малоупотребительными или же используются неправильно. Причем не только среди людей круга Вани и Зины, но и в среде относительно образованной. Попробуйте сказать в разговоре «моя свояченица» или «моя золовка» — будет ли это понятно вашим собеседникам? Тут уже мы соприкасаемся с какими-то социолингвистическими (и, пожалуй, социально-нравственными) закономерностями современной жизни.
В том же «Диалоге у телевизора» Ваня критически оценивает намерение Зины заполучить «короткую маечку»:
К тому же эту майку, Зин, тебе напяль — позор один.
Тебе ж шитья пойдет аршин - где деньги, Зин?..
Аршина ткани, если понимать это слово буквально, не хватит и на короткую маечку. Даже если допустить, что Ваня говорит о шитье не в значении «то, что шьется или сшито», а в значении «отделка, вышивка», — все равно «аршин» — немного, поскольку эта старинная мера длины соответствует всего лишь семидесяти одному сантиметру. В процитированном тексте аршин фигурирует скорее как броское слово в словесном поединке персонажей.
В исторической стилизации Высоцкого «Игра в карты в Двенадцатом году» один аристократ, вызывая другого на дуэль, восклицает: «Вы проходимец, ваша честь, — / и я к услугам вашим». Согласно толковым словарям, «ваша честь» — почтительное обращение низшего к высшему, дуэль же возможна только между равными. Но требуется ли такая мелочная точность в столь игровом, фарсово-театрализованном контексте?
Вот песня совсем на другую тему — «Смотрины», где персонаж сетует:
А тут вон баба на сносях, гусей некормленных косяк, да дело, даже не в гусях, а все неладно.
Вообще-то «косяк» (если речь идет о птицах) — это стая, летящая углом. К домашним гусям это слово не применяется. Но так ли это важно в данном случае? Ведь «дело даже не в гусях», а в том, с какой эмоциональной достоверностью смог автор песня перевоплотиться в деревенского бедолагу, передать общее для многих людей ощущение «неладности» жизни.
В одной из ранних песен Высоцкого — «Татуировка» (недавно она прозвучала с экрана в фильме «Воспоминание») поется: «И когда мне так уж тошно — хоть на плаху...» Привычнее было бы «хоть в петлю», поскольку плаха — помост для казни, а отнюдь на место для самоубийства. Но вот, скажем, в романе Ч. Айтматова «Плаха» заглавный символ прочно связан с семантикой самоотречения, добровольного, а не вынужденного принятия смертной муки. И песня Высоцкого в какой-то мере предвосхищает такое художественное словоупотребление.
Еще одна разработка того же трагического мотива в «Песни о судьбе»: «Когда постарею, / пойду к палачу. / Пусть вздернет на рею, / а я заплачу». Здесь уже плаха была бы месте, поскольку появляется палач. Правда, рея бывает только на корабле, но эта частность так несущественна на фоне безысходно-саркастического: «я заплачу».
Вдумываясь в подобные примеры, мы видим, что Высоцкий брал на себя право — ответственное право, доступное только настоящим поэтам, — присваивать известным словам новые, индивидуально-поэтические значения. Так, он взял узкоупотребительные слова иноходец, иноходь и выстроил из них нравственно-философские символы, властно приписав этим словам новую обратную этимологию:
Говорят: он иноходью скачет, это значит — иначе чем все.
Вот более поздний вариант тех же строк из «Бега иноходца»:
Бег мой назван иноходью, значит — по-другому, то есть не как все.
И образы поэта вошли в наше языковое сознание. Нам уже не отделаться от высокого, «высоцкого» значения вполне нейтральных, казалось бы, слов. Для многих из нас «иноходец» ассоциирутся теперь не столько с ипподромом и конным заводом, сколько с проблемой выбора самостоятельной жизненной позиции.
Высоцкий был убежденным и последовательным «иноходцем» в своем отношении к языку, в своих словесных поисках. Ему глубоко претила всякая инерция: в общественной жизни, в человеческих отношениях, в речи. «Употребляются сочетания словесные, которым мы давно уже не придаем значения», — с досадой говорил он в устном комментарии к одной из песен. У него было очень личное отношение к устойчивым сочетаниям. Так, в песне «Тот, кто раньше с нею был» есть строка: «За восемь бед — один ответ». Предельно стертый фразеологизм вдруг ожил оттого лишь, что «семь бед» сменились на «восемь».
А кто не помнит ставшие фольклорно-нарицательными «семнадцать бед» из песни «На Большом Каретном...»? В «Лекции о международном положении» есть такая строка: «Всю жизнь свою в ворота бью рогами, как баран...» Здесь но просто вольное обращение с фразеологизмом «смотреть, как баран на новые ворота», а качественно новый, индивидуально-поэтический фразеологизм.
Высоцкий то и дело воскрешает исходный смысл слов, входящих в устойчивые сочетания, в сложные наименования. Приведем примеры из его «Белого вальса», «О нашей встрече что там говорить...» и «Дальнего Востока»:
Белее снега, белый вальс, кружись, кружись, чтоб снегопад подольше не прервался.
Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь, и ты был бел — бледнее стен, белее вальса.
...И подарю тебе Большой театр и Малую спортивную арену.
Но потому он и Дальний Восток, что далеко на востоке.
Отношение Высоцкого к слову — такое же, как его отношение к человеку. Он всегда был готов выслушивать и понимать самых разных людей — столь же страстно и внимательно вдумывался он в смысл каждого слова.
Отсюда — аналитизм словесного остроумия Высоцкого, глубинная серьезность его шутливых словесных трансформаций. В «Тюменской нефти» берет он автоматически повторяемое сочетание «более-менее» и требовательно встряхивает и слова и дела:
И шлю депеши в Центр из Тюмени я:
«Дела идут, все более-менее».
Мне отвечают, что у них такое мнение, что меньше «более» у нас, а больше «менее».
А теперь прислушаемся, как в песне «Таможня» персонаж рассуждает об иконах, распятьях и прочих религиозных аксессуарах»:
Они - богатство нашего народа, хотя, конечно, пережиток старины.
Этот «знаток» употребляет некий гибрид выражений «пережиток прошлого» и «памятник старины». Он еще не совсем перестроился с огульного отрицания прошлого на столь же неглубокое восхищение им. В двух словах — сатирический образ полукультуры, столь характерной для некоторых наших современников.
Кстати, опыт Высоцкого учит, что понять язык и культуру народа можно, только сопрягая прошлое с настоящим, с думами о будущем. Чуткий к динамике сегодняшней речи, поэт обладал тонкой историко-лингвистической интуицией.
«Мне в ресторане вечером вчера...» — так начинается песня «Случай». Казалось бы, простая инверсия обычного сочетания «вчера вечером». Но этим достигается эмоциональная точность, а в стоящих рядом словах вечером и вчера вдруг начинает ощущаться их корневое родство. А вот еще строка из той же песни: «Ну что ж, мне поделом и по делам...» Тут поэт безошибочно возводит наречие поделом к древнерусской предложно-падежной форме.
У Высоцкого немало выразительных контекстуальных синонимов и антонимов. Так, в «Песне летчика» антонимическую пару образуют ангел-хранитель и истребитель, в каждом из слов эмоционально обнажается исходная глагольная семантика. Поэт находил новые повороты в обращении как с редкими, так и с самыми насущными словами. Вспомним «Песню о Земле», где с пронзительной точностью соединены «Земля» (планета) и «земля» (почва) : «Кто поверил, что Землю сожгли? / Нет, она почернела от горя».
Находим у него и очень свежие, ненарочитые паронимические сближения: «Залатаю золотыми я заплатами»; «Им успех, а нам испуг»; «И, удивляясь, пули удалял»; «Слоны слонялись в джунглях без маршрута»; «Хотели кушать — и съели Кука».
Выступая перед аудиторией и размышляя об эмоциональном воздействии песен, Высоцкий часто употреблял такие «колючие» метафоры, как «царапать душу», «скрести» и так далее. Это весьма знаменательно: ведь для того, чтобы «царапать душу», и язык песни должен быть не гладким, а слегка непривычным, шероховатым. Глубоко своеобразный язык поэзии Высоцкого нуждается в основательном филологическом изучении. Но уже беглые конкретные наблюдения говорят о художественной интенсивности, динамичности созданных им речевых структур. Развитие поэтического языка — это всегда шаг в сторону от привычных норм и представлений. Стихам и песням Высоцкого не грозит смысловое и эмоциональное старение: живая вода его поэтического слова будет нужна следующим поколениям не меньше, чем нам сегодня.
Л-ра: Русская речь. – 1988. – № 1. – С. 30-37.
Произведения
Критика