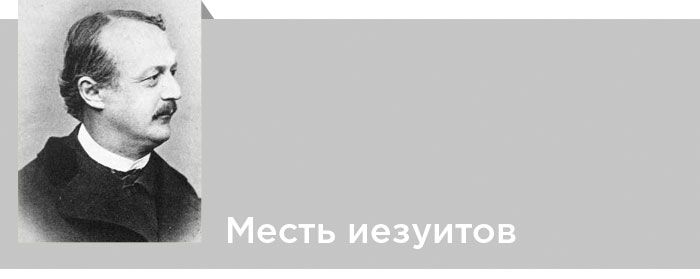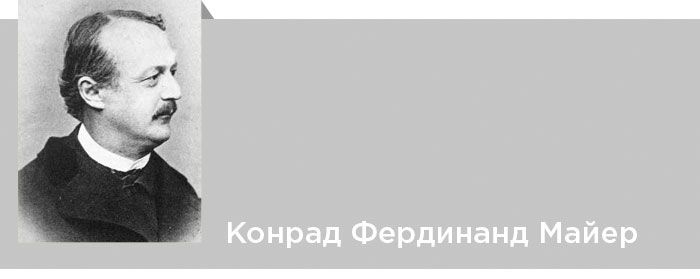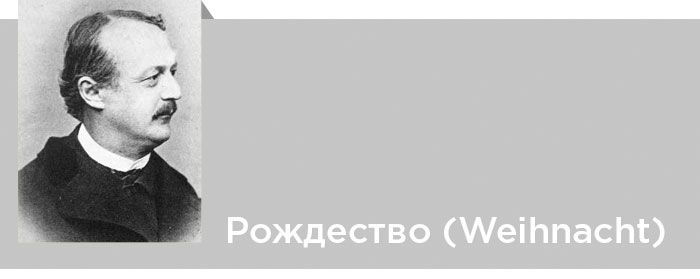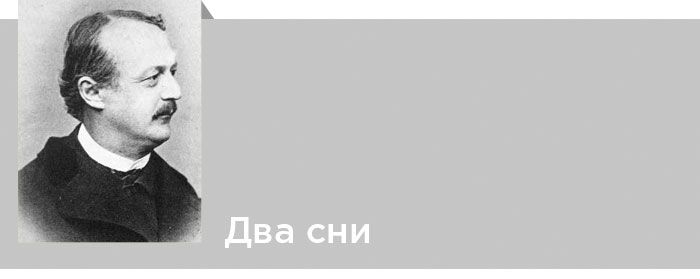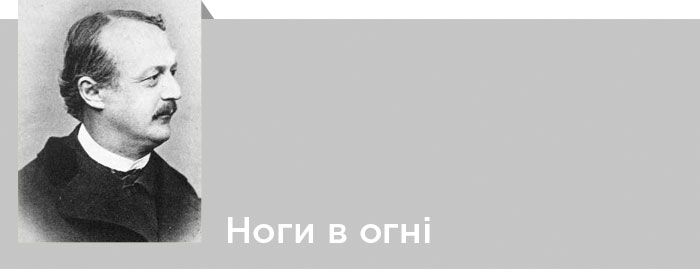Конрад Фердинанд Мейер. Выстрел в церкви

Глава I
В октябрьский денек, во втором часу пополудни, два лица духовного звания спускались с высоко лежащего Ютикона вниз, к пристани. Пасторский дом был расположен возле самой церкви, на первом из горных уступов, покрытом лугами и плодовыми деревьями; кратчайший путь от дома к озеру пролегал через пустынные виноградники. Сбор винограда был окончен. Справа и слева виднелись одни лишь желтые или порванные листья.
Путники шли друг за другом в полнейшем безмолвии, словно удрученные наступлением осени. К тому же спуск был очень крутым, а шквалистый западный ветер время от времени налетал на путников и с остервенением трепал их одежды.
— Пфаненштиль, твое желание неразумно, — вдруг произнес идущий впереди приземистый человечек, еще довольно молодой и слишком полный для своих лет.
С этими словами он оглянулся на своего высокого сухощавого спутника. Тот вместо ответа споткнулся о камень, ибо взгляд его до сих пор был неотступно устремлен на Ютиконскую колокольню, стройной иглой возвышавшуюся над лесистым полуостровом по ту сторону озера. Оправившись и снова зашагав размеренным шагом, он ответил приятным грудным голосом:
— Я смею надеяться, что генерал примет меня, Розеншток. Он мой родственник, хотя и дальний. К тому же еще вчера я послал ему свою диссертацию о символике «Одиссеи» с посвящением.
— Наивный! Ты плохо знаешь генерала! — проворчал Розеншток, указав на виллу в итальянском стиле, стоящую на северной стороне полуострова. — Он не очень-то жалует своих родственников, а твою блистательную диссертацию только поднимет на смех. Кстати говоря, эта диссертация всем рассудительным людям показалась довольно странной.
Ютиконский пастор набрал воздуха в грудь, затем, отдышавшись, продолжил:
— Поверь мне, тебе лучше не связываться с этими Вертмюллерами. Генерал только и ищет повода кого-нибудь уколоть, а его двоюродный брат, ютиконский пастор, похоже, вернулся в детство. Он подрывает репутацию всего нашего сословия своей собачьей сворой, пистолетными ящиками и постоянной пальбой. Правда, там есть Рахель с ее тонким носиком и алыми губками! Но она тебя не любит! Дворянку в конце концов всегда потянет к дворянину. Поговаривают, что она уже обручена. Но послушай, не вешай нос; скажу тебе в утешение, что и я неоднократно получал отказы, но посмотри: я живу, процветаю и совсем недавно женился.
Долговязый Пфаненштиль кинул на спутника полный отчаяния взгляд из-под белокурых волос и горько вздохнул.
— Прочь, надо уйти отсюда! — произнес он с грустью. — Я здесь погибну! Генерал не откажется взять меня полковым священником в свой венецианский полк. Это место как раз освободилось.
— Пфаненштиль, повторяю тебе, твое намерение неразумно. Оставайся на родине и зарабатывай честно свой хлеб.
— Как! По-твоему, я не должен уезжать, но пойми: я не могу здесь остаться! Куда же я денусь? В могилу?
— Постыдись, возьми себя в руки. Сама по себе мысль о венецианской походной службе вовсе не так плоха, но для этого ты должен быть решительным человеком и не иметь таких голубых, по-детски невинных глаз. Генерал недавно предложил это место мне. Моя обширная грудная клетка могла бы, дескать, внушить уважение его людям. Понятно, все это пустяки. Он ведь хорошо знает, что я человек оседлый и не расстанусь со своим виноградником.
— А ты был у генерала?
— Три дня назад. С тех пор как он снова здесь — не больше недели, — этот старый смутьян поднял на уши весь город. Он приехал, видите ли, для того, чтобы перед предстоящим походом отдать распоряжения на случай своей смерти. Ну, стоило ему прибыть сюда — и началось. Вся его родня, прежде избегавшая седого насмешника, — все теперь понаехали и стараются попасть в наследники. Но генерала никогда не застанешь дома; он носится по озеру со своими людьми на двенадцати весельной галере. Мои прихожане проглядели все глаза, волнуются, болтают уж про нечистую силу. Больше того, по ночам из труб его дома вылетают огненные драконы и призраки.
Вместо того чтобы спать, как все добрые христиане, генерал проводит иногда ночи напролет за кузнечной и слесарной работой. Я видел сделанные им замысловатые замки́ — настоящее произведение искусства. Их не открыть никакой отмычкой! Ну ты понимаешь, что сноп вылетающих искр был принят за пламя дракона. Судачат, что труба генеральского жилища — дьявольская лазейка. Просвещать людей все равно без толку; я избрал более короткий путь и пошел предупредить генерала по-дружески. Так вот, тот вечер я никогда не забуду! На мое предупреждение он ответил насмешливой улыбкой, затем схватил меня за пуговицу сюртука и разразился не речью, а настоящим ураганом, говорю тебе. С оторванной пуговицей, раздавленный и униженный, я вернулся домой. Он угостил меня вином, сдобрив, однако, его желчью самых язвительных замечаний. Разумеется, он заговорил о своем завещании, так как сейчас это его любимая тема. «Кстати, вы там тоже упомянуты, ваше преподобие», — заявил он мне. Я испугался. «Вот, я вам покажу этот параграф. Читайте». Я читаю, и что же я вижу? «…Далее, моему дорогому другу, пастору Розенштоку, две старые медные запонки для манжет со вставленными в них круглыми стеклышками, за которыми лежат на зеленом поле по три крошечные игральные кости. Когда его преподобие, стоя на церковной кафедре, станет жестикулировать то правой, то левой рукой, то он может сыграть сам с собой партию во время проповеди». Подумай только, Пфаненштиль, какой скандал могло вызвать обнародование завещания. В итоге мне удалось уговорить старика вручить мне тут же свой бесценный дар и вычеркнуть соответствующий параграф из завещания. Вот!
И Розеншток вытащил запонки из бокового кармана.
— Истинно нечестивая игрушка, — сказал Пфаненштиль с легкой усмешкой, так как он знал о тяге ютиконца к игре в кости. — Как ты думаешь, генерал относится враждебно ко всем без исключения лицам духовного звания?
— Ко всем, с тех пор по крайней мере, как его обвинили в безбожных речах, затеяли против него процесс и ему пришлось поплатиться крупным штрафом.
— Не слишком ли дорого он поплатился? — спросил Пфаненштиль задумчиво.
— Что ты, нет! Ему просто пришлось сразу вернуть весь должок. В течение всего своего жизненного пути, начиная с юности, он богохульствовал. Все это скопилось, и вывелась общая сумма. Когда во время последней междоусобицы он безуспешно осаждал Рапперсвилль, не щадя человеческих жизней, то настроил общество против себя, и тут-то нам удалось до него добраться. Ему припомнили все его грехи против нашей церкви. Теперь мы, конечно, не можем ничего поделать с полководцем его апостольского величества. Не то он, пожалуй, примет нам назло католичество, и это будет очередным, и пожалуй, еще большим скандалом. Рассказывают, что он в Вене водит дружбу с иезуитами и капуцинами. Без нас, духовных лиц под тем или иным званием, на этом свете никак не обойдешься.
Ютиконец улыбнулся своей собственной шутке и остановился со словами:
— Здесь граница моего виноградника, — этим выражением он обозначал свою общину. — После моих рассказов ты все так же настроен идти к генералу, Пфаненштиль? Ты и вправду намерен совершить эту глупость?
— Я хочу теперь поискать немножко счастья с помощью глупости, мудрость до сих пор не приносила мне ничего хорошего, — возразил Пфаненштиль и попрощался со своим товарищем.
Глава II
Некоторое время спустя влюбленный и отчаявшийся Пфаненштиль сидел в длинном и узком челне; молодой лодочник направлял судно через озеро едва заметными взмахами весел.
Молчаливые дубы отбрасывали вечерние тени на подернутую рябью воду. Лодочник, которого звали Блелинг, человек серьезный, с правильными чертами лица, хранил молчание. Все озеро вдоль и поперек было усеяно судами с надувшимися парусами; была суббота, день базара в городе, суда возвращались оттуда.
Дом генерала приближался, уже виднелся его фасад. Прочно выстроенное, но легкое и стройное здание нисколько не походило на обычные в этой местности постройки с крутыми крышами.
— А вон там каморка турчанки, — вдруг вымолвил молчаливый Блелинг, веслом показывая на южный выступ дома.
— Турчанки? — недоуменно переспросил Пфаненштиль.
— Ну да, турчанки. Вертмюллер привез ее с Востока. Я ее не раз видел. Красивая женщина! У нее золотая шапочка на длинных распущенных волосах; обыкновенно, когда я проплываю мимо, она прикладывает палец к губам, будто подзывает меня свистом… Но сейчас ее не видно в окне.
Вдруг протяжный крик раздался с берега:
— Блелинг! Собачий сы-ы-ын!
Вспыльчивый лодочник ударил веслами по воде так, что Пфаненштиля обдало тучей брызг.
— С тех пор как Вертмюллер снова в наших краях, этот его проклятый черномазый вовсю развлекается с рупором генерала. В прошлое воскресенье в трактире «Лев» его так напоили, что он валялся под столом. Потом этот трубочист ругается в рупор, так что слышно на несколько миль в окружности. Но завтра — я готов присягнуть — он снова будет с нами сидеть в кабаке. Скажи, пожалуйста, откуда мавр мог взять это ругательство? Здесь тоже грубо выражаются, но только совсем иначе.
— Вероятно, это генерал ругает его такими словами, — ответил смущенно Пфаненштиль.
— Да, так и есть, сударь, — подтвердил парень. — Вертмюллер заносит сюда к нам чужие немецкие слова, предатель! Но я не допущу, чтобы на этом озере меня обзывали, клянусь, что не допущу!
Блелинг повернул без околичностей лодку и быстрыми сильными взмахами весел снова выплыл на середину озера.
— Что это на вас нашло, любезный друг? Заклинаю вас!.. — заволновался Пфаненштиль. — Мне необходимо попасть на тот берег. Возьмите с меня двойную плату…
Но деньги оказались бессильны перед лицом негодования, и Пфаненштиль вынужден был прибегнуть к просьбам и мольбам. С трудом он упросил оскорбленного лодочника, чтобы тот все-таки переправил его.
— Только для вас, — сказал парень и довез Пфаненштиля до южной бухты, сделав огромный крюк вокруг всего полуострова.
Там лодочник высадил его на берег, и челнок поплыл прочь по лазурной глади озера.
Глава III
Итак, Пфаненштиль высадился подобно беглецу под сенью дубов. Узкая тропинка вела в полумрак; он не замедлил пойти по ней, спеша по шуршащей листве к близкому просвету. То, как он попал в чужие владения, казалось ему дурным сном, и он все ускорял шаг; но в то же время им двигала и дремлющая в каждом человеческом сердце любовь к приключениям.
Вскоре он достиг просвета, оказавшегося всего лишь мшистой прогалиной. Испуганная белка перепрыгнула через голову Пфаненштиля на низко свешивавшуюся ветвь. Далее тропинка шла через заросли до крутого поворота, за которым молодой человек увидел перед собой виллу на расстоянии всего лишь нескольких шагов.
Но шаги эти дались ему нелегко: он ведь был по натуре робким и стеснительным человеком, а генерал слыл не самым гостеприимным хозяином. Вот почему Пфаненштиль и остановился в нерешительности за деревом на опушке — дубом с очень мощным стволом. Но то, что он увидел из своей засады, носило характер вполне идиллической картины, не способной его напугать.
Генерал мирно беседовал со своим соседом Крахгальдером на широко раскинувшейся и доступной всем ветрам веранде с шестью высокими колоннами. Крахгальдера Пфаненштиль во время своего викариата каждое воскресенье видел в числе прочих церковных старшин Ютикона, восседающих близ алтаря, — все это были люди, известные ему не хуже двенадцати апостолов.
Вертмюллер сидел верхом на стуле, опершись локтями на спинку. В профиль резко обрисовывались его орлиный нос и выдающийся вперед подбородок; красивое же лицо старика Крахгальдера носило, напротив, отпечаток необыкновенной мягкости.
— Надо же было так случиться, — гнусавил старик назидательным тоном, — что мы с вами в одни и те же дни решили составить завещание на случай смерти. Я не делаю из этого тайны; три фунта я оставляю для обновления крыши на колокольне.
— И я не желаю ударить лицом в грязь, — заявил генерал, — и назначу в моем завещании ровно столько же на позолоту нашего флюгерного петуха — птице не стыдно будет сидеть на своем насесте.
Крахгальдер в раздумье отхлебнул вина из стоявшего перед ним стакана и произнес:
— Да, вас не назовешь ревностным прихожанином, но вы человек общественно полезный. Знайте, община возлагает на вас надежды.
— Какие же такие надежды? — полюбопытствовал генерал.
— Вы действительно хотите это знать? Вы не рассердитесь?
— Нет, нисколько.
Крахгальдер помолчал, а затем спросил:
— Быть может, вам было бы удобнее поговорить об этом в другое время?
— Нет другого времени, кроме настоящего. Пользуйтесь же им!
— Вы оставили бы по себе прекрасную память, генерал…
— Я не умаляю значения посмертной славы, — ответил генерал.
Крахгальдер, видя чудака в таком веселом настроении, счел этот момент самым подходящим для того, чтобы выразить заветное желание ютиконцев.
— Ваш лес у Волчьей тропы, господин Вертмюллер… — начал он неуверенно.
Генерал внезапно нахмурился, и старому крестьянину показалось, что надвигается грозовая туча.
— … врезается клином…
— Во что врезается клином? — резко спросил генерал.
Крахгальдер стал соображать, продолжить ли ему наступление или повернуть назад. Он все же решился на первое:
— В наш общинный лес…
Тут генерал одним прыжком вскочил со стула, схватил его за ножку, поднял в воздух и занял боевую позицию.
— Значит, ютиконцы хотят ограбить меня? — закричал он яростно. — Я попал в руки разбойников? — Затем он продолжал уже спокойнее, опустив свое деревянное оружие: — Пустые разговоры, Крахгальдер! Пусть люди выбросят это из головы.
— Все же подумайте об этом, — спокойно сказал старик, — подумайте, господин Вертмюллер.
Крахгальдер поднялся и простился с генералом, пожав ему руку. Вертмюллер проводил его немного; когда он вернулся, перед ним вырос его мавр Гассан. Чернокожий сложил руки в мольбе и на ломаном немецком языке стал просить отпустить его на завтрашний вечер, так как его тянуло к новым друзьям в трактир.
— В тебя вселился черт, Гассан, — выбранил его генерал. — В последнее воскресенье они сыграли с тобой злую шутку.
— Сыграли, — повторил мавр, не поняв выражения. — Чудная быль игра!
— Нет у тебя, что ли, никакого достоинства? Соприкосновение с цивилизацией губит тебя. Ты пьешь вино, точно христианин.
— Нет, ваша милость, игра… игра хорошая быль…
Мавр состроил при этом такую уморительную гримасу и так закатил глаза, что Пфаненштиль, несмотря на все свои усилия, не смог сдержать смех. Поняв, что его присутствие открыто, Пфаненштиль стыдливо выступил из-за дерева и приблизился к генералу со смущенным поклоном.
— Вам чего здесь нужно? — спросил тот командным голосом, смерив взглядом молодого человека с головы до пят. — Вы кто вообще?
— Я двоюродный брат… двоюродного брата… двоюродного брата… — запинаясь, произнес Пфаненштиль.
Генерал нахмурил брови, ожидая продолжения.
— Мой отец был Пфаненштиль, а моя мать покойная Ролленбуц…
— Вы что же, мне всю свою чертову родословную собираетесь пересказать? Что там двоюродный брат! Все люди братья. Убирайтесь к черту! — И Вертмюллер повернулся к нему спиной.
Пфаненштиль буквально оцепенел от генеральского приема.
— Фанен-стиль… — произнес по слогам мавр, как будто желая обогатить свой словарный запас.
— Пфаненштиль? — повторил генерал, становясь внимательнее. — Имя мне знакомо. Стойте, не вы ли сочинили ту диссертацию о символике «Одиссеи» которую я получил вчера?
Пфаненштиль утвердительно кивнул.
— В таком случае вы очень милый человек, — сказал генерал и взял его дружески за руку. — Мы должны познакомиться.
Глава IV
Вертмюллер провел гостя на веранду, усадил за стол и налил ему вина.
— Принял я вас, конечно, по-военному, но вы убедитесь в том, что хозяин я любезный, — сказал генерал. — Вы остаетесь здесь на ночь — даже не спорьте. Нам есть о чем поговорить. Видите ли, любезный, я с удовольствием читал вашу работу…
И Вертмюллер протянул руку за книгой, лежавшей в оконной нише нижнего этажа, образующего заднюю стену веранды; в эту книгу была вложена растрепанная диссертация Пфаненштиля.
— Но сначала я задам вам один вопрос. Почему вы на преподнесенном мне сочинении сделали надпись всего лишь в одну строку, вместо того чтобы откровенно посвятить его мне и написать это посвящение на чистом белом листе крупными печатными буквами? Потому что я не в ладах с вашими коллегами попами? У вас нет характера, Пфаненштиль, вы слабак.
Молодой человек попытался оправдаться тем, что его ничтожная работа не заслуживает такой чести — носить на своем заглавном листе имя знаменитого полководца и знатока литературы.
— Совсем не ничтожная, — возразил генерал. — У вас есть фантазия, вы сумели погрузиться в глубины моей любимой поэмы, как не всякому удается. Правда, некоторые ваши выводы абсурдны. Но с этим ничего не поделаешь: мы, люди, вообще тратим свои лучшие силы для достижения ничего не стоящих результатов. Если бы вы догадались вовремя спросить моего совета, я бы придал вашей диссертации такой оборот, который вызвал бы изумление и у вас самих, и у ваших поповских экзаменаторов, и у всей публики. Вы бы почувствовали, Пфаненштиль, что вторая половина «Одиссеи» отличается особой красотой и величием. Как? Возвратившийся домой путник подвергается под видом нищего бродяги оскорблениям у собственного очага. Как? Женихи стараются уверить самих себя, что он никогда не вернется, и все же чуют его присутствие. Они смеются, а их лица уже искажены предсмертной агонией — вот это поэзия! Однако вы правы, Пфаненштиль, какой толк в поэзии, если за ней не скрывается мораль. Раз Одиссей не может и не должен означать просто Одиссея, то кого и что он должен означать? Нашего Господа и Спасителя, грядущего судить живых и мертвых, — так доказываете вы, и так у вас и написано. Нет, Пфаненштиль, Одиссей означает любую истину, оскорбляемую самонадеянными женихами, то есть попами, которым она в один прекрасный день в своем победоносном облике пронзит сердце. Как вам это нравится? Вот какой оборот вам следовало бы придать вашим мыслям. И, будьте уверены, тогда диссертация привлекла бы к себе всеобщее внимание.
Пфаненштиль затрепетал при одной мысли о том, что его символике можно придать такой кощунственный оборот. Он был наивен и не сумел распознать иронию в словах старого насмешника.
Чтобы избежать затруднительной необходимости давать ответ вольнодумцу, Пфаненштиль взял в руки пергаментный том, которым Вертмюллер размахивал во время своей речи. Это было старинное издание «Одиссеи». Пфаненштиль благоговейно стал изучать титульный лист древней книги. Вдруг его глаза широко раскрылись от изумления и ужаса. Он заметил на поле слева, возле герба венецианского книгопродавца, слегка выцветшие, размашистым почерком написанные строки, гласившие: «Книгой по праву владеет Георг Енач».
Молодой человек отбросил книгу, как будто от нее пахло кровью. В то время кости народного вождя Енача тлели уже десятилетия в земле под собором в Куре; между тем его образ во времена покорности, времена, чуждые патриотизма, принял искаженные, отталкивающие черты, так что от его подлинной личности ничего не уцелело. Его считали отступником и кровопийцей, а Пфаненштилю он казался просто чудовищем.
Некоторое время генерал с насмешкой смотрел на испуганное лицо юноши, затем небрежно произнес:
— Ваш бывший коллега принес мне эту книгу в дар, когда мы были с ним еще в хороших отношениях, и я как-то посетил его в Давосе.
— Так, значит, он все-таки жил когда-то, — произнес вполголоса Пфаненштиль. — Он существовал, и у него были книги…
— Да, жил, и еще как жил! По-особенному, — произнес генерал с ухмылкой. — Как раз сегодня ночью он мне приснился; это, наверно, от того, что весь вчерашний день мне пришлось заниматься крайне неприятным делом: я писал свое завещание. Что может быть досаднее, чем, будучи живым и здоровым, делить свое имущество?
Молодого священника одолевало любопытство. Вдруг этот сон генерала был предостерегающим видением, которое поможет ему, Пфаненштилю, пробудить в сидящем перед ним собеседнике благочестивые мысли?
— Не расскажете ли вы мне о вашем сне? — спросил он с искренним участием.
— Пожалуйста. Итак, действие разворачивается в Куре. Людская толпа, парики чиновников, военные, со стороны собора благовест и салютные выстрелы. Мы проходим под аркой ворот на епископский двор. Далее мы идем вдвоем, со мной рядом какой-то гигант. Я вижу только шляпу с пером, из-под нее огромный нос и свисающую на воротник черную как смоль бороду.
«Вертмюллер, — спрашивает великан, — кого мы хороним?» — «Не знаю», — отвечаю я. Мы проходим в собор между скамьями нефа. «Вертмюллер, — спрашивает он, — кого они отпевают?» — «Не знаю», — отвечаю я нетерпеливо. «Маленький Вертмюллер, — говорит он, — поднимись же на цыпочки и посмотри, кто лежит на катафалке?» Тут я начинаю ясно различать на углах покрова инициалы и герб Енача, и в то же мгновение он сам стоит около меня и поворачивается ко мне лицом — бледный, с потухшими глазами. «Черт побери, полковник, — говорю я, — вы лежите там, под покровом, с вашими семью смертельными ранами и в то же время ведете со мной здесь беседу? Что это, вы раздвоились, что ли? Да разве это разумно, разве это логично? Проваливайте в преисподнюю, шутник!» А он мне в ответ с подавленным видом: «Тебе не в чем меня упрекать, не важничай: ведь и ты, Вертмюллер, мертв».
У Пфаненштиля дрожь пробежала по телу. Этот сон накануне кровопролитного, без сомнения, похода, предстоящего генералу, показался ему серьезным предзнаменованием, и он принялся обдумывать слова, которые должен был теперь произнести как пастор.
— Полковника топором зарубила его возлюбленная, как быка, — продолжал Вертмюллер. — Со мной это не так-то просто будет сделать. Я готов пасть в бою, но не испустить дух, забившись в угол кровати…
Кто знает, возможно, ему пришла в голову мысль о яде; ведь он был впутан в интриги венского двора и нажил себе там своим честолюбием немало смертельных врагов.
— Но прежде чем сложить свои пожитки, — прибавил он после паузы, — я бы хотел осчастливить одного человека…
У Пфаненштиля слезы выступили на глазах — не из корыстных соображений, а от чувства бескорыстной радости по поводу этого прекрасного душевного порыва; но эти слезы тут же высохли, как только генерал докончил фразу:
— …особенно если вместе с этим можно будет устроить какую-нибудь хорошую проделку.
Генералу были чужды суеверные чувства, а если они и охватывали его на мгновение, то быстро проходили.
— Зачем вы явились? — вдруг спросил он своего гостя. — Не затем же, чтобы слушать рассказы о том, что мне снится по ночам?
Тогда Пфаненштиль изложил генералу с невинной хитростью — так как не хотел выдавать ему тайну своих любовных страданий, не рассчитывая на его сочувствие, — что, когда он изучал «Одиссею», им овладело непреодолимое желание познакомиться с родиной Гомера — Элладой. В отсутствие других возможностей удовлетворить свою тягу к путешествиям ему пришло на ум предложить генералу свои услуги в качестве священника походной церкви его венецианского полка, который стоит в греческих владениях республики.
— Это место освободилось, — сказал молодой человек. — Если вы хоть сколько-нибудь ко мне расположены, отдайте его мне.
Шестидесятилетний генерал посмотрел на него испытующим взглядом.
— Для такой опасной карьеры нужно обладать необходимыми качествами. Ваш костяк недостаточно прочен. Любой исключенный из университета забияка из Лейпцига или Вены сумеет внушить больше уважения моим ребятам, чем вы с вашим лицом апостола Иоанна. Можете выбросить это из головы. Если вам охота побывать на юге, то поищите себе место воспитателя какого-нибудь юного дворянчика и чистите ему платье. Впрочем, и это ни к чему. Лучше всего вам остаться дома. Оглянитесь по сторонам и сосчитайте, сколько вокруг церковных шпилей, — обетованная земля для священника, да и только! Здесь ваша Эллада, здесь и читайте проповеди. Откажитесь от этой затеи.
Воцарилось молчание. Затем генерал снова пристально посмотрел на молодого человека.
— Я не сомневаюсь в том, что вы со всем рвением взялись бы за исполнение задуманного; но как это можно увязать с тем Пфаненштилем, которого я перед собой вижу? Тут дело неладно. Ведь вы не из тех сумасбродных любителей древности, что роются среди руин, — значит, вы отчаявшийся. Но с чего вам быть отчаявшимся? Что вас отсюда гонит? Ну-ка, говорите начистоту! Женщина? Ага! Вы краснеете! Где было ваше последнее место службы?
— В Ютиконе, у вашего двоюродного брата, во время его последнего припадка подагры.
— У моего двоюродного брата? Значит, у Рахели. Ну теперь все ясно и просто, как мой новый воинский устав. Девчонка вскружила вам голову, а потом, как водится, вильнула хвостиком! Из-за этого вы и покинули то место!
Пфаненштиль готов был скорее позволить вырвать сердце из груди, чем признаться, что Рахель расположена к нему. Он ответил со всей скромностью:
— Господин Вертмюллер, который благоволил мне, уволил меня, так как я не умею обращаться с огнестрельным оружием и побаиваюсь его; двадцать лет тому назад в моей семье от него произошло несчастье. Господин пастор принуждал меня стрелять в цель, а я ни разу в нее не попал.
— Вам следовало отказаться от этого, а так это уронило вас в глазах Рахели. Она-то всегда попадает в цель! Черт возьми, мне вспоминается, что за мной еще должок перед стариком: его преподобие образцово содержал мою свору в то время, как я воевал на Рейне. Он знаток этого дела. Гассан! Подай-ка мне лиловый сафьяновый футляр, он стоит в стеклянном шкафу в оружейной!
Мавр заторопился исполнить приказ, и вскоре у Вертмюллера очутились в руках два маленьких пистолета изящной работы. Он вычистил тряпочкой стволы и серебряную инкрустацию на ручках.
— Ну-с, любезный друг, продолжайте. Итак, девчонка дала вам от ворот поворот! Или, не ровен час, она вас любит?.. Природа и впрямь иногда преподносит сюрпризы! В таком случае отставку вам дала не она, а старый Вертмюллер? Как он это объяснил?
Сначала Пфаненштиль ничего не отвечал. Ему было очень не по себе, так как генерал во время своих речей взвел курок одного из пистолетов и дотронулся до собачки едва заметным движением. Курок спустился. Генерал взвел курок другого пистолета, вытянул руку, состроил гримасу. Ему удалось спустить его, лишь приложив огромное усилие. Вертмюллер недовольно покачал головой.
Пфаненштиль собрался с духом и попытался объяснить генералу истинную причину своего отчаяния.
— То Вертмюллер, а то Пфаненштиль, — произнес он таким тоном, словно речь шла о солнце и луне и он находил совершенно естественным, что им никогда не сблизиться.
— Брось ты эти ребячества! — прикрикнул на него генерал. — Разве мы еще не переросли Крестовых походов, в эпоху которых были изобретены гербы? Впрочем, и тогда, как и вообще во все времена, сам человек значил намного больше, чем имя. Вы не представляете, Пфаненштиль, как презрительно смотрели титулованные коллеги на плебейское мельничное колесо в моем гербе, когда я поступил на императорскую службу. Тем не менее им пришлось-таки стерпеть, что мельник спас и выиграл совсем было загубленную ими кампанию. Послушайте, Пфаненштиль, вам не хватает чувства уверенности в себе, и это мешает вам добиться Рахели.
Пфаненштиль находился в странном положении: он не мог разделить точку зрения Вертмюллера, так как смутно чувствовал, что подобная свобода от предрассудков ниспровергает весь принятый порядок вещей, а он привык относиться к нему с почтением даже в тех случаях, когда это ему вредило.
Но Вертмюллер и не ждал ответа или согласия: он поднялся и пошел с пистолетами в руках навстречу высокой и стройной девушке, которая появилась со стороны дороги, соединяющей полуостров с материком. Генерал услышал ее легкие быстрые шаги.
— Добрый вечер, крестница! — воскликнул Вертмюллер, и его серые глаза засияли.
Но девушка смотрела на него, нахмурившись, до тех пор, пока он не убрал оба пистолета, очевидно, ее раздражавшие, в карманы своего сюртука.
— У меня гость, Рахель. Позволь тебе представить моего молодого друга Пфаненштиля.
Девушка подошла ближе, а Пфаненштиль неловко встал со своего стула. Она старалась побороть смущение, но краска залила ее лицо до самых корней пышных каштановых волос. Пфаненштиль потупил глаза, как будто решил не смотреть ни на одно существо женского пола, но затем не выдержал и поднял их с выражением такого глубокого и лучезарного счастья, а карие глаза девушки так тепло глядели на него, что даже сам старик насмешник не мог не порадоваться искреннему влечению двух невинных человеческих сердец.
Как ни странно, он даже не попытался подшучивать над ними, чтобы усилить их замешательство. Порой, просто созерцая истинное чувство, мы переносимся из мира фальши и притворства в другой мир, чистый и искренний, где нет места насмешкам. Правда, генерал не стал бы долго молчать, но умная девушка вовремя обратилась к нему:
— Мне надо с вами поговорить, крестный. Я буду ждать вас на второй скамье у озера.
С этими словами она поклонилась Пфаненштилю и исчезла. Генерал взял своего гостя за руку и отвел его в свою библиотеку, три полукруглых окна которой выходили на водную гладь.
— Будьте спокойны, — сказал он, — я не стану говорить о вас ничего дурного. А пока отдохните. Вы любите книги? Здесь вы найдете поэтов нашего столетия.
Генерал указал на стеклянный шкаф и вышел из зала. Перед Пфаненштилем выстроились блестящими рядами французы, итальянцы, испанцы и даже некоторые англичане, собранные в одном месте сокровища ума, фантазии и благозвучия. Вертмюллер, человек, без сомнения, образованный, покачал бы недоверчиво головой, если бы кто-нибудь заметил ему, что здесь не хватает одного великого поэта. Всесторонне начитанный генерал никогда даже не слышал имени Вильяма Шекспира.
Пфаненштиль не притрагивался к книгам: его влюбленное сердце и без того было полно поэзии.
Глава V
Генерал пошел по тропинке вдоль берега озера. Вскоре он увидел Рахель. Она сидела на каменной скамье; ее тонкий профиль выделялся на фоне водной глади, подернутой вечерними сумерками. Искреннее и глубокое огорчение запечатлелось на милом и решительном лице.
— О чем это ты размышляешь? — обратился к ней генерал.
Она ответила, не поднимаясь с места:
— Я вами недовольна, крестный.
Генерал, скрестив руки, спросил:
— Чем же я прогневал вашу милость?
Рахель взглянула на него с укоризной.
— Вы еще спрашиваете, крестный? Право, вы дурно поступаете с моим отцом, а ведь он вам ничего плохого не сделал. Вы снова взялись за старое в прошлое воскресенье! По вашему наущению и на вашей части озера он опять занимался пальбой весь день начиная с полудня. Что за зрелище! Трепыхающиеся подбитые утки, мальчишки, шлепающие по болоту за добычей, отец в высоких сапогах, а в качестве публики — вся деревня.
— Народ оценил удачные выстрелы, — бросил Вертмюллер.
— Крестный! — Девушка вскочила
с места, дрожа от негодования. — До сих пор я думала, что, несмотря на иные
ваши причуды, у вас доброе сердце, но теперь я начинаю всерьез сомневаться в
этом. Я считала вас, — прибавила она немного мягче, — своего рода Рюбецалем…[1]
— Тем Рюбецалем, которого порой забавляет делать добро и который, делая добро, забавляется?
— Вроде того. Но от вас благодеяний не дождешься. Вы когда-нибудь погубите отца. Если бы наши ютиконцы не были такими добрыми людьми и не прикрывали, как могут, своего пастора, то на него уже давно бы подали жалобу в Цюрихе. И поделом: ибо священник, у которого во сне и наяву нет других мыслей, кроме охоты, возмущает всякую христианскую душу. С годами все только усугубляется: на днях, когда доложили о приходе господина декана и одновременно посыльный привез отцу из города только что купленное охотничье ружье, мне пришлось отобрать у него это оружие и запереть его в своем платяном шкафу, не то бы он еще — ужасная мысль! — взял почтенного господина декана на прицел! Вы смеетесь, крестный? Вы отвратительны! Я могу возненавидеть вас за то, что вы хорошо знаете его слабости, но вместо того, чтобы сдерживать, только раззадориваете его! Он, не ровен час, взойдет как-нибудь на кафедру с заряженным оружием… Я радовалась вашему приезду, а теперь спрашиваю: скоро ли вы уедете, крестный?
— Взойдет на кафедру с заряженным оружием? — повторил Вертмюллер, пораженный, казалось, этой мыслью. — Пустяки, крестница! Я хочу доставить старику удовольствие. Знаешь что? Я приду завтра к вам в церковь. Тогда твоего отца будут еще больше уважать.
Рахель, казалось, была не в особенном восторге от этого намерения.
— Крестный, — сказала она, — вы давали обет заботиться о моем земном и небесном спасении; что до последнего, то тут вы мало что можете для меня сделать, так как в этом отношении у вас у самого дело обстоит плохо. Но разве это достаточный повод губить и мою земную жизнь? Вам бы подумать о том, как сделать меня на этом свете счастливой, а вы, наоборот, только приносите мне несчастье.
У нее выступили слезы на глазах.
— Что ж, дорогая крестница, — ответил генерал, — я горный дух, и ты можешь требовать от меня исполнения трех своих желаний.
— В таком случае, — сказала девушка, вытирая слезы и отвечая шуткой на шутку, — во-первых, вылечите отца от его не соответствующей сану любви к охоте.
— Невозможно, она у него в крови, он ведь Вертмюллер. Но я могу сделать так, что эта любовь будет безобидной… Во-вторых?
— Во-вторых… — Рахель замялась.
— Позволь мне сказать за тебя, девочка: дайте полковнику Лео Кильхшпергеру отпуск для того, чтобы он мог жениться…
— Нет! — живо ответила Рахель.
— Он превосходный кавалер.
— Возможно, однако ему свойственно многое такое, от чего я желала бы отказаться.
— Ограниченная точка зрения!
— Я твердо ее придерживаюсь, крестный.
— Пусть так; тогда что «во-вторых»? Во-вторых, горный дух, дай Пфаненштилю место полкового священника в венецианском полку.
— Никогда! — воскликнула девушка. — Как? Несчастный стремится получить это место среди вашего венецианского сброда? Этот добрый, кроткий человек!.. С этой просьбой он к вам пришел?
— Да, и я не отговариваю его.
— Отговорите, крестный! Разве там не свирепствуют чума и лихорадка?
— Бывает и такое.
— И не случаются ли кораблекрушения в Адриатическом море?
— Время от времени — да.
— А общество в Венеции разве не отвратительное?.. Крестный, он не должен туда ехать ни за что на свете.
— Хорошо. Итак, другое «во-вторых» связано с третьим: горный дух, сделай так, чтобы Пфаненштиль получил пастырское место в Ютиконе и выдай меня за него замуж.
Рахель покраснела, но решительно произнесла:
— Да, горный дух.
Этот твердый ответ очень понравился генералу.
— Пфаненштиль — добрая душа, — похвалил он, — но ему не хватает мужественности, которая так привлекает женщин.
— И что же, — бросила девушка и решительно продолжила: — Крестный, вы выиграли с дюжину сражений, вы умеете портить игру вашим хитрым врагам в венском императорском дворце, вы знаменитый и знающий свет человек, — уделите хоть сотую долю вашего ума на то, чтобы сделать меня, точнее, нас счастливыми, и мы будем вам благодарны до скончания века.
Генерал опустился на каменную скамью и в глубоком раздумье оперся руками о колени. При этом он задел оба пистолета в своих карманах; в его острых серых глазах что-то внезапно вспыхнуло, и он разразился неудержимым хохотом, каким не смеялся уже десятки лет. Потом он успокоился и опять задумался. Казалось, он взвешивает возможность успеха.
— Рассчитывай на меня, дитя мое, — наконец сказал он Рахели.
— Послушайте, крестный, что вы задумали? У отца при этом не должно быть неприятностей.
— Ничего, кроме хорошего.
— Пфаненштиля тоже не нужно трогать.
Вертмюллер пожал плечами:
— Ну, этот играет роль второстепенную.
— Вы собрались устроить что-то… забавное? — спросила девушка, заинтригованная, ибо смех генерала наводил ее на размышления.
— Я-то позабавлюсь всласть. Но не волнуйся. Мой план построен в расчете на человеческую глупость и поэтому безупречен. Впрочем, во всяком успехе есть доля везения.
— А если все сорвется?
— Тогда генерал Вертмюллер покроет все издержки.
Девушка призадумалась, но в конце концов решила смириться и ждать, что будет. Она знала о смелой изобретательности своего крестного, но доверяла ему. Что в план неизбежно входит какая-нибудь коварная выходка, она догадывалась; но ведь этой ценой покупалось ее счастье. Ей было известно, что Вертмюллер ее любит и не зайдет слишком далеко в своих проделках. К тому же девушка предпочитала быструю, хоть и связанную с риском, развязку длительной неопределенности.
— За дело, Рюбецаль, — сказала она. — Когда ты примешься за свое колдовство, горный дух?
— Завтра в полдень ты будешь невестой, детка. Я уезжаю в понедельник утром.
— До свидания, горный дух, — простилась она второпях и бросила ему воздушный поцелуй.
Вертмюллер посмотрел ей вслед, невольно залюбовавшись ее уверенной походкой.
Глава VI
Поздним вечером генерал и Пфаненштиль сидели за богато сервированным круглым столом друг напротив друга в просторной столовой, светлые стены которой были увешаны картинами сражений. Вертмюллер рассказывал о своих путешествиях по Греции, восхвалял верность в описаниях природы и морских красок в «Одиссее», в его рассказах перед духовным взором Пфаненштиля восставали благородные и гармоничные формы греческого храма, — короче говоря, генерал его совершенно осчастливил.
О своих военных приключениях, неразрывно со всем этим связанных, он упомянул только вскользь, но в таких ярких красках, что Пфаненштиль почувствовал себя в присутствии старого вояки сильным и отважным, а Вертмюллер перед лицом наивного восхищения своего слушателя словно помолодел и сбросил с плеч несколько десятков лет.
Таким образом, Пфаненштиль не придал большого значения тому обстоятельству, что генерал насел на него в пылу разговора и оторвал верхнюю из четырех широких плоских пуговиц, скреплявших его одежду спереди между впалыми плечами; подвергнув эту пуговицу краткому осмотру, он швырнул ее в темный угол комнаты и принялся теребить одну из средних, пока та не повисла на ниточке.
За десертом генерал вопреки своей привычке — он давно уже сделался умеренным человеком — осушил несколько стаканов огненного бургундского, и его слегка стала грызть мысль, что красивая и храбрая Рахель подарила свое сердце такому кроткому и невоинственному человеку, да еще и «попу». Тогда он решил напоследок еще раз подурачить Пфаненштиля, который пришелся ему, в сущности, по душе.
Вертмюллер велел мавру принести пороховницу и мешочек с пулями, вытащил оба пистолета из кармана и положил их перед собой на стол.
— Вы нравитесь Рахели, — обратился он к молодому человеку, — но если хотите заполучить ее в жены, то должны показать девушке, что вы настоящий мужчина. Это произведет на нее неизгладимое впечатление, и тогда вы сможете спокойно напялить супружеский ночной колпак. Мой план прост: я пойду завтра в Ютиконскую церковь — не удивляйтесь, Пфаненштиль, я же не язычник — и напрошусь к пастору на обед; разумеется, Рахель останется дома по хозяйству, вы же во время богослужения проберитесь тайком в пасторский дом, похитьте девушку и доставьте ее сюда, и, пока вы будете целоваться, я заряжу две железные пушки — вы видели их при входе — для защиты узкой насыпи, соединяющий мой остров с берегом. Перестрелка! Переговоры! Заключение мира!
Будь Пфаненштиль в нормальном состоянии, он бы только улыбнулся этой солдатской причуде, но крепкое вино ударило ему в голову.
— Ужасно! — вскрикнул он, но вслед за тем тихо прибавил: — И невозможно. Рахель никогда не согласится на такое.
— Согласится! Вы явитесь к ней, броситесь к ее ногам и воскликнете: «Беги со мной или…» — Он схватил пистолет и приставил его к своему левому виску.
— Она христианка! — воскликнул Пфаненштиль.
— Она согласится, она должна согласиться! Всякая женщина покоряется стихийной мужской силе. Разве вы не знаете новейшей немецкой литературы!
— Она никогда не согласится, — механически повторил Пфаненштиль.
— Тогда отправляйтесь на тот свет со славой!
И Вертмюллер нажал собачку. Курок был спущен, так что брызнули искры. Тут Пфаненштиль пришел в себя. Ему вспомнилось предупреждение Розенштока. «Он дурачит и мучит тебя, — сказал он сам себе, — ты ведь духовное лицо и имеешь дело со злейшим врагом церкви».
Насмешливая улыбка дрожала в углах рта наблюдавшего за ним генерала; его ярко освещенное лицо напоминало в эту минуту причудливую маску. Пфаненштиль поднялся со своего стула и произнес не без достоинства:
— Если вы говорите это серьезно, то я ни минутой дольше не останусь под этой крышей, где проповедуется нечто худшее, чем языческая нечестивость; если же это шутка с вашей стороны, господин Вертмюллер, как я и полагаю, то я все равно вас должен покинуть, так как издеваться над простым человеком, не сделавшим вам ничего дурного, и дурачить его — это не по-христиански, это даже не по-человечески, это дьявольское дело!
Праведный гнев вспыхнул в его голубых глазах, и он направился к дверям.
— Ну, ну, — сказал генерал, — чем накормить вас завтра утром: яйцами, куропаткой, форелью?
Пфаненштиль открыл дверь и быстро удалился.
— Мавр посветит вам до вашей комнаты. До свидания, до завтра! — крикнул ему вслед Вертмюллер.
Оставшись один, генерал насыпал пороху в пистолет с легко спускающимся курком и заткнул заряд грубым пыжом. Другой пистолет с тугой пружиной он оставил незаряженным. И тот и другой он передал мавру Гассану с приказом положить их в карманы его сюртука. Затем генерал взял подсвечник и отправился к себе в спальню.
Глава VII
Пфаненштиль быстрым шагом шел к насыпи, соединяющей южную сторону полуострова с материком. Прошлой весной, когда он был в Ютиконе, он часто с любопытством смотрел на обиталище генерала, воевавшего в то время в Германии. Он знал, что плотина прерывалась посредине маленькими старинными воротцами и подъемным мостом, но был уверен, что не встретит здесь препятствия, так как эти ворота, насколько он помнил, никогда не запирались — у них не было створок. Теперь он достиг берега и увидел слева от себя линию насыпи. Но — о несчастье! — подъемная балка моста висела в воздухе, резко выделяясь на сумеречном небе, и образуя, взамен прямого, острый угол с линией ворот, к каменной арке которых она была прикреплена двумя цепями. Ворота, поднятый мост, цепи — все это можно было разглядеть с несомненной отчетливостью при свете луны. Пфаненштиль был в плену. Невозможно перейти через болото — он потонет при первых же шагах, не зная броду, среди коварных зарослей тростника. Не зная, как быть, Пфаненштиль стоял на берегу острова, а тем временем из болота прямо под его ногами раздавалось кваканье лягушек.
Почти отчаявшийся, он хотел пробраться через плотину к воротам, чтобы попробовать, не удастся ли, собрав все силы, спустить подъемный мост. Тут, еще раз обернувшись с укоризной в сторону неприветливого дома, он увидел движущееся ему навстречу светлое пятно, и через несколько мгновений перед ним вырос Гассан с фонарем в руке. С подобострастной вкрадчивостью мавр стал уговаривать его вернуться в покинутый им дом.
— Скучный лягушка, господин. Замок на подъемный мост, комната готов.
Ничего не оставалось, кроме как последовать за Гассаном. В большой кухне мавр зажег две свечи и посветил Пфаненштилю. На предпоследней ступеньке он быстро схватил его за руку и пробормотал:
— Не пугайся, господин, — часовой перед комната генерала.
И действительно, там стоял часовой. Пфаненштиль увидел скелет, который вытянулся, опершись костлявыми руками на мушкет, с патронташем и тесаком на лоснящихся ремнях, охватывающих крест-накрест его ребра. Маленькая треугольная шапочка красовалась на черепе.
Пфаненштиля не испугал этот образ смерти: он был ему близок по самому роду службы; но какой человек мог спокойно спать под охраной столь ужасного стража? И что за странное удовольствие генерал находил в том, чтобы издеваться и подшучивать над серьезнейшими вещами?
Тут мавр открыл предпоследнюю комнату со стороны озера и поставил подсвечник на камин. Пфаненштиль с лихорадочно горящими щеками подошел к окну, желая распахнуть его, но Гассан остановил его.
— Воздух озера нездоров, — предостерег он молодого человека, распахивая двустворчатые двери соседней комнаты с целью впустить свежий воздух.
Затем он, поклонившись, удалился. Пфаненштиль расхаживал некоторое время взад-вперед по комнате, желая успокоиться и нагнать на себя сон после дня, полного столь странных событий. Но самое опасное приключение было еще впереди.
Из раскрытой Гассаном комнаты донесся тихий звук, словно глубокий вздох. Заколебались ли складки занавеси от ночного ветерка или это сова пролетела мимо полузакрытых ставней? Пфаненштиль замедлил шаг и прислушался. Вдруг ему пришло в голову, что соседняя комната — последняя в этой части дома и, следовательно, должна быть помещением, занимаемым, по словам лодочника, турчанкой генерала.
Естественно, что мысль о таком соседстве повергла безупречного молодого священника в жуткое смятение. Но после краткого размышления он решился мужественно войти со свечкой в пресловутую комнату.
Он ступил на роскошный турецкий ковер и, обернувшись направо, очутился перед картиной в богатой золоченой раме в виде переплетающихся листьев, занимающей всю стену маленького кабинета напротив окна. Картина принадлежала кисти одного из нидерландских или испанских художников только что закончившейся блестящей эпохи. Она была написана в той сочной и пленительной манере, которая утрачена новейшими художниками. Молодая восточная красавица с опьяняющими черными очами и пылающими губами стояла, опершись на балюстраду в мавританском стиле. Принцы из «Тысячи и одной ночи» при виде таких красавиц падали в обморок.
Красавица приложила палец к губам, словно внушая стоявшему перед ней: «Проходи, но храни молчание». Пфаненштиль, никогда не видевший ничего подобного, был глубоко потрясен соблазнительностью этого жеста, блеском глаз. В его душе всколыхнулось нечто доселе совершенно неизведанное, чему он не смел дать названия, — сладкое томление, предвкушение! Перед этой картиной он начал проникаться верой в необоримую силу подобных ощущений, трепетом перед их властью.
Внезапно Пфаненштиль отвернулся от картины и бросился обратно в свою спальню; здесь он не удовольствовался тем, что запер двери, а задвинул и засов и повернул еще напоследок в дверях ключ. Только после этого он смог почувствовать себя в относительной безопасности и зарылся в подушки.
Однако стоило ему уснуть, как прекрасное видение проникло в комнату сквозь закрытые двери и коварно приняло облик Рахели Вертмюллер с ее девичьими формами, ее одухотворенными чертами. Но глаза ее были томными, как у восточной красавицы, а палец она прижимала к губам.
Это был страшный час для бедного Пфаненштиля. Он хотел бежать, но демоническая сила бросила его к ногам девушки. Он лепетал безумные мольбы и в отчаянии укорял себя. Он обнял колени девушки и тут же осудил себя как нечестивейшего из всех грешников. Рахель сначала просто изумилась, потом строго и неодобрительно взглянула на него и под конец возмущенно оттолкнула от себя. Тут возле него очутился генерал и подал ему пистолет. «Женщина, — наставлял он, — покоряется стихийной мужской силе». Рука Пфаненштиля согнулась под напором железной руки, и он, приставив смертоносное оружие к своему виску, простонал, обращаясь к Рахели: «Беги со мной!» Она отвернулась от него, он выстрелил и проснулся в холодном поту. Трижды в мучительном полусне проходил он по этому заколдованному кругу от вожделения к злодеянию и от злодеяния к раскаянию, пока наконец не открыл окна и не погрузился под чистым дыханием священного утра в глубокий сон.
Он проснулся лишь тогда, когда Гассан вошел в комнату и по его приказанию поднял жалюзи. Утренний свет наполнил комнату, разогнав ночные видения.
— Генерал в церковь, — сказал мавр, — господин хочет завтракай?
Глава VIII
Итак, в то самое время, когда Пфаненштиль еще только пробуждался от сна, генерал Вертмюллер шел уже недалеко от Ютиконской церкви среди воскресной толпы, заполнявшей все ведущие туда дороги и тропинки.
Поступь генерала отличалась сегодня размеренностью; он держался в высшей степени достойно и безукоризненно. Одет он был в черный бархатный сюртук и нес в правой руке молитвенник.
Вертмюллер, с давних пор сторонившийся всякой церкви, был на плохом счету у ютиконцев и считался среди них закоренелым вольнодумцем. Для них было неоспоримо решенным вопросом, что он рано или поздно попадет в когти черта, — и все же они были обрадованы, увидев его на дороге к церкви. Они не усматривали в его появлении раскаяния, да им было бы и не по душе — в этом они сходились с греческими трагиками, — если бы взрослый человек поменял свою сущность; они были убеждены, что генерал останется верным себе и со всей решимостью обречет себя на вечную гибель; ютиконцы воспринимали посещение старым воином церкви как проявление вежливости, как честь, оказываемую генералом общине, как прощальный визит перед отправлением в поход.
Поклонам не было конца, и на каждое приветствие генерал благодушно кивал или даже произносил нескольких дружеских слов. Только одна старуха, самая злая во всей общине, пихнула свою глуповатую дочь, глазевшую на генерала, и шепнула ей:
— Спрячься за мной, не то он схватит тебя и превратит в турчанку.
Пастор Вертмюллер был не столь сильно обрадован видом прихожанина. Когда пастор вышел в своем церковном облачении из ворот двора, его изумлению не было границ, ибо Рахель ничего ему не сказала о посещении генерала.
Пастор, человек лет шестидесяти, еще крепкий с виду, с чертами лица не столько умными, сколько мужественными, любил генерала как опытного охотника. Но то, что генерал пришел искать для себя духовного назидания именно в Ютиконской церкви, — от этого он бы его охотно освободил.
Генерал вежливо снял шляпу, взял пастора за руку и отвел его обратно в переднюю. Как раз в этот миг прекрасная Рахель сходила с лестницы; она держала в руке маленький, переплетенный в черный бархат молитвенник.
— Ты чудесно выглядишь! Просто фея! — поприветствовал ее Вертмюллер. — Позволь поцеловать тебя в лоб.
Она не сопротивлялась, и маленький, но крепко и хорошо сложенный генерал вынужден был подняться на цыпочки, чтобы дотянуться до изящного лба высокой девушки.
— Не позовешь ли меня после проповеди в гости, старина? — спросил Вертмюллер.
— О чем речь! Разумеется, — ответил гостеприимный пастор. — Рахель останется дома и приготовит нам угощение.
Приветливая девушка прибавила, слегка присев:
— Благодарим за честь, крестный, — и поспешила назад, на верхний этаж.
— У меня есть кое-что для тебя, старина, — улыбнулся генерал.
— Оружие? — вырвалось у пастора, и глаза его заблестели.
Вертмюллер утвердительно кивнул и вынул из широких недр своего бархатного одеяния пистолет. Благородные формы этого маленького шедевра оружейного мастера совершенно пленили взор пастора. Вертмюллер вышел с ним из сумрака передней через заднюю дверь дома в сад, чтобы дать ему полюбоваться на маленькое драгоценное оружие при свете дня.
Вдоль стены дома тянулась невысокая, обвитая виноградом беседка. На одном конце этого зеленого крытого прохода пастор много лет назад установил у каменной стены маленькую мишень, чтобы, заняв позицию у противоположного входа, в свободные часы упражняться в стрельбе.
— С Востока? — спросил он, завладев пистолетом.
— Венецианское подражание; посмотри, здесь скрещивающиеся инициалы Г. Г., что означает Грегорио Гоццоли, — расхваливал Вертмюллер.
— Я припоминаю, что видел этот драгоценный пистолет в твоей оружейной. Разве их было не два?
— Тебе почудилось.
— Может быть, я ошибся… Как действует механизм?
— К сожалению, собачка несколько туговата. Но тебе не следует доверять это сокровище местным оружейникам — они его испортят.
— Тугой спуск — не беда, — ответил пастор.
Невзирая на свое облачение, он стал в позицию в конце аллеи. Опираясь на левую ногу и выставив вперед правую, он взвел курок и согнул руку.
Колокольный звон на ближайшей колокольне едва успел затихнуть, и отзвуки последних ударов сливались с жужжанием ос, суетившихся вокруг не срезанных еще золотых гроздей винограда.
Пастор ничего не слышал. Он нажимал и нажимал на собачку изо всех своих сил.
— Какие жуткие ты строишь гримасы! — посмеивался Вертмюллер. — Дай сюда! — Он вырвал у него оружие и нажал своим железным пальцем на собачку. Курок с треском спустился. — Ты теряешь силу, братец! Я сам сделаю механизм более податливым. Ты ведь знаешь, что я знаменитый слесарь и не последний оружейник.
Генерал опустил оружие в карман.
— Нет-нет, ни за что! — воскликнул пастор. — Ты мне его уже подарил, я его не выпущу больше из рук!
Генерал снова вытащил из кармана пистолет — уже другой. Старый фокусник успел подменить его близнецом, почти неотличимым от первого. Едва только оружие очутилось в руках у пастора, как он опять стал в позицию и обнаружил намерение снова взвести курок. Но генерал схватил его за руку:
— После! Что ты творишь? Уже давно отзвонили.
Вильперт Вертмюллер словно очнулся от сна, пришел в себя, прислушался. Царила глубокая тишина, только слышалось жужжание ос. Он торопливо сунул пистолет в просторный карман, и двоюродные братья пошли по короткой, уже совершенно безлюдной дороге к церкви.
Глава IX
Когда оба Вертмюллера вступили в храм, он был уже переполнен народом. Справа сидели мужчины, слева женщины, а в глубине храма, лицом к молящимся, разместились церковные старосты, среди них Крахгальдер.
Две широкие колонны, соединенные вверху полукруглой аркой, отделяли апсиду от церкви. У правой колонны возвышалась кафедра, а у подножия ведущей на нее витой лестницы находилось единственное свободное место в виде дубового резного стула, который обычно занимал пастор во время пения хоралов. Он указал на это место генералу и без промедления поднялся на кафедру. Запоздавший пастор спешил указать своей пастве номер сегодняшнего хорала.
То был любимый им хорал из нового сборника, занесенный из Германии, — благодарственное песнопение за удачный сбор винограда. «Возрадуйтесь, возрадуйтесь!» — разносилось в прекрасных чистых стенах с восемью стрельчатыми окнами, через которые вливалась в церковь сияющая лазурь дивного дня.
Генерал, появление которого вызвало одобрительный шепот, сидел, повернувшись в сторону прихожан, с сосредоточенным выражением лица; но он мог при легком повороте головы без труда наблюдать за возвышением, на котором помещался его двоюродный брат. Только что генерал бросил взгляд наверх. Духовный пастырь Ютикона, не раз слышавший сегодняшний радостный гимн и вполне уверенный в своей также уже неоднократно произнесенной проповеди, слегка ощупывал карман.
«Бейте, бейте в литавры!..» — гремело на всю церковь. Вертмюллер покосился на лестницу, ведущую на кафедру. Пастор вытащил маленький пистолет из кармана и за высокой оградой кафедры рассматривал его глазами, полными любви.
«Трубите, трубите в трубы!..» — пели ютиконцы. Среди их громких возгласов генерал отчетливо расслышал резкий щелчок, как будто на кафедре взвели курок. Он усмехнулся.
Наконец дело дошло до последней, любимой строфы ютиконцев. «Играйте, играйте на флейтах», — выводили они старательно. Генерал снова украдкой взглянул на кафедру. Пастор, словно играючи, прикоснулся своим толстым пальцем к спуску — он ведь знал, что даже при всем желании не в состоянии спустить курка. Но тут он почему-то снова отдернул палец, и нежные флейты отзвучали. Генерал недовольно насупил брови.
Теперь пастор перешел со всем подобающим благоговением к служению литургии; маленький пистолет он снова опустил в свой вместительный карман. Затем он стал читать из толстой Библии, постоянно лежавшей на кафедре. Это был чудесный семнадцатый псалом: «Восхвалите Господа громкими звуками!»
Проповедь уже близилась к середине. Еще раз генерал кинул наверх подстерегающий взгляд, заметно разочарованный, с выражением почти укоризненным; но тут лицо его вдруг повеселело. В разгаре увлечения пастор, левой рукой неустанно жестикулирующий перед народом, правой снова инстинктивно вытащил пистолет из кармана. «Восхвалите Господа громкими звуками!» — пропел он — и — бац! — раздался резкий выстрел. Пастора окутал дым. Когда он немного рассеялся, пастор снова стал виден, а голубое облачко порохового дыма медленно возносилось ввысь, паря над молящимися, словно дым кадильный.
Ужас, испуг, изумление, досада, гнев, подавленный смех — вся эта гамма чувств отразилась на лицах слушателей. Церковные старшины на хорах выглядели возмущенными. Положение становилось серьезным. Но тут генерал обратился к взволнованным ютиконцам внушительным и властным тоном:
— Дорогие братья! Не смущайтесь этим выстрелом. Подумайте: сегодня я в последний раз — насколько дано предвидеть человеку, — внимаю молитвам среди вас, прежде чем отдать свою бренную плоть на волю вражеских пуль! Господин пастор, докажите, что тверды духом, и доведите проповедь до конца.
Пастор бесстрашно возобновил свою проповедь, не смущаясь, не теряя нити, не путая выражений, не запинаясь и не заговариваясь. Все снова пришло в порядок, только голубое облачко дыма ни за что не хотело растаять в закрытом помещении и упорно парило над молящимися то в тени, то в лучах солнца, пока его очертания наконец не растворились в воздухе.
Глава X
В то время как пастор мужественно заканчивал проповедь, оставшаяся дома Рахель отдала в кухне распоряжения насчет угощения; затем, взяв корзину, с маленьким садовым ножичком в руке, она вышла в сад через заднюю дверь, чтобы срезать несколько кистей спелого винограда. Вдруг она увидела там, где тропинка огибала часть сада, лежащую в стороне от проезжей дороги, крайне странное зрелище. Дикого вида человек в потрепанной одежде, опершись руками о забор, сумасшедшим прыжком перепрыгнул через изгородь. Рахель не верила своим глазам. Неужели это он? Не может быть! И все-таки это был он, Пфаненштиль.
Молодой человек едва притронулся к завтраку, который подал ему услужливый мавр Гассан. Мост к этому времени был уже опущен, и его неудержимо тянуло наверх, к дому ютиконского пастора. Он знал, что дороги и горные тропинки будут, пусть и короткое время, безлюдны. Утренний ветер развеял восточное видение, но, несмотря на свежесть осеннего дня, одна из вчерашних мыслей как заноза застряла в голове у Пфаненштиля. Ему не хватает мужественности — так попрекнул его генерал, — верного залога победы над женщиной. Эта мысль причиняла молодому человеку немало огорчений. Ему казалось, что представляется возможность предпринять нечто весьма отважное — правда, без применения огнестрельного оружия, — и вот, совершенно потерявший душевное равновесие Пфаненштиль решил поразить Рахель ранним визитом.
Прыжок через забор, предположим, не назовешь особенным геройством: напротив, это было не что иное, как бегство от первых замеченных среди придорожных деревьев людей, возвращавшихся из церкви.
Когда Пфаненштиль приблизился к девушке с решительным выражением лица, та была серьезно обеспокоена его видом, лихорадочными глазами, бледностью — последствиями бессонной ночи. Болтающаяся на нитке пуговица и пустое место, оставленное другой, начисто оторванной, не ускользнули, разумеется, от ее внимания и довершали жуткое впечатление.
— Ради бога, скажите, что с вами, господин викарий? — обратилась к нему девушка. — Вы больны? На вас лица нет, вы меня пугаете! Что он с вами сделал, мой сумасбродный крестный? Он ведь обещал мне вас не трогать — и вот привел вас в совершенное расстройство. Расскажите мне в подробностях, что с вами там приключилось. Может быть, я смогу вам чем-нибудь помочь.
Когда Пфаненштиль взглянул в ее разумные и вместе с тем такие теплые глаза, то ему тотчас стало ясно, что именно влекло его сюда. Бес приключений тут же оставил его, и Пфаненштиль исповедался перед кареглазой девушкой во всем, что пережил на острове, не утаив ни единой мелочи; исключение он сделал лишь для призрака турчанки, которая была не чем иным, как порождением его воспаленного сознания. Он признался Рахели, что его поразил выказанный генералом упрек в недостатке мужественности и он до сих пор не в силах отделаться от этой мысли. И он просит сказать ему откровенно, является ли это недостатком, и если да то, что с этим делать.
Рахель смотрела на него с минуту почти растроганным взглядом, затем разразилась звонким смехом:
— Крестный подшутил над вами; но то, что он отговорил вас становиться полковым священником, — это правильно. Вы хотели поступить наперекор собственной натуре, а он насмешкой привел вас в чувство… Да и к чему вам это? Какой вы есть — и именно такой, какой вы есть, — вы мне нравитесь больше всего. Отцовская страсть к охоте, несвойственная его сану, доставила мне немало тяжелых минут! Что касается меня, то я хочу, чтобы рядом со мной был человек, который своим безупречным образом жизни служит окружающим поучительным примером, умеренно пьет домашнее вино, любит свою жену и время от времени принимает у себя скромных и образованных друзей!.. Ох уж эти светские люди! Я всегда бываю по горло сыта их застольными беседами, когда они приезжают к отцу. Крестный вам вчера многое поведал; не рассказал ли он также, какую штуку сыграл со своей молодой женой, когда ему было восемнадцать лет? Той как-то захотелось испанских булочек, какие пекутся в Бадене. «Я привезу тебе горячих», — сказал он галантно, оседлал лошадь и уехал. В Бадене он уложил эти булочки в коробку вместе с запиской о своем отъезде в шведский лагерь. Этот прощальный привет он отправил к ней с посыльным и с тех пор не виделся с женой много лет. Вы бы, наверно, так не поступили… — И она протянула стоявшему перед ней Пфаненштилю руку со словами: — А теперь я должна пришить вам пуговицы. Мне не по себе, когда я вижу вас в таком состоянии. Присядьте! — При этом она указала на скамеечку в беседке. — Я принесу наперсток и иглу.
Пфаненштиль сел, и она убежала с корзиной, полной винограда. И тут все его существо охватило чувство непередаваемого блаженства. Свет и зелень, низкая беседка, скромный пасторский дом, освобождение от демона сомнений и беспокойства!
А она, его освободительница, была тем временем охвачена беспокойством. Какую проделку задумал и, быть может, уже привел в исполнение генерал? Рахель упрекала себя в том, что предоставила ему свободу действий.
На кухне она узнала, что пастор вместе с генералом заперлись в комнате и что вскоре после этого церковные старшины торжественно поднялись вверх по лестнице. В церкви произошло, по-видимому, нечто неслыханное. Она обратилась с расспросами к рыбаку, принесшему ей из своего садка форелей, но тот состроил глупое лицо, и из него не удалось вытянуть ни слова. Девушка, взволнованная, бросилась к себе в комнату и с трудом впопыхах нашла иглу и наперсток.
Глава XI
После окончания службы в церкви оба брата направились вместе в близлежащий пасторский дом; они шли рядом, пастор по правую руку генерала; обоих, по-видимому, мало беспокоило выражение общественного мнения, запечатленное на лицах встречных.
Дома Вертмюллер духовного звания повел за собой Вертмюллера светского, как провинившегося грешника, в свой пасторский кабинет и тщательно запер за собой двери. Затем он подошел вплотную к насмешнику.
— Брат, ты поступил со мной очень нехорошо. — И пастор сделал такое движение, как будто хотел схватить генерала за ворот.
— Руки прочь! — воскликнул тот. — Мы что, будем драться? Подумай о своей должности, о своем сане!
— Моя должность, мой сан? — повторил медленно, с горечью пастор.
На его седой реснице повисла слеза. Этими четырьмя простыми словами было сказано то же, что нас так потрясает в великолепной тираде Отелло, когда он прощается со своим прошлым. Генерал отвел взгляд: слезы на глазах старого человека — это уже и для него было слишком.
— Ну-ну, — стал он утешать пастора, — ты проявил изумительное хладнокровие! Клянусь честью, ты истинный Вертмюллер! Ты мог бы стать великим полководцем.
Но старик не поддался на лесть.
— Что я тебе сделал? — возмущенно спросил он. — Позволял ли я себе когда-нибудь уколы и намеки в твой адрес? Мешал ли тебе быть закоренелым язычником? Разве я не выгораживал тебя когда только возможно? И в благодарность за все это ты коварно подменяешь пистолет, шут ты эдакий! Зачем ты осрамил меня? Потому что тебе несладко в собственной шкуре!
— Ну-ну! — сказал генерал.
Тут раздался стук в дверь. Церковные старшины во главе с Крахгальдером вошли в комнату и торжественно, почти с враждебностью расположились напротив обоих Вертмюллеров. Их вытянувшиеся лица ясно говорили генералу, как серьезно он оскорбил чувства деревенских жителей своей проделкой.
Крахгальдер, к мнению которого все прислушивались, был в самом деле возмущен до глубины души. Хотя он и не мог до конца объяснить себе того, что произошло, он не задумываясь относил случившееся на счет генерала, который, воспользовавшись слабой стрункой своего двоюродного брата, решил устроить скандал. Крахгальдер принимал близко к сердцу честь своей общины: он искренне любил ютиконскую церковь с ее стройной колокольней и восемью светлыми окнами. Ему нравилось ходить после трудовой недели в церковь в чистом праздничном платье и в башмаках с пряжками; нравилось принимать участие в крестинах и похоронах; нравилось бороться с дремотой и снова приходить в себя; нравилось звучное «аминь», нравилось стоять со старшинами на кладбище, нравилось беседовать с пастором после службы и неторопливо возвращаться домой.
Короче говоря, Крахгальдер был человеком, преданным церкви, и когда его чувства были таким образом оскорблены, то сердце его облилось кровью, или, вернее, в нем вскипела желчь.
— Что вас привело сюда? — обратился к нему генерал; при этом он вперил в него такой испытующий взгляд, что Крахгальдер, несмотря на свою чистую совесть, не выдержал и глаза его забегали по сторонам.
— Не надо устраивать шумиху! — продолжал, не дожидаясь ответа, Вертмюллер. — Примите этот выстрел за запоздалый салют в честь хорошего урожая винограда или, черт побери, за что хотите!
— Урожай был не самый лучший, — возразил старшина с гневом, — а стрелять в церкви — дело дурное, господа Вертмюллеры! У меня дома лежит летопись городка; там можно прочесть об одном случае, происшедшем много лет назад: молодому священнику вздумалось со святым причастием в руках обмениваться влюбленными взглядами со своей невестой, и… — Крахгальдер сделал характерный жест рукой у шеи.
— Чепуха! — бросил генерал нетерпеливо.
— У меня есть также история ересей, — упрямо продолжал Крахгальдер, — в которой описаны и изображены все расколы и секты с начала века. Но ни одному отступнику еще не приходило на ум стрелять с кафедры во время проповеди. Это, господин пастор, совершенно новое, невиданное течение!
Пастор вздохнул, осознав всю беспримерность своего поступка.
— В Цюрихе уже расследуют историю с выстрелом, — пригрозил неумолимый крестьянин. — По этому делу проведут заседание. Мне хоть и обидно за вас, господин пастор, но я надеюсь, что там вам вынесут суровый приговор. А нам, ютиконцам, уже не избавиться от насмешек, а это ведь хуже всего. Как я подумаю об этом, клянусь вам, у меня замирает сердце. Весь правый берег поднимет нас на смех. Впредь нас будут высмеивать на все лады. Выстрел в Ютиконе будет звучать и через много лет, отдаваясь эхом в новых поколениях. Сошлюсь на ваш пример, господин генерал, — продолжал Крахгальдер, и в его глазах засветился злой огонек. — Вам-то известно, что это значит! Подумайте, сколько воды утекло со времени вашего отступления из-под Рапперсвиля? А еще в те времена католиками была сложена про вас песенка, и, поверите ли, она жива и поныне. Вы человек прославленный, и даже изображения ваши всюду известны, но что из этого? Еще позавчера недалеко от моего дома проплыла с шумом и песнями барка, везшая богомольцев. Я стоял в своем винограднике и наблюдал за ними. Около вашего дома они затихли. «Вот что значит почтительность!» — сказал я себе. Да, как бы не так! Едва только они подплыли к самым окнам вашего дома, как грянула песенка на ваш счет — знаете, та самая, где Вертмюллера отсылают домой к мельничихе Мюллерше! Хорошо, что вас в это время не было дома! Я донельзя веселился в своем винограднике.
— Молчите! — гневно выкрикнул генерал; позор неудачной осады все еще жег его душу, жег даже сильнее, чем прежде. Однако он быстро взял себя в руки и сменил тон. — Без некоторого замешательства не обходится ни одна комедия, но раз уже дошло до последней точки, то надо быстрее вести дело к благополучной развязке. Господин пастор и дорогие соседи! Вчера я до поздней ночи писал завещание и в полночь подписал его. Мне известен ваш горячий интерес ко всему, что я делаю, что я оставляю и чего можно от меня ожидать после моей смерти. Позвольте же прочесть вам отрывок из моего завещания.
Он вытащил из кармана рукопись и развернул ее.
— Вступление, где я немножко философствую о разных вещах, я пропускаю… «Когда я, Рудольф Вертмюллер, умру…» Ну, это, впрочем, тоже сюда не относится. — Он перевернул страницу. — Здесь: «Замок и имение Эльгг, приобретенные на честные сбережения, сделанные мною во время последнего похода, переходят как майорат по завещанию к моему семейству» — и так далее. Засим: «Ввиду того что в этом владении имеются хорошее, но запущенное охотничье угодье и оружейная палата, составленная из трофеев вышеупомянутой кампании, я выражаю свою волю, чтобы после моей смерти мой двоюродный брат, пастор Вертмюллер, принял на себя заботу об этом замке и имении, поселился там, привел в порядок угодье, пополнил оружейную и вообще во всех отношениях свободно распоряжался этим имуществом вплоть до самой своей смерти, при условии, чтобы сие духовное лицо отказалось от занимаемой им должности в Ютиконе и передало ее Пфаненштилю, кому я отдаю свою крестницу Рахель Вертмюллер в жены, конечно, не без согласия ее отца и с тремя тысячами цюрихских гульденов, которые я завещаю сей девице завернутыми в мое благословение». Уф, — перевел дух генерал, — ну и предложения! Этот проклятый немецкий язык!
Пастор как человек разумный — если не считать его злополучной страсти — тотчас понял, что генерал открывает ему единственный и к тому же в высшей степени приятный выход из создавшегося для него постыдного положения. Он подал злодею и благодетелю руку с оттенком растроганности, а тот потряс ее со словами:
— Если поход закончится для меня благополучно, то тебе, брат, и от этого не будет ущерба! Я устрою дело так, как если бы я умер, и водворю тебя в качестве моего собственного душеприказчика в Эльгге.
Ютиконцы слушали, навострив уши, так как чувствовали, что теперь их черед получать дары.
— Я завещаю ютиконцам… — продолжал генерал, и его карандаш загулял по бумаге, которую он держал в левой руке, ибо он тут же набрасывал этот параграф, внушенный сложившимися обстоятельствами, — ютиконцам я завещаю тот угол моего поместья, который клином врезается в общинный лес у Волчьей тропы, состоящий на две трети из хвойного леса и на одну треть из буков; таким образом, оба пограничных камня общинной земли впредь должны соединяться между собой прямой линией с соответствующим для меня ущербом. Сегодня же — даю честное слово перед свидетелями — эта приписка будет окончательно оформлена за моей подписью, при условии, однако, что выстрел в ютиконской церкви, о котором ходят какие-то неподтвержденные слухи, будет отнесен к числу вещей, никогда не случавшихся. Да будет он покрыт вечным молчанием, каковое ютиконцы обязуются хранить клятвенно как в этой жизни, так и после смерти, не исключая и последнего дня на Страшном суде.
Крахгальдер, казалось, пребывал во время этого сообщения в полном спокойствии, только ноздри его слегка раздувались, черты же лица его оставались невозмутимыми, да еще пальцы у него слегка изогнулись, как будто в намерении крепко зажать в руке подарок.
— Господин генерал, видит Бог! — воскликнул он и поднял руку для клятвы.
Но Вертмюллер прибавил еще:
— В противном случае, если молчание будет нарушено, я по возвращении из предстоящего похода намерен отменить и уничтожить это свое завещание. Если я буду лишен этой возможности по причине наступившей смерти, то клянусь объявиться среди ютиконцев в виде духа и в наказание за клятвопреступление прохаживаться взад-вперед по их улице между двенадцатью и часом ночи. Ну что, Крахгальдер, беретесь ли вы выполнить эти условия?
— Мы были бы дураками, если бы открыли рты.
— А ваши жены?
— Об этом уже мы позаботимся сами, — спокойно сказал старый крестьянин и сделал выразительный жест рукой.
— Ну, Крахгальдер, представьте себе, что я вернулся из своего похода, — сказал дружелюбно генерал, — и вот мы сидим с вами на моей веранде, я кладу вам руку на плечо, как сейчас, мы пьем вино и болтаем о разном. И тут я как бы мимоходом замечаю: «А выстрел-то здорово тогда прогремел!»
— Какой выстрел? Что вы мелете, господин генерал! — воскликнул церковный старшина, полный негодования; как ни забавно, оно было вовсе не притворным, а, напротив, совершенно искренним.
Вертмюллер довольно усмехнулся.
— Теперь по домам, господа, — обратился старшина к своим спутникам, — и во избежание несчастья через четверть часа всей деревне должно сделаться известным, что тот выстрел… я хочу сказать, что мы сегодня услышали прекрасную проповедь. — Он пожал пастору руку. — А вам, генерал, я подаю эту руку, чтобы скрепить наш уговор.
— Подождите, — обратился к ним генерал, — я хочу, чтобы вы стали свидетелями того, как счастливый отец соединит руки двух молодых людей. Викарий должен быть где-то здесь, поблизости. Если глаза меня не обманули, я видел издали, как он перескакивал через забор, и таким прыжком, какого я от него никак не ожидал.
— Рахель, сюда, скорее! — крикнул пастор через открытые двери во внутренние комнаты.
— Сейчас, отец, — послышался ответ, но не из комнаты, а снаружи, из беседки.
Генерал быстро выглянул в окно и увидел сквозь листву обоих молодых людей. Наконец Рахель с легкой досадой на лице вышла из-под густой листвы, ведя за собой Пфаненштиля. Они вместе вступили на небольшую круглую площадку, обсаженную плодовыми деревьями, под самыми окнами пасторского кабинета, откуда выглядывали генерал и любопытствующие церковные старшины.
Девушка держала в своей ловкой руке иголку и на глазах у всех прикрепляла болтавшуюся на платье Пфаненштиля пуговицу. Она, нисколько не смущаясь, доделала свою работу. Лишь после того, как нитка была закреплена, она подняла свои карие глаза, в которых веселость боролась с серьезностью, и, пристально глядя на своего забавного гения-покровителя, бросила ему слова:
— Крестный, за короткое время вы чуть не довели до полного расстройства и не погубили господина викария; поневоле мне приходится приводить его в порядок, чтобы он мог предстать в нормальном виде перед Богом и людьми. Но скажите, что вы сделали с его верхней пуговицей, которую мне пришлось заменить отцовской? Возвратите ее по принадлежности или… — И она подняла иголку с такой решимостью и угрозой, что все мужчины разразились громким смехом.
Через несколько минут Пфаненштиль и Рахель предстали перед священником, и он обручил и благословил их. Когда же церковные старшины разошлись по домам, почтенный пастор не преминул прочесть своему зятю нотацию:
— Что это такое, господин викарий? Крадетесь мимо церкви, потом эти оборванные пуговицы… Где уважение к своему сану?
Затем он повернулся к генералу:
— Так, вот одна парочка. Ну, братец, а теперь другая: давайте-ка сюда!
Он залез к генералу в карман, вытащил оттуда пистолет с тугим спуском, вынул затем из собственного кармана другой с легкой пружиной и стал их сравнивать.
Ютиконский выстрел был обречен на забвение и превратился в предание, блуждающее подобно бесприютному призраку и по сей день по чудным берегам озера. Впрочем, даже если бы ютиконцы и проболтались, генерал не смог бы лишить своего завещания силы, ибо ему уже не было суждено вернуться. Гибель его была жуткой и внезапной. Однажды в сумерках он въехал со своей свитой в маленький немецкий городок. Остановившись в единственной плохой гостинице, позвал к себе старшину и отдал приказ о реквизициях. Два часа спустя его уложил в постель внезапный припадок болезни, а ровно в полночь душа генерала рассталась со своим телом.