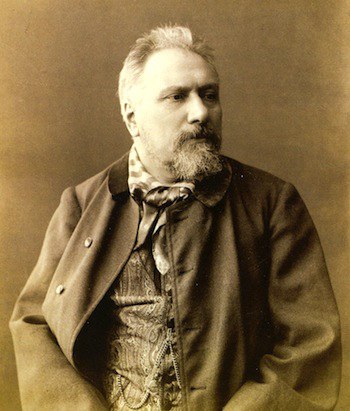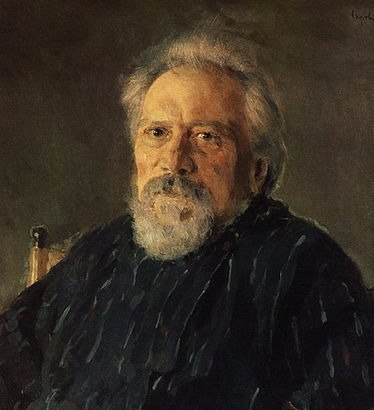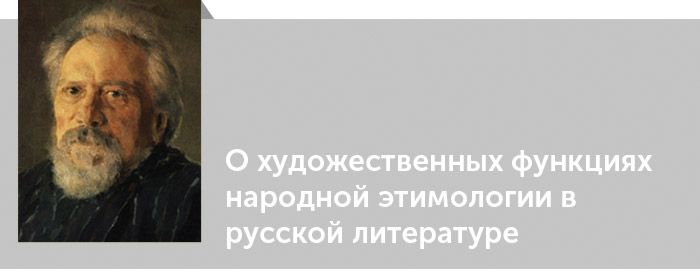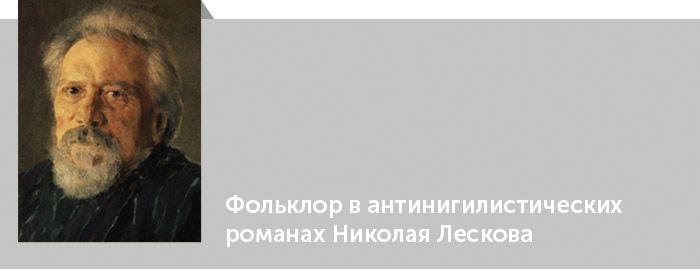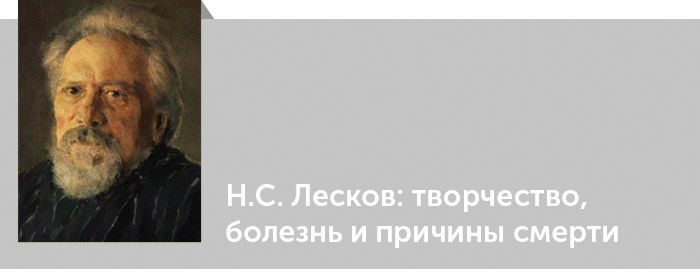Поэтика «положительного типа» Лескова и кризис «общей идеи» 80 – 90-х годов XIX века в России
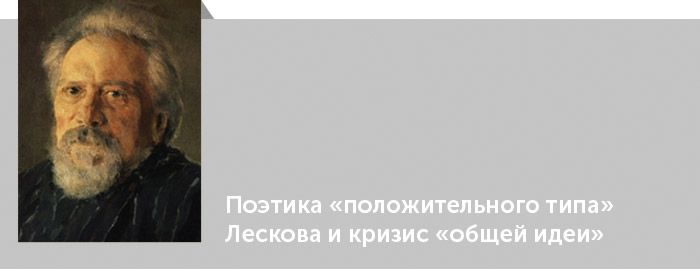
К.А. Титянин
Каменец-Подольский государственный университет
Лесков ясно осознавал, что его герои-«праведники» противостоят, как он говорил, «дряни» в его собственной и во всякой «иной русской душе» [6, т.2, с.4] во вступлении к циклу «Праведники» 1879-1889 гг. «Дрянь», по его мнению, была также основным содержанием и общественных настроений 80-х – 90-х годов, которые писатель называл «днями полного упадка и базарничества» (письмо С.Н. Шубинскому от 19 сентября 1887 г.). В эти-то «дни» Лесков настойчиво (хотя, подчас, и с мужеством безнадежности) противопоставлял именно «идейный», то есть морально-общественный смысл своих «праведников» той среде, о которой писал: «Я в ужасе, я в немощи, я в отчаянии за ту полную безыдейность, которую вижу… <…> Так падать, как падает эта среда, – это признак полной гадостности. Это какие-то добровольцы оподления...» (письмо к И.Е.Репину от 18 февраля 1889 г.).
Такая, более чем определенная, позиция писателя прямо подталкивает к оценке его «положительного типа» прежде всего в плане культурно-историческом, социологическом. Это и было довольно обстоятельно сделано в работах советской поры В.Ю. Троицкого [10, с.4965], И.В. Столяровой [9, с.180-215] и А.А. Горелова [2]. В этом же русле находится и статья Л.А.Аннинского, который «блажных и блаженных» Лескова рассматривает как проявление парадоксальности русского характера [1].
Культурно-исторический подход к поэтике образа «праведника» Лескова, конечно, дополняется в названных работах и литературнотипологическим, и cтилевым аспектами, но даже в наиболее обстоятельном исследовании И.В. Столяровой поэтика лесковского положительного типа рассмотрена далеко не полностью. Мы же, стремясь заполнить этот пробел, исходим из предположения, что наиболее информативны именно художественные параметры героя-«праведника», что они позволят уточнить не только характер противостояния этих образов кризису «общей идеи» (А.П. Чехов) в 80-е – 90-е годы, но и более широкий их историко-литературный смысл.
Анализируя русские литературные типы с «незаурядным» характером в одном ряду с лесковскими положительными образами, В.Ю. Троицкий делает вывод о том, что обращение Лескова к такому герою было «в значительной степени созвучно эпохе» [10, с.51]. Речь у него идет о таком литературном ряде: А.И. Левитов («Степная дорога днем», 1862 г., «Сапожник Шкурлан», 1863 г.), Н.Н. Златовратский («Безумец», 1887 г.), В.М. Гаршин («Красный цветок», 1883 г.), В.Г. Короленко и А.М. Горький (альтруистические персонажи рассказов 80-х – 90-х годов).
Однако (за исключением персонажей Левитова) поэтика всего этого литературного ряда положительных героев явно разделяет Лескова с названными писателями: все они (в разной степени) строятся на условной или романтизированной образности, в то время как лесковский герой неотделим от мира повседневно-бытовых подробностей. Такая художественная природа положительного героя принципиально важна для самого Лескова (подробно об этом см. ниже) и ставит на особое, хотя и не «спасительное», место его героев в русской литературе 80-х – 90-х годов.
Оправдан, с нашей точки зрения, в приведенном выше типологическом ряду лишь его широкий временной охват, ведь в творчестве самого Лескова категория «праведничества» имеет сквозной характер (с 60-х до 90-х годов) [2, с.59], да и сознание кризиса идеалов «в обществе нашем» можно отметить у Лескова уже в начале 70-х годов [2, с.41]. Кроме того, нельзя забывать об условности самого историколитературного противопоставления последних двух десятилетий XIX века 50-м – 70-м годам этого столетия по отсутствию и наличию в них духовного единства, «общей идеи». Достоевский, например, говорил об ощущении «всеобщего обособления» в 1876 году, а его парадоксалист из «Записок из подполья», созданный как самовоплощение кризисного сознания, написан еще в 1864 году.
Что же касается названных В.Ю. Троицким рассказов Левитова, то автор их делает акцент на двойственности внутреннего мира своих героев. Например, основную черту Теокритова из «Степной дороги днем» писатель представляет как борьбу героя со злом в самом себе, с «внушениями беса»; сходен с ним и резко противоречивый характер Шкурлана. Все это не было свойственно «праведникам» Лескова. Он переносил акцент в своем герое не на двойственность, которая лишь «возможна» в человеке, а на его «глубочайшую "суть"», которая, по словам писателя, «все-таки там, где его лучшие симпатии» (письмо к Л.И. Веселитской от 13 января 1893 г.).
Между тем, есть у Левитова персонажи и в самом деле сходные с лесковскими праведниками. Такова, например, его бабушка Маслиха из одноименного рассказа 1864 года. Для нее платить добром за зло мальчишкам, обижающим ее, и вообще отстаивать справедливость было так же естественно, как и лесковским героям. К тому же ее пение «старинной псальмы», призывавшей «ужаснуться» человека, «потерявшего себя» «во гресех» [5, с.319], по функции и смыслу очень похоже на выкрикивание пророчеств из книги Исаии лесковским Однодумом. Сходство подобных героев Левитова начала 60-х годов (таковы его женские образы в рассказах «Целовальничиха», 1861 г., «Дворянка», 1863 г.) с лесковскими «праведниками» объяснимо и общим для них чувством личной причастности к судьбам народа, и одинаково важной для обоих писательской установкой на жизненный «факт».
А вот всем остальным, названным В.Ю. Троицким, произведениям 80-х – 90-х годов свойственна, повторяем, условная или романтизированная образность. Персонажи Лескова с их неизменной конкретно-бытовой обусловленностью резко выделяются на этом фоне, и контраст этот еще более усиливается неудачным опытом создания положительного типа таким крупным художником, как М.Е. Салтыков-Щедрин, сходным с Лесковым по основной художественной направленности на жизненные «факты».
Оставаясь в пределах жизнеподобной образности и социальной обусловленности типа, Щедрин в 70-е – 80-е годы пытается создать, например, положительный образ революционера-священника Феофана Филаретова из очерка «Переписка» («Благонамеренные речи», 1872-1876 гг.). Но характерно, что именно такого рода люди, которые изображены сатириком с явным сочувствием, вызывали у него сомнение относительно их исторических перспектив и, соответственно, возможностей их образного воплощения. «Этот изумительный тип глубоко верующего человека нередко смущал мое воображение, и я не раз пытался воспроизвести его. Но задача оказывалась непосильною» [12, с.217], – писал сатирик в «Заключении» к циклу «За рубежом» (1880-1881). Объяснял это писатель так: «…тут главным действующим лицом является 'вера' и … представление о 'вере' объемлет собой не только всего человека, но весь мир, всю область знания». Но, продолжает он, «кто сумеет раскрыть всю беспредельность этого содержания»? «спрашиваю по совести, где тот художник, которому были бы под силу такие глубины?» [12, с.217-218]. Положительный образ революционера (со смысловым обертоном «святости» или без него), и в самом деле, страдает у Щедрина эскизностью, художественной недововоплощенностью; персонажи эти у него всегда лишь эпизодические, часто безымянные. И вызвано это отнюдь не только цензурными причинами, но и общей неясностью для писателя путей исторических преобразований общества. Подобные образы встречаются у Щедрина в «Господах ташкентцах» (1869-1872), «Дневнике провинциала в Петербурге» (1872-1873), «Господах Молчалиных» (18741878), рассказе «Больное место» (1879).
Неудача Щедрина исторически объяснима все теми же причинами: неясностью или отсутствием «общей идеи». И Щедрин, и другие писатели сами достаточно ясно сознавали это. Но такие настроения их – свидетельство и более масштабных перемен, заметных и понятных из последующей исторической эпохи: они означали постепенную утрату литературоцентричности в сознании читателя-писателя. А в этом случае уже вообще никакое художественное произведение не способно было играть спасительную общественную роль. Ближе всех к осознанию этого подходил в эти годы А.П. Чехов, совершенно не приемля, например, дидактизм в творчестве Льва Толстого.
Лесков оставался «литературоцентричным» в том смысле, что, хотя иногда и с чувством безнадежности, но все же отстаивал своими «праведниками» классическое единство этического и эстетического начал в литературе. При этом его особая поэтика малых подробностей была художественным средством, дававшим такую жизнеспособность его образам, которая позволяла перешагнуть собственное время. Этим, на наш взгляд, он и брал на себя роль того «художника», которому, по словам Щедрина, «под силу» те «глубины», о которых он «по совести» спрашивал своих читателей.
Сам Салтыков-Щедрин, говоря о сущности «положительно прекрасного» человека (князя Мышкина Достоевского), связывал ее понимание с «отдаленнейшими исканиями человечества», не отбрасывая, впрочем, интересы современного общества (статья «Светлов, его взгляды, характер и деятельность», 1871 г.). Примерно такая же художественная установка была основой жизнеспособности и лесковских образов.
В ряду положительных типов, сопоставляемых с лесковскими «праведниками», князь Мышкин Достоевского не был упомянут В.Ю. Троицким. Как бы восполняя этот недостаток, И.В. Столярова подробно анализирует образы Достоевского в связи с положительным типом Лескова [9, с.181-199]. Но при этом основное внимание исследовательница уделяет Макару Долгорукому из «Подростка» (1875). Характер этого персонажа и в самом деле близок народному этическому идеалу лесковских героев, однако образ этот все же явно схематичен по сравнению с основными романными персонажами Достоевского. Поэтому в данном случае большего внимания заслуживают художественные особенности главного героя романа «Идиот», нужные для сравнения с положительными типами Лескова.
Для Достоевского сама возможность сделать психологически убедительным героя, ориентированного на Христа, была связана с приданием ему человеческих, то есть чреватых всеми жизненными противоречиями, черт детской чистоты и наивности, граничащих с юродивостью. Лесков идет во многом теми же путями, но отталкивается не от Христа, а от житийного праведника. У Достоевского определяющую роль играет аналитическое начало, естественное для его героя-идеолога. А вот герои Лескова вообще далеки от какого-либо теоретического поиска, что справедливо отмечено И.В.Столяровой [9, с.186]. Соглашаясь с ней, сформулируем эту разницу несколько иначе: положительный тип Лескова не столько художественно анализируется, сколько «созерцается» писателем во всей совокупности повседневных подробностей.
В общем плане о существенной роли подробностей, бытовой достоверности в художественной структуре лесковских «праведников» писали практически все, когда-либо обращавшиеся к творчеству писателя. С нашей точки зрения, акцент тут должен быть сделан на том, что подробности эти образует некий органический комплекс жизненно достоверных деталей, который как бы безошибочно «подсказывает» автору: «да, это внутренний облик праведника». Не случайно, малейшая дисгармония в этом органическом сплаве подробностей заставляет писателя сомневаться, годится ли его герой в «праведники». Поэтому органичность комплекса подробностей используется писателем, по сути, как своеобразный тест.
Например, в предисловии к рассказу «Шерамур» (1889) из цикла «Праведники» Лесков прямо говорит о «риске» отнесения своего персонажа к «праведникам»: слишком уж он «узок и односторонен», то есть в системе подробностей его жизни ощутимы некие пробелы. Автор «успокаивается», только тогда, когда закрепляет понимание сущности своего персонажа в ироническом подзаголовке «чрева-ради юродивый». В рассказе с такой наполовину иронической установкой речь уже не может идти о «созерцании» героя-«праведника», его характер как бы «проверяется», верифицируется анализом, как это обычно происходит с персонажами явно неоднозначными и сложными (например в «Леди Макбет Мценского уезда» 1865 г. и особенно в «Воительнице» 1866 г.). А вот «узость» Александра Афанасиевича Рыжова, чья односторонность как будто бы даже подчеркнута его прозвищем «Однодум», нисколько не мешает Лескову воспринимать его как полноценного «праведника» именно потому, что автор «удостоверен» (художественной интуицией) в этом неповторимым комплексом малых подробностей.
В «праведнике» Лескову настолько важно органическое начало, непроизвольное стремление к самопожертвованию, что писатель только тогда и проявляет интерес к нему, когда свойства эти присущи ему изначально, как природному существу. В этом у Лескова-художника сказывается, по сути, позиция эстетического любования своим положительным персонажем, поэтому мы и считаем возможным назвать подход к нему преимущественно «созерцательным», а не художественноаналитическим. Даже в обстоятельном повествовании об «очарованном страннике» не эволюция характера героя имеет главный интерес для автора, а последовательное выявление его как бы неизменной «глубочайшей сути». По-своему этот «эстетизм» Лескова ощущал и Лев Толстой. Чутко улавливая неприятную для него эстетизацию у любого писателя, поздний Толстой мог упрекать Лескова за «exuberance (фр. излишество) образов, красок <…> если бы не излишек таланта, было бы лучше» (письмо Л.Н. Толстого к Лескову от 3 декабря 1890 г.).
Само выражение «Лесков опирался при изображении «праведника» на конкретно-бытовой план» нельзя считать вполне правильным, потому что писатель только с его помощью и мог рассказать о возвышенном духовном складе своего героя. Да и сама сущность «праведничества» в понимании Лескова опять-таки подводит к важности комплекса подробностей. Сравнивая праведность с героизмом в заметке «О героях и праведниках» (1881), он понимает ее вовсе не как отдельный порыв самоотвержения, а как никогда не изменяющую человеку способность «прожить изо дня в день праведно долгую жизнь, не солгав, не обманув, не слукавив, не огорчив ближнего» (Цит по: [10, c.52]).
При изображении подобных образов в реалистической литературе куда меньше рискует употребить искусственную или просто неточную деталь (она сразу выдаст неподлинность «праведника») тот из писателей, кто обращается к стилизации материала уже глубоко традиционного (житие, христианская легенда, притча). Стиль, готовые сюжетные ходы, языковые конструкции в этом случае сами по себе художественно информативны. Тот же Достоевский, к примеру, рассказывает историю жизни старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» достаточно свободно в стилевом отношении, но при этом в качестве канона ощущает житийный текст и именно поэтому дозирует бытовые подробности. История Зосимы потому и кажется «духовной», что она искусно «дематериализована». Это же правило может использоваться и в обычных для середины девятнадцатого века жизнеподобных описаниях. Тургенев, например, осторожно убирает «лишние» бытовые подробности в образах своих положительных героинь. Показательна в этом плане его Лиза Калитина из «Дворянского гнезда», которая искусно «одухотворяется» автором (ее «небольшую комнатку» «чистую, светлую, с белой кроваткой» [11, с.283] ее тетка называет «келейкой» [11, c.284]; в описании ее облика используются определения не столько физиологического, сколько духовного порядка: «чистый, несколько строгий профиль…» [11, с.208] и т. п.).
Лесков, у которого тоже есть вариации раннехристианских историй из Пролога, резко отделяет их особым стилем (см. об этом ниже). А вот своих современных «праведников» писатель не боится «проверять» миром повседневности, обыденных забот. Это становится для него правилом, исключения из которого, по сути, лишь еще более углубляют его.
Такими исключениями нужно признать тех из его праведников, кого и в самом деле можно считать святыми (пусть даже святые эти особые, которых официальная церковь затруднилась бы канонизировать). Вот ихто бытовое окружение показано как раз явно скупо, почти нет у этих образов и психологической предыстории. Таков, например, безгневный старец Памва из «Запечатленного ангела» (1873), который считал себя не смиренным, а «великим дерзостником» за то, что «себе в небесном царстве части желал» и «вдруг сознав сие преступление», молился так: «Господи! Не прогневайся на меня за сию волевращность: пошли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин!» [6. т.1, с.437]. Таков и Мефодий Червѐв из «Захудалого рода» (1874), которого его глубокая вера в Бога ведет к настолько суровому и спокойному разладу с «миром», что это пугает умную и сердечную княгиню Варвару Никаноровну Протозанову, считавшую себя до этого настоящей христианкой. Княгиня Протозанова лишь признается перед ним: «вы смирили меня, вы мне показали, что я живу и думаю, как все, и ничуть не лучше тех, о ком говорят, будто они меня хуже…» [6, т.6, с.187]. Честно стараясь понять внутренний мир Червѐва, этого человека с «чистыми, точно снегом вытертыми глазами», Варвара Никаноровна приходит к таким выводам о нем: «Характер в высшей мере благородный и сильный; воля непреклонная; доброта без границ; славолюбия никакого, бессребреник полный, терпелив, скромен и проникнут богопочтением, но Бог его ‗не в рукотворном храме‘, а все земные престолы начальства и власти – это для него совсем не существует… И это в нем так искренно, что он не хочет допускать никаких посторонних соображений» [6, т.6, с.185].
Эти характеристики Памвы и Червѐва приведены здесь почти в полном объеме, настолько они коротки и в самих произведениях. Писателю как бы нечего сказать о них, если он убежден в их святости, они не столько изображены, сколько обозначены автором. Зато они выполняют роль некоего духовного абсолюта для более приземленных лесковских «праведников» в названных произведениях, да и во всех других, посвященных этой теме. Но весь интерес писателя отдан именно его «несвятым» «праведникам». Княгиня Протозанова, например, так же сомневается в своем праве называться христианкой, как и Памва, но подробно рассказывается именно ее «обыденная» жизнь.
Лесков может даже подчеркивать роль фигуры «святого» в качестве только лишь «точки отсчета» для его «праведников». Архиерей Игнатий (Д.А. Брянчанинов), герой «Инженеров-бессребреников» (1887) из цикла «Праведники», реальное лицо и является святым именно в каноническом понимании. Но у Лескова история его имеет характер всего лишь краткого информирующего вступления и намеренно сопоставлена с куда более подробной историей Николая Фермора, человека, хотя и похожего в чемто на Брянчанинова, но никак не «святого». Причем Лесков явно выше оценивает жизнь Фермора. История о Брянчанинове (и его товарище Чихачеве) заканчивается так: он понял, что честно служить инженером «это значило постоянно поперечить всем желающим наживаться, и надо постоянно порождать распри и несогласия, без всякой надежды отстоять правду»; «это подвиг, требующий такой большой силы, какой они в себе не находили, и потому они решились бежать» [6, т.2, с.144], то есть «бежать» … в монахи. «Борец более смелый еще подрастал» [6, т.2, с.144], – так завершает повествователь краткую историю Брянчанинова и эти последние слова относит уже именно к Фермору.
Значит, «святость» в «миру», «бытовые апокрифы» (выражение Лескова из предисловия к «Инженерам-бессребреникам») о таких его героях более интересны Лескову-художнику.
Вместе с тем, сами эти «бытовые» праведники осознавались Лесковым как «маяки» для всего остального народа, их «бодрый, мужественный пример часто служит на пользу ослабевающим и изнемогающим в житейской борьбе» (Цит. по: [2, с.43]), – писал он в авторском отступлении рассказа «Вычегодская Диана. (Попадьяохотница)» (1883).
«Праведники», таким образом, занимают некое «срединное» положение между лишь «обозначенными» Лесковым «святыми» и подразумеваемым в его произведениях всем народом. Народ в этой градации – основа, и основу эту Лесков склонен понимать по-разному. Вопервых, она связана с состоянием нравственной детскости народа. Это хаос, складывающийся из божественного инстинкта и злого начала в нем: «народ – дитя, и злое дитя», – утверждал Лесков в письме к В.Г. Черткову от 28 января 1887 г. Поэтому он говорил о народе и как о «продукте природы» (одноименный рассказ 1893 г.), и как о носителе «образцового самопожертвования» (статья «Энергическая бестактность», 1876 г.). Но, во-вторых, Лесков, как бы в дополнение к такому реально-историческому народу, всем своим творчеством вырабатывает и иное, художественноэтическое представление о нем. Народ как «существо», способное породить и «праведника», и «святого» из своей среды, – сам «праведен» у Лескова. Суждение такого рода не обосновывается им логически, и он так и предлагает его читателям как неожиданно прорвавшееся ощущение «праведности всего нашего умного и доброго народа» [6, т.2, с.405] в последнем рассказе цикла «Праведники».
Неясным остается то, как в эту структуру вписывается такая вариация лесковского «праведника», которая дана в его стилизациях житийных историй, занимающих в его творчестве немалое место.
В них тоже ощутима направленность на бытовой план, правда, только в общей форме: автор опирается на сюжеты именно из «Пролога», то есть такого сборника кратких житий, которые отличались доступным и занимательным характером, пользовались благодаря этому популярностью у средневекового читателя. Да и самого Лескова привлекали, по его словам, в этом сборнике «картины, каких не выдумаешь» (письмо к А.С. Суворину от 26 декабря 1887 г.). Таковы рассказы 1886 – 1892 годов «Гора», «Легенда о совестном Данииле», «Повесть о богоугодном дровоколе», «Прекрасная Аза», «Скоморох Памфалон», «Лев старца Герасима», «Аскалонский злодей», «Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине», «Невинный Пруденций», «Легендарные характеры». Направленность на факт в таких произведениях опосредована слишком значительной исторической дистанцией, но и тут она сохраняется. Когда, например, Лесков просит Л.Н.Толстого прислать ему выписку из Пролога, то пишет об этом так: «Выписочку мне нужно небольшую, но в которой бы содержалась 'суть', и притом подлинными словами Пролога или Минеи» (письмо к Л.Н. Толстому от 22 июля 1888 г.).
Из этой необходимости опоры на «подлинное слово» можно понять, что сам стиль Пролога или Миней как бы заменял писателю факты и подробности. Не случайно, он говорил о таких произведениях, что они «стильны в своем роде» (из письма к В.А. Гольцеву от 5 октября 1889 г.), что не могло быть им сказано про рассказы о «праведниках». Говорил также о «труде по подделке языка и по изучению быта того мира, которого мы не видали» (из письма к С.Н. Шубинскому от 19 сентября 1887 г.). «Быт» в этом случае – нечто неясное, требующее специального, «археологического» изучения, поэтому и не удивительно, что язык произведений о той поре становится «зализанным». (Это выражение А.С. Суворина Лесков признает правильным в письме к нему от 14 марта 1887 г.).
Стилистическую дистанцированность от языка подлинников в его расширенных вариациях кратких проложных текстов следует считать своеобразной формой уважения к их наивной простоте. По сути, это была единственно возможная для Лескова форма, ведь он, как никто, ценил художественную силу наивного слова, «сказа», но в данном случае не мог им пользоваться: тексты Пролога требовали «перевода» на современный язык, осторожно вводимой психологической мотивированности, которая была бы органична для этих простодушных историй. Поэтому условнолитературный, стилистически нейтральный язык казался ему наиболее подходящим. Вот, например, характерный по стилистике отрывок из «Сказания о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине»: «У Федора начались разные беды – и все одна за другою. Одна беда точно вела за собою другую. Федор сначала сделался нездоров и долго лежал, а потом стали у него болеть дети и ни один не выздоровел, а все друг за другом умерли, а потом умерла и его молодая жена, которую он любил и имел от нее большую помощь в хозяйстве…» [6, т.10, с.240]. Но и в таких описаниях писатель все же несколько большее внимание уделяет бытовым подробностям. Достаточно выразительно описано, например, жилище скомороха Памфалона: «На серой стене, как раз насупротив раскрытой двери висела глиняная лампа с длинным рожком, на конце которого горел красным огнем фитиль, напитанный жиром. …Вдоль всей стены висели разные странные вещи. …Тут были уборы и сарацынские, и греческие, и египетские, а также были и разнопестрые перья, и звонцы, и трещетки …» [6, т.10, с.126] и т. д.
В принципе, Лесков высоко ценил открывавшиеся художественные возможности при литературной передаче житийных историй. Он прямо говорил об этом в статье «Жития как литературный источник» (1882), указывая на талантливое воспроизведение внутреннего облика Феодосия Печерского Н.И. Костомаровым, на успех «Иродиады» (1877) и «Искушения св. Антония» (1874) Г. Флобера. «Это буквально был вспрыск свежей струи из-под седого, мхом обросшего камня» [8, с.40], – писал он в этой статье. Вполне уместным в этой связи будет упоминание и о типологически сходных с лесковскими рассказами новеллах А.Франса, посвященных раннему христианству, например из сборника «Перламутровый ларец» (1884-1892). В них французский писатель не просто условно принимает на веру христианские легенды, а как художник склоняется перед их неповторимостью, тем самым как бы преодолевая релятивизм и скепсис собственных общих мировоззренческих позиций. Такова же во многом и позиция русского писателя, исключая только не свойственную ему релятивность, так как он отличался нравственной твердостью в жизни и литературе.
И все же все эти сближения стилизаций Лескова и других авторов подчеркивают, так сказать, «международный» характер его произведений, что в системе эстетических предпочтений русского писателя означает их вторичность по отношению к его «бытовым апокрифам» о «праведниках».
Не случайно, говоря о стилизованном рассказе «Зенон златокузнец» (и оценивая вообще все подобные свои произведения), Лесков называет его «идейным и отчасти художественным» (письмо к И.Е.Репину от 18 февраля 1889 г. Подчеркнуто мной. – К.Т.), но только о «Захудалом роде», который был «дорог, как ничто другое» писателю, он говорил, что любит его «артистическою любовью» (письмо к А.С. Суворину от 2 марта 1889 г.).
Продолжая характеризовать художественные параметры лесковского положительного типа, нельзя не сказать также о его «русскости», самобытности именно русских черт в нем, о чем упоминали почти все исследователи, и сам Лесков подчас делал акцент на этом в своих персонажах (например «чисто русское равнодушие к себе» у Овцебыка, последовательное подчеркивание русского характера в поведении Левши и др.).
В этом понятии национально-русского у Лескова нужно отметить два различных содержательных пласта.
Во-первых, творчество писателя может рассматриваться как материал для уяснения особенностей русской общественной жизни. А в ней, как говорит Л.А. Аннинский, «блаженного» не отличишь от «блажного». Потому у него и «лесковский праведник безмерен, несоразмерен, несообразен» [1, с.196] и может быть «опорой для самой изощренной и неправедной лжи. Тут не расцепишь. Самая загадочная сцепка русской жизни» [1, с.197]. В такой оценке интерес смещен на «загадочную» двойственность русской жизни вообще, поэтому и «праведник» тоже воспринимается критиком в аспекте двойственности характера. А это неточно, в «праведнике», как уже отмечалось, Лескова интересовало не амбивалентное начало, а «глубочайшая суть».
А во-вторых, национально-русское в лесковском «праведнике» вполне уместно рассматривать как естественную и необходимую форму выражения общечеловеческого. Этический идеал всех его положительных героев несомненно тяготеет к народной нравственности. Но внутренний смысл этого нравственного идеала таков, что заставляет воспринимать его героев скорее со стороны общечеловеческой, чем национальной. Сама установка на оценку человека по национальности была чужда писателю, он исходил из «единства рода человеческого», которое «что ни говорите, – не есть утопия» (письмо к К.А. Греве от 5 декабря 1888 г.). Исследователи его творчества тоже обращали на это внимание (напр.: [9, с.193]).
Нельзя было не отметить у героев Лескова и слишком очевидную христианизацию народного нравственного идеала (напр.: [2, с.44]), а ведь христианское само по себе вненационально. Бросалось в глаза также то, что Лесков явно преодолевал и христианский (конфессиональный) канон, следуя лишь сущности христианства. Это особенно заметно в тех случаях, когда его герои-священники расходились с официальной православной церковью потому только, что старались честно следовать духу христианского учения. Например, отец Кириак из рассказа «На краю света» (1876) отказывается крестить якутов, понимая всю сложность перестройки их языческого сознания, и предлагает «вперед учить, а потом крестить» [6, т.1, с.350]. И был «за это ослушание запрещен, но нимало тем не тяготился…» [6, т.1, с.344].
Во всем этом сказывается этическая позиция писателя, близкая к позиции Льва Толстого. Но, в отличие от Толстого-моралиста, Лесков все же не отбрасывал эстетическую сторону в христианском. Это видно из того, что «языческое» и «христианское» он мог оценивать именно с художественных позиций, и тем самым уравнивал их как эстетические объекты. «Я хорошо знал и любил священную историю, – я и до сих пор готов ее перечитывать, а все-таки ребячий милый мир … сказочных существ … казался мне необходимым. Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народною фантазиею» [6, т.7, с.185-186], – так размышлял подчеркнуто автобиографический повествователь в его рассказе «Пугало» (1885).
Укажем, кроме того, и на до сих пор не отмеченную особенность христианизации нравственного идеала Лескова. Речь идет о стремлении писателя расширить сам круг существ, доступных для христианизации. Мысль о том, что животные и природа в целом должны быть вовлечены в сферу, «освящаемую» христианством, составляет у Лескова довольно настойчивый мотив.
Его Однодум из одноименного рассказа 1879 года (цикл «Праведники») читал, «кричал ветру» Книгу Исаии и «его слушали дубы и гады болотные» [6. т.2, с.9]. «Хочется поговеть и поисповедываться государыне широкой пустыне» [6, т.9, с.253], – так полушутя (но закономерно для проводимого тут мотива) выражается другой «праведник» из нигилистов Форов в романе «На ножах» (1870). Особая христианская интуиция (а не «правила») заставляла «праведника» «в миру» Фигуру из одноименного рассказа 1889 г. «не употреблять в пищу ни мяса, ни рыб – словом, ничего, имеющего сознание жизни» [6, т.7, с.229]. Жалкому герою «Заячьего ремиза» (1894), испытывающему перед смертью просветление и «высокое счастие верить в возможность лучшей жизни», тоже мерещится жизнь, «когда убивать животных не будут» [7, с.589]. И в «Мелочах архиерейской жизни» (1878-1880) Лесков явно сочувственно пишет об Иннокентии Таврическом (Борисове), «что он был человек не только умный и даровитый, но и до того свободомысленный, что <…> в письмах своих к Максимовичу, даже прежде Флуранса, вступался за ‗душу бедных животных‘» [6. т.6, с.224].
Это последнее замечание делается Лесковым с известной долей иронии относительно свободомыслия внутри православной церкви. Но ирония эта не «язвительная». Лесков и сам не говорит с уверенностью о бессмертии душ животных. Но скрытая «смиренная» (Лесков иногда называл себя в письмах «смиренный ересиарх») «подсказка» церкви со стороны писателя все же ощутима.
Бессмертие душ животных отрицается православной церковью на основании святоотеческого учения, что придает ее позиции прочную традиционность. Понятно поэтому, что и авторы недавнего сочинения о «Душе человеческой» (1992) приходят к тому же каноническому выводу: «Если бы даже и допустить бессмертие души животного, то <…> чего бы она могла ожидать <…> разве одной участи с душой грешника» [3, с. 17].
Однако у Исаака Сирина есть настолько вдохновенные высказывания о «милости» к животным, что Лесков, хорошо зная вообще святоотеческую литературу, а Исаака Сирина даже «сполна» [8, с. 126], вряд ли мог пройти мимо этих слов. Этот подвижник писал так: «И был спрошен: что такое сердце милующее? И отвечал: возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари.< …> А посему и о бессловесных человек приносит молитву <…> и о естестве пресмыкающихся молится с великою жалостию, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в сем Богу» [4, с.299].
По ощущению Лескова, такие слова одного из отцов церкви не должны бы противоречить и мысли о бессмертии души животных. Иначе писатель не выражал бы сочувствия словам епископа Иннокентия, «вступавшегося за душу бедных животных». Настойчиво проводя мотив «милости» к животным в своих произведениях, писатель по-своему стремится углубить представление о христианстве, но, конечно, не в догматическом плане, а просто как «поклонник искренности», «почитающий христианство» (письмо к А.С. Суворину от 11 марта 1887 г.).
И, подытоживая сказанное, отметим, что этому «глубинному» уровню опять-таки больше соответствует в художественном плане «созерцание» души его «праведника», а не анализ, не внимание к эволюции христианского в человеке (таково свойство нравственно совершенствующихся героев Л.Н. Толстого: Нехлюдова, отца Сергия и др.). Лесковский «праведник» своей образной «подтвержденностью» целым миром малых подробностей лучше всего соответствовал классическому единству этического и эстетического начал. Этим в творчестве самого Лескова он занимал «срединное» положение между лишь «обозначенными», а не изображенными «святыми» и подразумеваемым всем народом. Это же качество его «праведников» делало по отношению к ним художественно вторичными его стилизованные рассказы о персонажах Пролога.
И это же качество сближает «праведников» с «положительно прекрасным» героем романа Достоевского «Идиот». Характерно, что и князь Мышкин, и герои Лескова, при всей их образной полноценности и конкретности, воспринимаются также стоящими вне времени. И если В.Ю. Троицкий говорит об этом как об историческом недостатке лесковских героев [10, c.52], то наши рассуждения подводят к тому, что это образное качество и есть ответ на кризис «общей идеи» в конце века, и позволяет им пережить свое время.
Литература
1. Аннинский Л. Блажные и блаженные Николая Лескова // Вопросы литературы. – 1988. – № 7. – С. 189-198.
2. Горелов А.А. «Праведники» и «праведнический» цикл в творческой эволюции Н.С. Лескова // Лесков и русская литература. – М., 1988. – С. 39-61.
3. Душа человеческая. Положительное учение Православной Церкви и Святых Отцов. – Коломна, 1992.
4. Исаак Сиріянин. Слова подвижническія. – М., 1858.
5. Левитов А.И. Избранные произведения. – М., 1988.
6. Лесков Н.С. Собрание сочинений: В 12 т. – М.,1989.
7. Лесков Н.С. Собрание сочинений: В 11 т. – Т. 9. – М., 1958.
8. Н.С.Лесков о литературе и искусстве. – Л., 1984.
9. Столярова И.В. В поисках идеала (Творчество Н.С.Лескова). – Л., 1978.
10. Троицкий В.Ю. Лесков-художник. – М.,1974.
11. Тургенев И.С. Полное собрание сочинений: В 28 т. – Т. 7. – М., 1964.
12. Щедрин Н. (М.Е.Салтыков). Собрание сочинений. – Т. 9. – М., 1951.
Стаття надійшла до редколеґії 6.09.2005