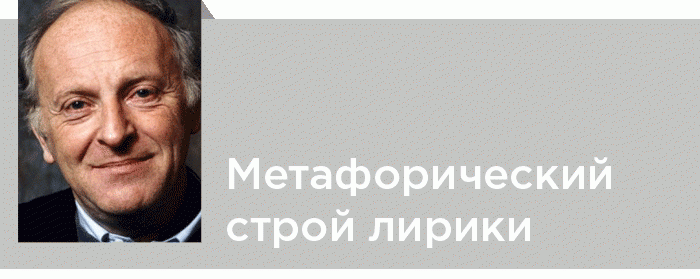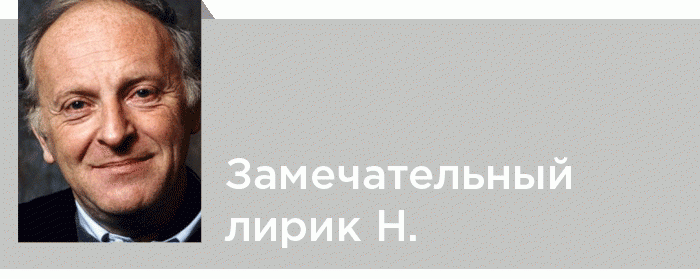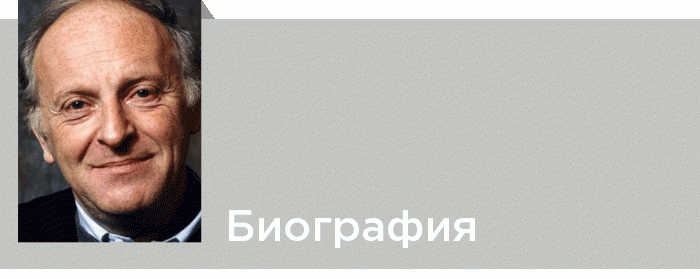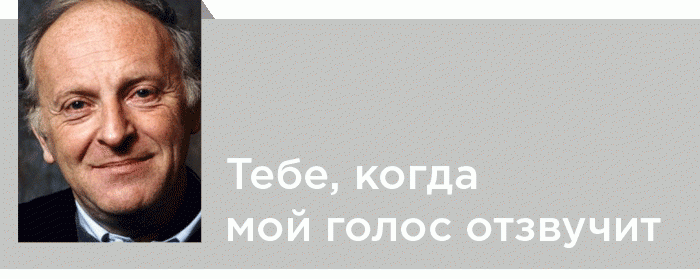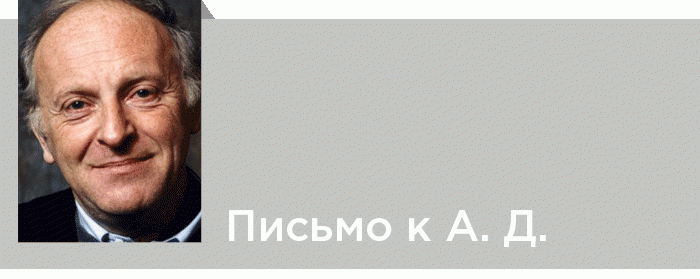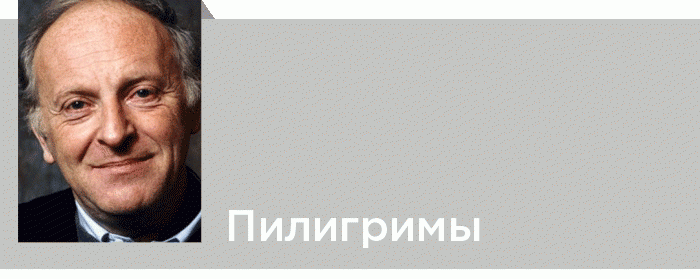Joseph Brodsky: В зеркале английского языка
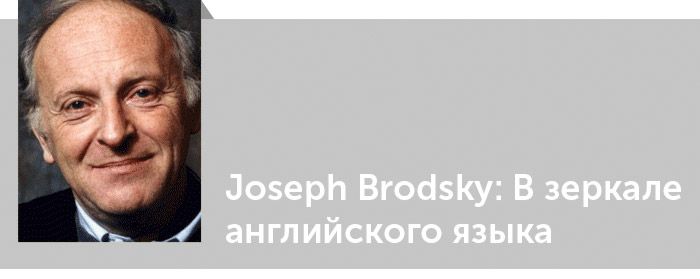
Виктор Куллэ
Статья «Joseph Brodsky: В зеркале английского языка», опубликованная по результатам переводческих штудий в «Иностранной литературе» (я за неё даж премию А.М.Зверева в 2013 получил).
В одном из интервью Иосиф Бродский обмолвился, что «при существовании в двух культурах» лёгкая степень шизофрении является «не более чем нормой». С научной точки зрения поэт допустил ошибку, для неспециалистов распространённую: спутал одно психическое заболевание (распад процессов мышления и эмоциональных реакций) с другим — т.н. «диссоциативным расстройством личности», которое в просторечии именуют её раздвоением. Подвела этимология: история термина восходит к древнегреческому σχίζω φρήν (раскалывать рассудок). Более чем за полвека до Бродского подобную ошибку допустил в одной из статей Т.С.Элиот.
Этот забавный инцидент уместен в качестве отправной точки для рассуждений о проблеме англоязычного творчества Бродского. Углубляясь в историю вопроса, вспомним, что расщепление личности неоднократно декларировалось им как важнейший из компонентов (или инструментов?) творчества. Так, оценивая Ахматовский «Реквием», поэт утверждал, что замечательность его в том, что это «произведение, постоянно балансирующее на грани безумия, которое привносится не самой катастрофой… а вот этой нравственной шизофренией, этим расколом… на страдающего и на пишущего». Проще говоря, для Бродского способность поэта противостоять разрушительным свойствам времени была неразрывно связана с приобретением навыков отстранения. Как от собственных субъективных рассуждений, так и от страдающего «лирического Я».
Наиболее расхожей метафорой отстранения является зеркало. Для русскоязычного творчества Бродского диалогизм, апеллирующий к беседе с собственным изображением, — вещь характерная. Достаточно вспомнить «Большую элегию Джону Донну», «Горбунова и Горчакова», пьесу «Мрамор». В эссе о Петербурге именно со способностью отстранения он будет связывать возникновение русской классической литературы. Европейский Город, стоящий на краю полуазиатской Империи, предоставил пишущей братии «возможность взглянуть на самих себя и на народ как бы со стороны… Город позволил... объективировать страну».
Обратившись в Норенской ссылке к изучению английского, Бродский подчёркивал, что обнаружил сходную ситуацию во взгляде островитян на континентальную Европу: «Дело в том, что европейцы, русские в том числе... рассматривают мир как бы изнутри, как его участники, как его жертвы. В то время как в английской литературе... всё время такой несколько изумленный взгляд на вещи со стороны. Элемент отстранения, который европейцу, в общем, не присущ».
Причину он выводил из самой природы английского языка, «главное качество» которого «не statement, то есть не утверждение, а inderstatement — отстранение, даже отчуждение... взгляд на явление со стороны». Именно это привлекало его в поэзии английских метафизиков и У.Х.Одена. Михаил Мейлах вспоминал, что Бродский «очень рано усвоил и великолепно чувствовал» английскую поэзию даже когда он ещё довольно слабо знал язык. Вероятно, возможности, открываемые английской традицией, совпали с собственными поисками.
Согласно воспоминаниям Евгения Рейна, уже в начале 60-х Бродский «говорил о том, что надо сменить союзника, что союзником русской поэзии всегда была французская и латинская традиция в то время, как мы полностью пренебрежительны к англо-американской традиции, что байронизм, который так много значил в начале XIX-го века, был условным, что это был байронизм личности, но что из языка, из поэтики было воспринято чрезвычайно мало, и что следует обратиться именно к опыту англо-американской поэзии». Сходный интерес к английской поэзии в России XX века проявлял Борис Пастернак. Вяч.Вс.Иванов вспоминал, что летом 49-го года он услышал от Пастернака: «Я одно время думал, что английская поэзия — родоначальник и источник для других европейских, как когда-то греческая». «А в шестидесятых, — продолжает Иванов, — я слово в слово то же услышал от И.А.Бродского, тогда совсем юного».
К моменту вынужденной эмиграции поэт не только вполне сносно владел языком, но и пытался что-то сочинять по-английски. До нас дошли его шуточные лимерики 1971 года, адресованные Кейсу Верхейлу, и датируемая 1969-м попытка переложения на английский стихотворения Владимира Уфлянда «В целом люди прекрасны» [1].
Очутившись в эмиграции, Бродский воспринял окружающую англоязычную реальность как универсальное зеркало, помогающее сделать следующий шаг на пути отстранения. В эссе «Поклониться тени» он датирует начало своей англоязычной литературной деятельности летом 1977 года. При этом поэт подчёркивал, что обратился к иному языку не «по необходимости, как Конрад», не «из жгучего честолюбия, как Набоков» и не «ради большего отчуждения, как Беккет» — но исключительно из стремления «очутиться в большей близости к человеку, которого... считал величайшим умом двадцатого века: к Уистену Хью Одену». Реверанс, сделанный в сторону ушедшего товарища, уместен в эссе, посвящённом его памяти, но тут Бродский немного лукавит. Его профессиональное обращение к английскому произошло раньше. Первым «серьёзным» английским стихотворением можно считать написанную в 1974 году элегию на смерть Одена, опубликованную в коллективном сборнике «W.H.Auden: A Tribute» (1975). (Впоследствии, правда, ни в одну из авторских книг этот текст включён не был.)
Переход Бродского на английский связан с двумя утилитарными факторами. Первый касается эссеистики. Ранние рецензии и эссе, написанные в эмиграции, переводились его друзьями, Карлом Проффером и Барри Рубином. На перевод уходило определённое время, и Бродский поставил перед собой формальную задачу — научиться делать это самостоятельно. И чтобы выдерживать предлагаемые журналами сроки, и чтобы попросту лучше овладеть языком. Обращение же к английской версификации продиктовано было неудовлетворённостью поэта существующими переводами. Притом, что ему редкостно повезло с переводчиками, Иосиф Александрович большинством переводов оставался недоволен, предлагал собственные поправки — не всегда, с точки зрения переводчиков, оправданные. Что, естественно, вызывало массу обид. «И поэтому, — вспоминал Бродский, — чтобы не портить никому кровь, я стал заниматься этим сам… поскольку уж я тут живу, я чувствую себя ответственным за то, что выходит под моим именем по-английски… И если уж меня будут попрекать, то пусть уж лучше попрекают за мои собственные грехи, а не говорят, что, дескать, по-русски это, может быть, и замечательно, но вот по-английски звучит ужасно».
Параллельно с автопереводами стали появляться оригинальные стихи, написанные по-английски. Итоговый их объём весьма значителен — свыше двух тысяч строк. Символично, что перед уходом из жизни Бродский подготовил к печати два прощальных сборника: русскоязычный «Пейзаж с наводнением» и «So Forth», в котором оригинальные английские стихи уже вполне равноправны с автопереводами.
Прививка английской поэтики, «нейтральной интонации», сделанная Бродским отечественной изящной словесности, общеизвестна. Её, в зависимости от ориентации толкователя, неизменно ставят ему в заслугу, либо в вину. Но российский читатель мало знаком со сложным (и не всегда доброжелательным) восприятием англоязычного творчества Бродского в США и, особенно, в Англии. Вышедшая вскоре после его смерти статья одного из столпов британского поэтического истэблишмента Крэйга Рэйна носила название: «Репутация, подверженная инфляции». Сомнения высказывали даже те, кто в целом относится к русскому Нобелиату вполне доброжелательно. Так, оксфордский поэт-лауреат Рой Фишер именует попытку Бродского, «пришедшего в английский язык и сражающегося, в сущности, за то, чтобы вывернуть наизнанку его отступление», донкихотовской — т.е. благородной, но заведомо обреченной на неудачу. При этом англоязычная эссеистика поэта была встречено весьма благосклонно. Достаточно сказать, что его первая книга эссе «Less Than One» удостоилась премии Национального совета критиков США (The National Book Critics Circle).
В чём кроется причина неоднозначного отношения к англоязычному творчеству Бродского? Начнём с того, что Бродский — самим фактом двуязычного существования — был обречён на сопоставление с Набоковым. Он, конечно же, открещивался: «Это сравнение не слишком удачно, поскольку для Набокова английский — практически родной язык, он говорил на нём с детства. Для меня же английский — моя личная позиция. Я испытываю удовольствие от писания по-английски. Дополнительное удовольствие — от чувства несоответствия: поскольку я был рожден не для того, чтобы знать этот язык, но как раз наоборот — чтобы не знать его. Кроме того, я думаю, что я начал писать по-английски по другой причине, нежели Набоков — просто из восторга перед этим языком. Если бы я был поставлен перед выбором — использовать только один язык — русский или английский — я бы просто сошел с ума». Здесь, однако, всё не так просто.
Кажется, никому ещё не приходило на ум сопоставить дату начала англоязычного писательства Бродского — лето 1977 года — с датой ухода из жизни Набокова 2 июля того же года. К сказанному можно добавить, что чуть позже Бродский опубликует перевод на английский стихотворения Набокова «Демон» — что можно считать жестом экстраординарным. Чужие стихи на английский он переводил чрезвычайно мало, а данный перевод на английский — вообще первый в его практике (если не считать неопубликованного перевода Уфлянда). Среди редчайших исключений: Мандельштам, Цветаева, Збигнев Херберт, Вислава Шимборска — поэты, которых (в отличие от Набокова-поэта) Бродский ценил высоко. Перевод из Набокова выглядит как запоздалое прощание и как окончание некоего подспудного спора.
Стихотворение Набокова “Demon” в переводе Бродского было опубликовано зимой 1979 года в 1-м номере “Kenyon Review” [2]. Особенности билингвизма двух великих русско-американских писателей выходят за рамки настоящей краткой заметки [3], но известно, что оба пользовались заслуженной славой «совершенно уникальных стилистов и требовательных (даже привередливых) переводчиков» [4]. При этом исследователями литературы русской эмиграции они воспринимались, как образец «непримиримых антиподов, зеркальных противоположностей» [5].
Demon
Where have you flown here from? What kind of grief d’ you carry?
Tell, flier, why your lips do lack
a tint of life, and why the sea smells in your wings?
And Demon answers me: “You’re young and hungry,
but sounds won’t satiate you. So don’t pluck
your tightly drawn discordant strings.
No music’s higher than the silence. You were born
for strict, austere silence. Learn
its stamp on stones, on love, on stars above your ground.”
He vanished. Darkness fades. God ordered me to sound.
Пути Набокова и Бродского пересекались лишь по касательной. Так, Брайян Бойд, опираясь на своё интервью с Карлом и Элендеей Проффер (апрель 1983), упоминает о том, как выслушав их рассказ о писателях-диссидентах в СССР, Вера и Владимир Набоковы договорились о посылке от их имени джинсов в подарок Бродскому [6]. При этом поэзия Бродского Набокова, явно, не слишком интересовала — его волновали условия жизни поэта в Советском Союзе. Известна чрезвычайная жёсткость эстетических суждений Набокова, не подразумевавшего никаких скидок и не признававшего авторитетов («Я сужу по конкретным книгам, а не по их авторам»), — но по отношению к писателям, находящимся по ту сторону железного занавеса, он, похоже, согласен был сделать поправку на окружающую действительность. Так, письмо 1969 года Веры Слоним-Набоковой Карлу Р.Профферу содержит следующее любопытное свидетельство:
«Благодарим за Ваше письмо, две книги и стихотворение Бродского. Оно содержит много привлекательных метафор и выразительных рифм, — говорит В.Н., — но испорчено неверно акцентированными словами, отсутствием вербальной дисциплины и, в целом, переизбытком слов. Однако эстетическая критика была бы несправедливой, памятуя о страшном окружении и страданиях, подразумеваемых каждой строкой этого стихотворения» [7].
Карлу Профферу мы обязаны и свидетельством об отношении Бродского (конца 60-х годов) к Набокову:
«Бродский говорит, что за последние годы он открыл только двух прозаиков, которые произвели на него сильное впечатление, — Набокова и Платонова. Он знает “Защиту Лужина”, “Приглашение на казнь”, “Дар”, “Лолиту” и “Аду”. “Лолиту” он читал настолько внимательно, что сумел обнаружить в ней пародию на Т.С.Элиота даже в её русском одеянии. Говорят, что Бродский написал новую длинную поэму [8], в которой очень чувствуются обманные ходы, характерные для Набокова» [9].
Зрелый Бродский, отдавая должное Набокову-прозаику, к поэзии его, по многим свидетельствам, относился довольно сдержанно. Так, в эссе «Поэт и проза» он не без иронии отмечает, что «все более или менее крупные писатели новейшего времени отдали дань стихосложению. Одни, как, например, Набоков — до конца своих дней стремились убедить себя и окружающих, что они всё-таки — если не прежде всего — поэты» [10].
Эссе это датировано 1979-м — годом, когда был опубликован предлагаемый перевод из Набокова. Да и само стихотворение явно взято из вышедшего в том же году в издательстве «Ардис» [11] наиболее представительного тома стихов Набокова [12]. Приведем набоковский оригинал целиком:
Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?
Скажи мне, отчего твои уста, летун,
как мертвые, бледны, а крылья пахнут морем?
И демон мне в ответ: «Ты голоден и юн,
но не насытишься ты звуками. Не трогай
натянутых тобой нестройных этих струн.
Нет выше музыки, чем тишина. Для строгой
ты создан тишины. Узнай её печать
на камне, на любви и в звёздах над дорогой».
Исчез он. Тает ночь. Мне Бог велел звучать.
Берлин. 27.9.24
Выше упоминалось, что и Набоков, и Бродский, переводя сами, были к переводам чрезвычайно требовательны. Известно, что Набоков критиковал переводы из русской поэзии высоко ценимого Бродским У.Х.Одена за «грубые ошибки, которые он легкомысленно себе позволил» [13]. Перевод Бродского, отличаясь чрезвычайной точностью (практически дословный), при строгой рифмовке допускает чудовищную строфическую вольность: вместо терцин оригинала первых строф — рифмовка шестистишия.
К тому времени Бродский опубликовал довольно много англоязычных эссе — и только четыре написанных по-английски стихотворения, включая элегии на смерть Одена и Лоуэлла [14]. Автопереводами он ещё не занимается. Опубликованное в том же номере “Kenyon Review” стихотворение “1972 год” переведено на английский Аланом Майерсом [15]. Сопоставление этих двух соседствующих под одной обложкой текстов чрезвычайно знаменательно. Преисполненное гордого юношеского романтизма стихотворение 25-летнего Набокова разительно контрастирует с апофеозом старения, написанным 32-летним Бродским.
Ключом к их сопоставлению служит английское название “Demon”, данное Бродским и отсутствующее у Набокова. Бродский подчеркивает и без того очевидный лермонтовский подтекст стихотворения: поскольку «звёзды над дорогой» утрачивают в английском переводе прозрачный отсыл к «Выхожу один я на дорогу», он актуализует другой, не менее явный, но более переводимый лермонтовский код. (В этом смысле и отступление от терцин оригинала выглядит почти преднамеренным, устраняющим излишние дантовские аллюзии.)
В стихотворении Набокова демон (с маленькой буквы) соблазняет юного поэта высшей музыкой «строгой тишины», позволяющей (в отличие от исторгаемых человеком несовершенных звуков) хотя бы прикоснуться к истинному совершенству. Демон, смущавший Набокова в Берлине, статичнее и совершеннее своего собрата, явившегося некогда 15-летнему Лермонтову и пленявшему его аж до 24-летнего возраста. Лермонтовский Демон, некогда ужаснувшийся тому, что «как эдем, / Мир для меня стал глух и нем», но и испытавший «неизъяснимое волненье», когда «Немой души его пустыню / Наполнил благодатный звук» [16], обладает более глубокими метафизическими перспективами. Это Демон плодотворного начального романтизма, отличный от постаревшего на столетие окультуренного потомка.
Демон Набокова, жестом учителя указующий печать «строгой тишины» «на камне, на любви и в звёздах над дорогой», в сущности, принимает мир, сотворенный Тем, против Кого он восстал — лишь лукаво призывает не участвовать в его восхвалении. Ответ поэта предсказуем: «Мне Бог велел звучать», — не хватает лишь восклицательного знака. Демон же Лермонтова способен на истинно романтическое презрение:
И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего. [17]
На Лермонтовский подтекст в творчестве Бродского впервые обратил внимание Яков Гордин [18]. Лермонтовским фатализмом («Я жизни своей не люблю, не боюсь») и элегическим примирением с неизбежность смерти окрашены многие стихи Бродского начала 60-х, в которых содержится обобщенный эскиз фигуры «романтического поэта». Со временем образ Лермонтова приобретет в лирике Бродского многогранность, многие черты его станут составляющими собственной «лирической персоны». Лермонтовский мотив благодарности, открывающий мистерию «Шествие» ([СI, 79]; «Пора давно за всё благодарить» — «За всё, за всё Тебя благодарю я...»), встретится и в «Разговоре с небожителем» [СII, 361-367]: «Там наверху... / услышь одно: благодарю за то, что / ты отнял всё, чем на своём веку / владел я...», и в стихах 1980 года: «Но пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность» [CIII, 191].
Упомянутое программное стихотворение «Разговор с небожителем» (1970) служит своеобразной антитезой набоковскому «Демону». Параллелизм этих двух ночных разговоров заключается не только в природе адресата (имеющей различную полярность), но и в упомянутом выборе между молчанием и звуком. Бродский, в сущности, совершает выбор, обратный выбору Набокова — его «возврат дара» («...тебе твой дар / я возвращаю — не зарыл, не пропил») восходит к Цветаевскому «возвращению Творцу билета». Но даже этот «возврат дара», по Бродскому, ещё ничего не значит, ибо к тишине следует придти — она не обретается простым отказом от звучания. Бродский, для которого ранее была характерна, по определению Льва Лосева, «просодическая атака» [19], стремится в дальнейшем сделать свою речь максимально монотонной, приблизить её к голосу самого времени — «звучанию маятника».
В стихотворении «1972 год», напечатанном вместе с переводом «Демона», выбор совершается окончательно:
Данная песнь — не вопль отчаяния.
Это — следствие одичания.
Это — точней — первый крик молчания,
царствие чьё представляю суммою
звуков, исторгнутых прежде мокрою,
затвердевшей ныне в мёртвую
как бы натуру, гортанью твёрдою.
Это и к лучшему. Так я думаю. [CIII, 18].
Следующий за переводом «Демона» 1979-й стал для Бродского годом поэтического молчания: им не датировано ни одного стихотворения. Воспоследовавшие через год стихи начинались: «То не Муза воды набирает в рот» [СIII, 196].
Неизбежность сопоставления с Набоковым диктовала потребность в оригинальности собственного английского имиджа. В случае Бродского это означало стремление не вписаться — а, напротив, выступить против устоявшихся в англоязычной поэзии традиций. Прежде всего, это касалось нехарактерной для современного английского стихосложения тенденции к строгой ритмической упорядоченности. Число английских верлибров у Бродского ничтожно мало, а названия ряда стихотворений свидетельствуют о несомненной тяге к стилизации: Tune, Carol, Anthem, Tale. Таковы и его «Песни», сознательно ориентированные на опыт «Песен» Одена. Для современного читателя это выглядело откровенным анахронизмом.
Другой точкой преткновения стала рифмовка. В стремлении к оригинальной рифме Бродский шёл на эксперименты, носителям языка казавшиеся рискованными, а то и вовсе невозможными. Прежде всего, речь о составных рифмах, наподобие ‘Venus — between us’ в финале «Törnfallet» или ‘Manhattan — man, I hate him’ из «Blues». Они не только вызывали оторопь у коллег-стихотворцев, но и приводили порой к появлению незапланированного комического эффекта. Дело в том, что в английской поэзии подобная рифмовка характерна лишь для низовых, иронических жанров.
При этом иногда Бродскому удавалось практически невозможное: обнаружить в английском свежую незатасканную рифму. Порой это было результатом иного устройства слуха, порой — за счёт привлечения редкой, вышедшей из употребления лексики. Квинтэссенция соображений Бродского об английской рифме — и назревшей необходимости её реформы содержится во втором из двух его эссе, посвящённых Дереку Уолкотту [20]:
«Да, дорогой читатель, сегодня в английской поэзии нет рифмовальщика лучшего, чем Дерек Уолкотт, и его рифмы, приводящие в движение девяносто процентов стихотворений — то, что, боюсь, ты увидеть не сможешь. Причина для сожалений не в том, что рифма — не говоря о приносимой ею огромной радости — является мнемоническим приспособлением, или что она сообщает поэтическому высказыванию характер неизбежности. Уолкотт в этом не нуждается: его строки останутся на вашей сетчатке и у вас в мозгу по причине своего содержания и поскольку шведские переводчики нашли, вне сомнения, некие эквиваленты. Но предметом гордости рифмы, рифмы Уолкотта в особенности, является то, что она раскрывает интеллект и восприимчивость поэта, представляющие потенциал рода человеческого гораздо лучше, чем обращение к содержанию.
Вопреки популярному мнению, рифма в процессе писания освобождает поэта. То же самое она делает с читателем в процессе чтения, поскольку читатель при этом, на протяжении стихотворения, становится тем, что он читает. Проще говоря, хорошая рифма есть победа возможностей языка над его ограниченностью. Такая победа расширяет поле свободы читателя — то, чем искусство вообще (и поэзия в первую очередь) и занимаются. И Дерек Уолкотт — поэт наиболее освобождающий: ровно потому, что он является наиболее изобретательным, наиболее современным рифмовальщиком. Он использует все рифмы: консонанты, ассонансы, мужские, женские, дактилические, зрительные, анаграмматические, парарифмические, усечённые, макаронические, составные, те, что я бы классифицировал как разгадываемые, деконструктивные, опоясывающие и ещё некоторые, не поддающиеся классификации. Он расставляет их в терцы, итальянские октавы, децимы, во всякую всячину — его чернильница является рогом изобилия строфических конструкций; и хотя наиболее удобным для него размером является свободный ямб, его строки по существу основываются на рифме, а не на ритме. Как и океан».
Широта и недискриминированность лексикона Бродского стала оборотной медалью влюблённого в язык неофита. Почитавший Одена «единственным человеком, который имеет право использовать... для сидения… два растрепанных тома Оксфордского словаря», Иосиф Александрович, похоже, сам имел на эту привилегию достаточно веские основания. И, наконец, внутренняя логика его стихов, написанных на аналитическом (английском) языке, диктуется порой логикой языка русского (синтетического). «То есть, — цитируя его эссе “Поэт и проза”, — читатель всё время имеет дело не с линейным (аналитическим) развитием, но с кристаллообразным (синтетическим) ростом мысли».
Англоязычное творчество Бродского можно оценивать по-разному. И как причуду гения, и как его провал, и как напоминание о тотальном языковом эксперименте, поисках общего знаменателя для англо- и русскоязычной поэзии. Но каков бы ни был вердикт, следует признать, что английский язык стал для Бродского тем идеальным зеркалом, благодаря которому сформировалась его собственная оригинальная поэтика. Уже поэтому его англоязычные стихи заслуживают нашего признания и благодарности.
Попытка перевода Бродского на русский выглядит едва ли не безумием. Но вспомним его знаменитые слова о «величии замысла» — они объединяют представленных здесь переводчиков, которых воодушевляла именно дерзость подобной задачи. Пусть любая попытка перевода заведомо обречена, но потребность пишущего в зеркалах ещё никто не отменял. В конечном счёте, сам Бродский со временем превратился в гигантское зеркало, глядеться в которое отечественной поэзии предстоит долго.
[1] Датированный 22.I.69 перевод на английский стих. Владимира Уфлянда «В целом люди прекрасны». Факсимиле см.: Мансарда. Лит.-худож. журнал. Вып. 1. СПб., 1996. С.75.
[2] Vladimir Nabokov, Demon. Transl. from the Russuan by Joseph Brodsky // Kenyon Review (New Series). Vol. 1, # 1, Winter 1979, p. 120.
[3] Среди исследований, посвященных билингвизму Набокова и Бродского, следует выделить: Galya Diment, English as Sanctuary: Nabokov’s and Brodsky’s Authobiographical Writings // Slavic and East European Journal. Vol. 37, No. 3, Fall 1993, pp.346-361; David M.Bethea, Brodsky’s and Nabokov’s Bilingualism(s): Translation, American Poetry, and the Muttersprache / Special Issue: Joseph Brodsky. Ed. by Valentina Polukhina // Russian Literature. Vol. XXXVII-II/III, 15 February / 1 April 1995, pp. 157-184; David M.Bethea, Joseph Brodsky and the Creation of Exile (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994).
[4] David M.Bethea, Brodsky’s and Nabokov’s Bilingualism(s), p.157.
[5] Там же.
[6] Brian Boyd, Vladimir Nabokov: The American Years. London: Vintage International, 1993, p.570.
[7] Vladimir Nabokov, Selected Letters. 1940-1977. Ed. Dmitri Nabokov and Matthew J.Bruccoli. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1989, p.461. Пер. наш — В.К.
[8] Вероятно, имеется в виду стихотворная повесть «Посвящается Ялте» (1969). См.: Сочинения Иосифа Бродского. 2-е изд. Т.II. СПб.: Пушкинский фонд, 1997. С.292-306. Далее — С, с указанием тома и страницы.
[9] Карл Проффер, Остановка в сумасшедшем доме: поэма Бродского “Горбунов и Горчаков” / Поэтика Бродского. Сб. ст. под. ред. Л.В.Лосева. Tenafly, N.J.: Hermitage, 1986. С.139.
[10] Иосиф Бродский, Набережная неисцелимых. Тринадцать эссе. М.: Слово/Slovo, 1992. C.59.
[11] Возглавляемом друзьями Бродского — Карлом и Элендеей Проффер.
[12] Владимир Набоков, Стихи. Ardis: Ann Arbor, 1979. C.145.
[13] Vladimir Nabokov, Strong Opinions (a collection of interviews, letters to editors, articles and 5 lepidoptera articles). New York: Vintage International, 1990, p.151.
[14] Joseph Brodsky, Elegy to W.H.Auden / W.H.Auden: A Tribute. Ed. Stephen Spender. New York, 1975, p. 243; Joseph Brodsky, Elegy: for Robert Lowell // New Yorker. Vol. 53, No. 37, October 31, 1977, p. 38.
[15] Joseph Brodsky, 1972. Transl. from the Russuan by Alan Myers // Kenyon Review. Ibid., pp. 31-34.
[16] М.Ю.Лермонтов, Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М.: Правда, 1988. С.559, 573.
[17] Там же, С.556.
[18] Яков Гордин, Странник / Special Issue: Joseph Brodsky, pp. 227-245.
[19] Лосев А. Иосиф Бродский. Предисловие // Эхо. Париж, 1980. № 1. С. 25.
[20] Эссе, датированное маем 1991 года, было написано в качестве предисловия к книге переводов Дерека Уолкотта на шведский язык «Vinterlampor» (Stockholm, 1991. Неопубликованный английский оригинал эссе сохранился в архиве поэта в Нью-Йорке. Перевод Виктора Куллэ.