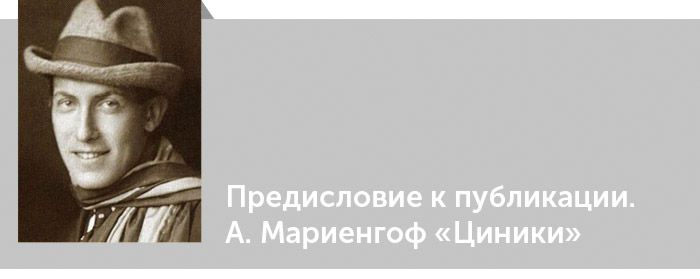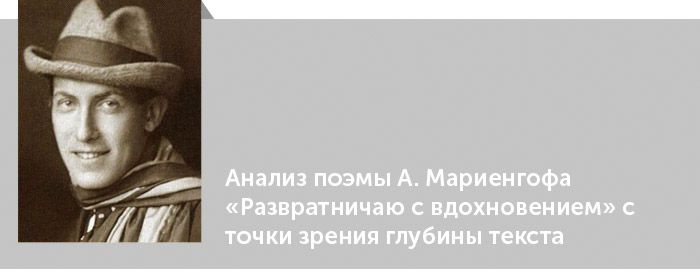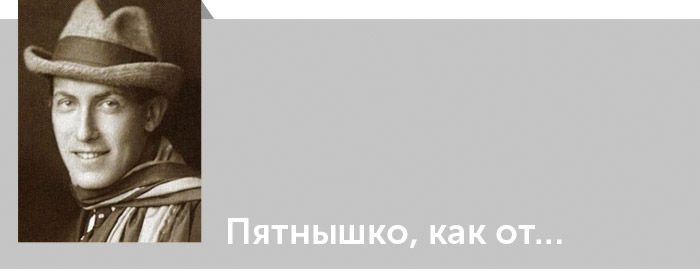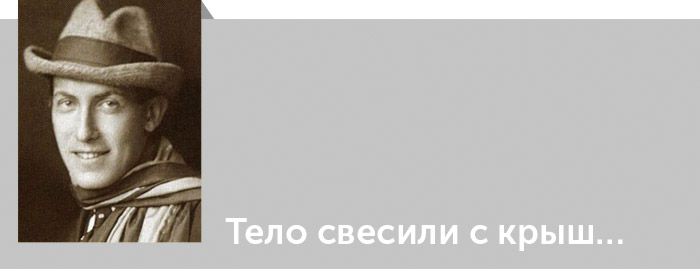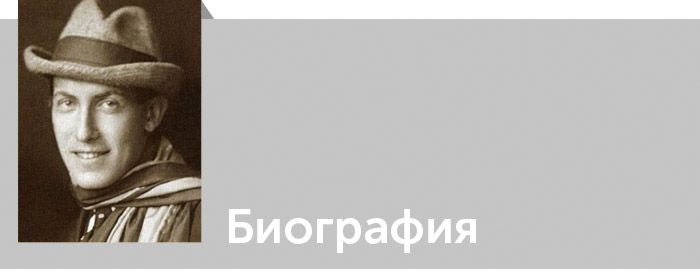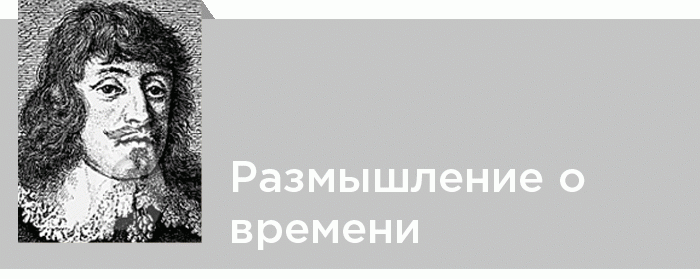Синематографическая история. Вступление. Анатолий Мариенгоф. Собрание сочинений в трёх томах
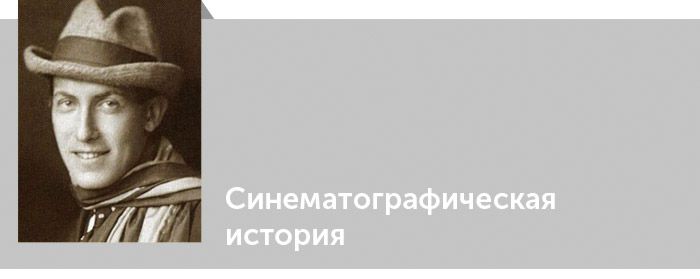
Захар Прилепин
Как ни странно, начнем мы с чужого стихотворения.
Отчего-то Есенину хотелось родиться в ночь с 6 на 7 июля, в праздник Ивана Купалы.
«Матушка в Купальницу по лесу ходила. <...> Охнула, кормилица, тут и породила», — писал он о своем рождении, которое на самом деле случилось осенью.
А 7 июля (по новому стилю) родился Анатолий Мариенгоф.
Был такой сочинитель.
Матушка его происходила из обедневшего дворянского рода. Правда, ночь родов она провела не в лесу — а в Нижнем Новгороде, где жила вместе со своим мужем — Борисом Мариенгофом, евреем-выкрестом, человеком красивым, дельным, образованным, имевшим что-то вроде собственной аптеки и, кстати сказать, бывшим под надзором местной полиции по поводу своих неблагонадежных взглядов.
Позже, в поэме «Развратничаю с вдохновением» Мариенгоф утверждал, что родился на Лыковой Дамбе — так это или нет, установить не удалось, но доподлинно известно, что проживали Мариенгофы в самом центре города, по адресу Большая Покровская, 10В. Дом их по сей день стоит на том же месте, все такой же снаружи, и даже лестницы, по которым бегал маленький Толя, те же.
Лыкова Дамба — в пяти минутах от Покровки; вполне возможно, что роды проходили на дому, а Мариенгофу просто понравилось это наименование, притягательно ассоциирующееся с выражением «лыко в строку».
Мать умерла, когда он учился в гимназии.
То ли от пристального внимания полиции, то ли от мест, связанных со смертью жены, то ли по каким иным причинам Борис Мариенгоф и двое его детей (Анатолий и его младшая сестра) решил в 1913 году перебраться в Пензу, где стал представителем фирмы «Граммофон».
Там Анатолий закончил гимназию. Странно, но этот глубоко начитанный и быстро думающий человек, отлично знавший историю и античную литературу, писавший, как показывают рукописи, достаточно грамотно — учился на одни «тройки». Хотя, да не покажется вам это сравнение некорректным, будущий — в известном смысле — кумир Мариенгофа, Лев Николаевич Толстой, тоже настолько дурно учился в университете, что даже бросил его.
После окончания гимназии, летом 1916-го Анатолия Мариенгофа мобилизуют на фронт. Армейская жизнь позже так или иначе будет отображена в его романе «Бритый человек».
Окончив школу прапорщиков, Мариенгоф возвращается в Пензу, где его застает революция.
Итак, он — офицер, имеющий все шансы в скорой Гражданской отправиться воевать за Белую идею, но это, конечно, совсем не его история — Октябрь Мариенгоф встречает восхищенно, о чем явственно будут говорить, да что там «говорить» — вопить его стихи.
Еще в гимназии Мариенгоф начал сочинять («С восьми лет / Стал я точить / Серебряные лясы») и даже организовал поэтический кружок. По возвращении с фронта он принялся за литературу совсем всерьез.
В 1918-м Мариенгоф выпускает первую свою книжку — «Витрина сердца». В одиночку придумывает поэтическую школу русского имажинизма, теоретиком которого становится (в Москве, независимо от Мариенгофа, тот же самый имажинизм тогда же придумает поэт Вадим Шершеневич — идеи в воздухе витают).
В том же году в Пензу вошли так называемые «белые чехословаки».
И случается ужасное: в нелепой перестрелке гибнет отец Анатолия Мариенгофа.
Позже, в своих мемуарах Мариенгоф опишет ситуацию так, будто бы причиной смерти отца послужил он сам — сына повлекло к «месту событий», отец побежал за ним и был смертельно ранен в пах.
Однако сводный брат Анатолия Мариенгофа — Борис в мемуарах напишет, что все было иначе. А именно: «Я родился 28 мая 1918 года в Пензе. Как раз в мае был бой с белочехами... и в этом бою в отца попала шальная пуля, когда он выбежал на крыльцо посмотреть извозчика, который отвез бы его в роддом, где я родился...»
Брат Борис путает? Или Анатолий Мариенгоф зачем-то взял незаслуженную вину на себя? Правда неизвестна и вряд ли когда-то откроется.
Но вот важный момент: оставшийся полным сиротой поэт, хоть и вчерашний офицер, — но совсем еще юноша, никакого болезненного сиротства не чувствует — напротив, если присмотреться, он находится в состоянии эйфории и бешеного прилива сил.
В первую очередь, это выражается, конечно, в его стихах.
Первые же, из числа дошедших до нас, сочинения Мариенгофа — замечательны. Они по сей день кочуют из антологии в антологии русской поэзии. Скорее всего, гимназические его опыты не сохранились, в итоге получилось так, что он вовсе не имел периода ученичества, а сразу объявился, как сложившийся автор.
Полдень, мягкий, как Л.
Улица, коричневая, как сарт.
Сегодня апрель,
А вчера еще был март.
Апрель! Вынул из карманов руки
И правую на набалдашнике
Тросточки приспособил.
Апрель! Сегодня даже собачники
Любуются, как около суки
Увивается рыжий кобель.
Прелесть; очень весенние стихи.
Что с таким добром было делать ему? Естественно, перебираться из «толстопятой Пензы» (его определеньице) в Москву.
Перебирается.
Там он (внимание!) немедленно попадает на работу в секретариат В ЦИК: двоюродный дядя — комиссар водного транспорта, что вы хотите!
Как выглядел Мариенгоф в те дни, рассказывает поэт Рюрик Ивнев: «В приемной увидел сидевшего за столиком молодого человека, совершенно не похожего на советского служащего. На фоне потертых френчей и галифе он выделялся своим видом и казался заблудившимся <...> гвардейским офицером. Черные лакированные ботинки, розовый лак на отточенных ухоженных ногтях, пробор — тоже гвардейский...»
И здесь имеет место новая развилка.
Хваткий и умный юноша мог бы сделать карьеру в советском государстве — кадров не хватает, а тут само все идет в руки.
Но нет — и карьеры он тоже бежит. Поэзия! Поэзия его влечет.
В 1919 году выходит альманах «Явь» с подборкой новых стихов Мариенгофа. Самое мягкое определение, что можно придумать для них, «эпатажные».
Впрочем, едва ли и оно подходит.
Это стихи дикие, безумные, их будто бы сочинял человек, бьющийся в падучей, или восхитительно ее имитирующий:
Кровью плюем зазорно
Богу в юродивый взор.
Вот на красном черным:
— Массовый террор.
Метлами ветру будет
Говядину чью подместь
В этой черепов груде
Наша красная месть
По тысяче голов сразу
С плахи к пречистой тайне
Боженька, сам Ты за пазухой
Выносил Каина
Ужас; с этих строк, собственно, и начиналась подборка в альманахе.
Можно сказать и по-другому: так началась слава Мариенгофа.
12 марта 1919 года по поводу альманаха появилась разносная статья в «Правде» под названием «Оглушительное тявканье».
«...Апогей хамства» — так охарактеризовала главная большевистская газета стихи Мариенгофа. Автор статьи посчитал нужным объяснить, что подробно останавливается на фигуре Мариенгофа потому, «...что его стихи занимают первое и самое видное место в сборнике: потому, что он задает тон, потому что он самый яркий, <.„> потому что он до конца договаривает то, на что другие только намекают».
А в альманахе между тем наряду с Мариенгофом были опубликованы Андрей Белый, Василий Каменский, Борис Пастернак — но их едва заметили. У него, конечно, подборка была посолиднее, но дело все равно не в этом. Стихи его совершенно очевидным образом имели оглушающий эффект.
Дали Мариенгофа почитать вождю мирового пролетариата, Владимиру Ильичу, он отозвался коротко: «Больной мальчик».
Мы не записывались в адвокаты советской власти, ни в ее хулители, но так ли уж болен был Мариенгоф — на фоне того, что творилось тогда в стране?
То, что словно бы в полузабытьи выкрикивал он — это было эхом того, что выкрикивало и выхаркивало время.
***В том же году происходит знакомство Мариенгофа с Есениным,
Дружба их стала определяющим моментом в судьбе не только первого из этой пары. Мариенгоф тоже стал самым важным человеком в жизни Есенина. Достаточно сказать, что они прожили вместе, в одной квартире больше, чем Есенин жил с любой из своих жен.
И фотографий совместных у них столько, сколько у Есенина нет ни с одной женщиной — мало того, их больше, чем снимков у Есенина со всеми его женами и любимыми вместе взятыми! В этом смысле хоть какую-то конкуренцию составляет Айседора — но тут другая история: это не сами Есенин и Дункан фотографировались — это их, как одну из самых известных и скандальных пар, фотографировали репортеры.
Происхождение фотографий Мариенгофа и Есенина иного свойства: им ужасно нравилось себя запечатлевать. Они были уверены, что это — для истории.
Есенин посвятил Мариенгофу самую главную свою теоретическую работу «Ключи Марии» (1918), лучшие поэмы: маленькую — «Сорокоуст» (1920), и драматическую — «Пугачев» (1921), «Я последний поэт деревни...» и еще одно пронзительное стихотворение «Прощание с Мариенгофом» (1922): «...Среди прославленных и юных / Ты был всех лучше для меня»...
А какие письма он писал ему!
«Милый мой, самый близкий, родной и хороший...»
«...если б ты знал, как вообще грустно, тоне думал бы, что я забыл тебя, и не сомневался... в моей любви к тебе. Каждый день, каждый час, и ложась спать, и вставая, я говорю: сейчас Мариенгоф в магазине, сейчас пришел домой...»
(Свою переписку поэты публиковали в журналах, критика реагировала так: «Неужели интимные письменные излияния Есенина к “Толику’' Мариенгофу вроде: 'Дура моя — ягодка, дюжину писем я изволил отправить Вашей сволочности, и Ваша сволочность ни гу-гу", — могут растрогать и заинтересовать хоть одного обитателя Москвы?»
О, нет, надутый глупец. Обитателей Москвы интересуют только критики — они так смешно смотрятся спустя некоторое время.)
Это была высокая дружба — о таких отношениях слагают песни и пишут романы.
«Как Пушкин с Дельвигом дружили, / Так дружим мы теперь с тобой», — писал Мариенгоф и вовсе не кривил против истины.
Все понятно, что нам могут сказать по этому поводу: «Не было бы Есенина — не было бы никакого Мариенгофа!» Мол, щедрый рязанский Лель пригрел на груди змею с лошадиным лицом — Толю, — а тот позже отблагодарил черной, без вранья, неблагодарностью, написав известные мемуары.
На самом деле, все как раз наоборот. Когда бы Мариенгоф писал и жил отдельно от Есенина — он и остался бы, как отдельный стихотворец и писатель вполне себе первого ряда, ну, или, полуторного — потому что там тако-ой первый ряд был — глаз не хватит вершины разглядеть. Что поделать, да, Есенин — гений. Есенин был настолько огромен, что оказался способен заслонить кого угодно — собственно, и заслонил. Как будто, великий поэт Николай Клюев выбрался из-под есенинской тени.
Но...
Они собирались выпустить книгу «Эпоха Есенина и Мариенгофа», даже написали для нее манифест (и в очередной раз сфотографировались вдвоем). Долгое время (по меркам стремительной и короткой жизни своей) Есенин, безусловно, воспринимал своего друга — как равного.
Позже заходила речь о другом совместном сборнике, на обложке которого было бы написано: «Есенин и Мариенгоф. “Хорошая книга стихов”».
И если Мариенгоф — бездарность и негодяй — это что ж означает, что у Сергея Александровича был дурной вкус? Что он не разбирался в людях? А мы теперь такие умные выросли, что разбираемся?
Мало того, слава Есенина — действительно, огромная уже при жизни, — вовсе не затмевала уверенной известности Мариенгофа.
Мариенгоф был одним из самых издаваемых поэтов той эпохи. С 1918 по 1921 год у него вышло восемь книг стихов! В то время как 99 из 100 поэтов и одну не могли издать. (У самого Маяковского — всего шесть сборников опубликовали за тот же период; больше, чем у Мариенгофа, появилось книг только у Демьяна Бедного и Блока).
Поэтические сборники Мариенгофа читали запоем, передавали из рук в руки, уже при жизни — о нем (и о Есенине, конечно) писали книжки.
Критик Л. Повицкий констатировал в главном на тот момент советском журнале «Красная новь»: «Нет имени в стане русских певцов и лириков, которое вызывало бы столько разноречивых толков и полярных оценок, как имя Мариенгофа».
Когда замзава Агитпрома Я. Яковлев по поручению Сталина делал обстоятельную докладную записку о ситуации в литературе, среди двадцати основных имен самых видных советских писателей (Горький, Городецкий, Асеев, Маяковский, Пастернак, Эренбург, Всеволод Иванов, Пильняк, Зощенко, Есенин...) — он, естественно, называет Мариенгофа. Без него картина была немыслима.
Многие ли знают, что Мариенгоф, совместно со скульптором Якуловым, который, конечно, погоды не делал, безо всякого Есенина собирал на свое выступление Колонный зал Дома Союзов? «Никогда еще, вероятно, стены дома не видели такого количества публики. <...> Это были юные и бурнопламенные студенты, <...> заполнившие зрительный зал задолго до наступление диспута», — отчитывалась пресса.
Ему мучительно подражали молодые поэты — наследники имажинистов, которые как грибы росли в первые послереволюционные годы по городам Советской России.
В журнале «Студенческая мысль» советский критик П. Зырянин напутствовал студентов, увлекающихся поэзией: «Отсутствие ритма современности, вялость и бледность — вот поэтические болезни, от которых очень многим из наших поэтов надо лечиться, принимая внутрь большие дозы...» — далее на вопрос, кого он назовет, — отвечаем: «...большие дозы стихов Маяковского, Есенина, Зенкевича и Мариенгофа».
Сравните с польской прессой, которая писала о лучшей советской поэзии, называя три главных имени: «Кое-кто слыхал, конечно, кое-что об «апофеозе большевизма» в произведениях Блока, о кощунстве и других ужасах в произведениях Мариенгофа и Есенина, но <...> в этих произведениях рядом с несомненными странностями сверкает чистейшая струя вечной красоты в новых и бесконечно разнообразных образах и формах».
Лиру Мариенгофа высоко ставил гениальный Велемир Хлебников и прямо признавал, что тот оказал на него очень важное влияние.
А как его любили женщины! Поэтесса Сусанна Мар первый сборник стихов называет «АБЭМ», зашифровав в названии книжки имя любимого поэта и обожаемого мужчины.
В 1920, в Политехническом музее четыре молодых человека, под восторженный грохот толпы, подняв вверх правые руки и поворачиваясь кругом, читали свой «межпланетный марш»: «Вы, что трубами слав не воспеты, / Чье имя не кружит толп бурун, — / Смотрите — / Четыре великих поэта / Играют в тарелки лун».
Четыре поэта — это Мариенгоф, Есенин, Шершеневич и Грузинов. Вышеназванная веселая компания, организовавшая Орден имажинистов, стала на несколько лет самой серьезной литературной силой в стране.
Газета «Известия ВЦИК» с возмущением писала: «Имажинизм <...> пошел дальше и глубже. Вчера он, можно сказать, безраздельно участвовал в области поэзии, а сегодня уже переселился в беллетристику, выступая под именами Борис Пильняк, Всеволод Иванов <...> и прочих подражателей имажинизму, которых достаточно и в среде пролетарских поэтов».
Имажинисты владели двумя книжными лавками, кинотеатром, тремя литературными кафе (главное из которых — «Стойло Пегаса» — Моссовет освободил от большинства налогов, и работало оно, в отличие от всех московских заведений, не до 24, а до трех утра). Ездили в собственном салон-вагоне по стране, в которой только что закончилась Гражданская война. Причем по своим маршрутам! Шили пальто и костюмы у самого дорогого портного Москвы Деллоса и щеголяли в них — в нищей Москве. А цилиндры! Помните, что у Есенина в стихах появляется цилиндр? Так они действительно в них ходили, ошарашивая прохожих. Глянцевые цилиндры, пальто от Деллоса с широкими меховыми воротниками, и лаковые башмаки плюс к тому!
Имела компания и свое постоянное место для развлечений — подпольный салон Зои Шатовой. Позже это место было описано Булгаковым в «Зойкиной квартире» (а Мариенгофа тот же Булгаков спародировал под именем Ивана Русакова в «Белой гвардии»).
Когда салон накрыли, а всех находившихся там арестовали чекисты, советская пресса писала: «...у Зои Павловны Шатовой все можно было найти. Московская литературная богема — Мариенгоф и все его друзья — весело распивали "николаевскую белую головку", "старое бургундское и черный английский ром" <...> здесь производились спекулянтские сделки, купля и продажа золота...»
Много было веселого и разного, о том прочтете у самого Мариенгофа в его книгах.
Молодость их — удалась безусловно. У судьбы они отыграли тогда все, что смогли, не упустив ни одного шанса.
А потом дружба с Есениным оборвалась.
Мы не будем вдаваться в эту тему, она сложная и неоднозначная — и это отличный сюжет для кино, который, к слову сказать, до сих пор пытались разрешить весьма тенденциозно, и — напрасно, что так.
Есенин тогда в очередной раз женился — на упомянутой танцовщице Айседоре Дункан, а Мариенгоф — в первый и последний раз — на актрисе Анне Никритиной.
И началась следующая серия жизни Мариенгофа.
Та эпоха — закончилась.
Замелькали титры.
***
Но о поэте Мариенгофе, под титры, мы все-таки скажем несколько слов.
В Пензе, в здании по улице Московской, 34, до революции размещалась частная гимназия Пономарева — там учился и там собрал поэтический кружок Мариенгоф. А сейчас в этом здании находится магазин под названием «Арлекино». Знаковое совпадение!
Арлекин, клоун, акробат, даже шут — те маски, которые выбрал себе Мариенгоф: создатель собственной уникальной поэтической мастерской, реформатор рифмы (собственно, то, что он сделал с неправильной, разноударной рифмой — вещь совершенно уникальная), ну и самое главное — своей, узнаваемой и только для него характерной манеры, кого-то — отталкивающей, кого-то — завораживающей.
По черным ступеням дней,
По черным ступеням толп
(Поэт или клоун ?) иду на руках.
У меня тоски нет.
Только звенеть, только хлопать
Тарелками лун дзин-бах!
Многие купились на эти его — под куполом — кульбиты, кто-то аплодировал, кто-то свистел, но только самые внимательные догадались, что кричит он столь дерзко и громко далеко не всегда для того, чтоб на него обратили внимание. Иногда он кричит так, как кричат дети, чтоб напугать то, что самих их приводит в ужас.
К тому же маска шутовства дает возможность, словно бы кривляясь, говорить о самом главном и самом страшном (шут потом станет частым персонажем стихотворных драм Мариенгофа, да и кто герои его романа «Циники», как не трагические шуты? Можно сказать, что повествование романа «Бритый человек» так же идет от лица шута).
Имажинистская школа — с ее ставкой на совмещение чистое и нечистое, на читательский шок — очень подходила Мариенгофу.
В раскрытую рану какую,
Неверия трепещущие персты
Сегодня Страстной Монастырь
Из горла выдавлю, завтра кухмистерскую.
Впрочем, и для Есенина имажинизм — этап мало того, что не лишний, но, уверенно скажем мы, — один из наиважнейших. В какой-то момент он стал слишком остро чувствовать, что все произносимые им слова — уже кто-то держал в руках до него. Хотелось использовать старые слова так, чтоб они, как из-под копытца, вылетали новыми и золотыми — иначе зачем вся эта поэзия.
И тогда Есенин понял, что для этого надо бить одним словом о другое — крайне неожиданное! — вдруг выдавая непредсказуемый образ, поражающий наповал («Всем вам спокойной ночи! / Отзвенела по траве сумерок зари коса... / Мне сегодня хочется очень / Из окошка луну обоссать», — это Есенин, знаете?).
Пройдя имажинистскую — наимоднейшую на тот момент, сверхмодернистскую школу, Есенин совершил свое, мир покорившее чудо. После революции он как-то вслух пожаловался пролетарскому поэту Кириллову, что «слова стерлись, как монеты». В имажинизме Есенин оживил и перекалил эти монеты — и затем простейшие слова в его устах зазвучали точно и пронзительно.
С тех пор уже сто лет целые полки поэтов почвеннического направления пытаются быть «как Есенин» на том (немалом) основании, что у них тоже есть кровное и мучительное чувство Родины.
Между тем Есенин уже в 1921 году написал: «Не люблю я скифов, не умеющих владеть луком и загадками языка. Когда они посылали своим врагам птиц, мышей, лягушек и стрелы, Дарию был нужен целый синедрион толкователей. Искусство должно быть в некоторой степени тоже таким».
«В некоторой степени», да — но не в абсолютной. Но если эта степень — никакая, искусства тоже не получается.
Чувство Родины — прекрасное чувство, но у многих и многих русских почвенников скажем, очень серьезно огрубляя — никогда не было своего Мариенгофа — этого великолепного поэтического фокусника и затейника, этого неустанного стрелка из лука, этого денди и в поэзии, и по жизни.
У Мариенгофа — только не бросайте в меня камнем — Есенин многому научился. Доказать это несложно, находя в стихах Мариенгофа слова, сочетания и мелодии — которые уверенно брал в долг Есенин для создания своих прекрасных песен.
Поэту Эрлиху Есенин говорил, что у него в «Пугачеве» рифмы — «как лакированные башмаки».
В самом широком смысле, и в прямом и в переносном, лакированные башмаки в жизни Есенина появились — от Мариенгофа. Есенин с удовольствием надел их, выбросив лапти Николая Клюева, — и Клюев этого Есенину не простил никогда, обиженно восклицая, что новые стихи любимого Сереженьки «...поливал Мариенгоф / кофейной гущей с никотином».
Поливал-поливал, все верно: и так выросли невиданные цветы.
Есенин вовсе не обязан был хранить в душе благодарность Мариенгофу за дружбу и, в известном смысле, сотворчество. Есенин был гений, ему простительно. Но мы-то взрослые люди, мы должны себе в этом отчет отдавать.
На друга своего Мариенгофа Есенин уже в 1921 году немного озлился, сказав, что Толя «ничему не молится», а нравится ему «только одно пустое акробатничество».
Тут, видимо, возник вопрос о вышеупомянутой «некоторой степени», которую, по мнению Есенина, Мариенгоф преступил, увлекшись сочинением песен исключительно от ума.
На эти есенинские слова любят ссылаться безмерно почитающие Есенина и столь же безмерно не любящие Мариенгофа.
В них, да, есть правда.
Но разве Мариенгоф не внял им? Внял!
Образы его с каждым годом становились все более органическими.
Тяжелым яблоком
Свисает стих —
Сегодня он впервые солнценосно вызрел, —
И празднует поэт
Свой августовский Спас
Прости,
Волос горячий пепел!
Зачесанный сурово локон,
Спадешь ты на чело фонтаном седины —
То будет час,
Когда перешагну за середину.
А молился ли он? Ну, да — безусловно.
Быть может, Родине в меньшей степени, чем Есенин, хотя и ей тоже.
Но дружбе и высокому искусству молился точно — и этого не мало.
Сегодня вместе
Тесто стиха месить
Анатолию и Сергею.
Поэтическая дружба была для него священнодействием!
Когда дружба иссякла, а заодно и революция, в которую так неистово поверил Мариенгоф, начала менять обличье, — стала истощаться и поэтическая страсть его.
О други, нам земля отказывает в материнстве,
Пусть будем мы в своей стране чужими
Делить досуги с ними мудрено, —
Они целуют в губы нелюбимых,
Они без песен пьют вино
Не говорите ж стихотворцам горьких слов,
В пустыне жизнь что легкий дым,
Но хлеб черствее, чем каменья.
Мы сами предадим
Торжественному запустенью
Любимые сады стихов.
Именно тогда и выяснилось, что Мариенгоф в поэзии и в поэтической дружбе (а эти вещи для него, пожалуй, равнозначные) не лукавил и не кривлялся — он весь из этого состоял.
Прочитавшие в 1922 году строки Мариенгофа о том, что он сам предаст запустению свои любимые стихотворные сады, могли подумать, что он опять кокетничает.
Но нет — его поэтическая страсть очень скоро сойдет на нет.
Из поэзии его уйдет воздух и ветер, и воля, и фантазия. После смерти Есенина всерьез стихов он писать больше не будет — а те, что напишет — их могло бы и не быть.
Более того: иных — действительно лучше бы и не было.
У Мариенгофа в имажинизме слова сияли — порой мертвенным цирковым блеском, порой солнечным, а потом — раз, и сиять прекратили.
Как будто Арлекин снял маску и мы увидели уставшего, постаревшего человека, нервного, неровного... впрочем, еще очаровательного, еще помнящего, что он умел когда-то.
Пока был «поэт или клоун» и шел на руках — получался ошеломительный «дзин-бах».
Потом «перешагнул за середину», встал на ноги, и понял, что пора заняться другим делом.
Были у Мариенгофа, как минимум, три попытки заговорить новым поэтическим голосом: стать детским поэтом (во второй половине двадцатых), военным поэтом (в сороковые-роковые) и автором кратких поэтических афоризмов (самая последняя попытка и самая удачная из всех).
Все три истории заслуживают рассмотрения, но, по гамбургскому счету, вышеназванное любопытно лишь в том контексте, что это написал «тот самый» Анатолий Борисович, или «рыжий» — как его Есенин любовно называл.
Рыжий Арлекин с тарелками лун.
***
Прозаика Мариенгофа при жизни удивительным (удивительнейшим!) образом никто в полной мере не оценит.
Едва ли не впервые назовет вещи своими именами другой «рыжий» — Иосиф Бродский.
Предваряя французский перевод «Циников», он взвешенно скажет, что это «...одна из самых новаторских работ в русской художественной литературе этого века, как в плане языка, так и в плане структуры. <...>. К примеру, он стал первым, кто использовал прием "киноглаза", позднее получивший такое название благодаря любезности великой трилогии Джона Дос Пассоса. <...> Другая замечательная особенность "Циников" в их остроумных, оборванных диалогах».
И еще, важное, о героях:
«Ее зовут Ольга, ее мужа — Владимир. Оба имени несут в себе отзвук Киевской Руси, и умышленно служат примером исконных категорий Русского мужчины и Русской женщины. Или, если кто-то желает шагнуть дальше, — русской истории, как таковой».
Рыжий рыжего увидел издалека!
А при жизни Мариенгофа события развивались так.
В 1926 году Мариенгоф издаст маленькую книжечку «Воспоминания о Есенине».
Подумает-подумает и вскоре дополнит ее до целого романа, который отлично, со свойственным ему дендистским шиком и цинизмом, назовет «Роман без вранья».
Выпустит книжку ленинградское издательство «Прибой». Скандал будет — ух!
Еще бы, во всех красках расписать юные и богемные похождения самых известных в постреволюционной России поэтов, а Есенина неожиданно преподнести не как херувима, голубей целующего в уста, а как глубоко непростого и мятежного человека.
Роман ругали все подряд: и Горький, и советская пресса, и друзья Есенина (за то, что Есенин не настолько хорош, как надо бы), и враги Есенина (за то, что Мариенгоф слишком любуется своим другом), и моралисты всех мастей, и всякие пошляки тоже.
Бунин, сжимая челюсти, в своей надменной манере повторял: смотрите какой талантливый роман — как точно он описал мерзкую жизнь всей этой мрази (Иван Алексеевич и Мариенгофа не терпел, и Есенина не жаловал).
На долгие годы роман стал легендой, о нем обязательно упоминали в послесловиях к бесконечным переизданиям есенинских стихов как о гадком пасквиле. Однако массовой публике прочесть его удалось только в новейшие времена.
И вдруг выяснилось, что ничего чудовищного в этой остроумной и меткой книжке нет.
Чего все так возбудились-то вообще?! — вот что думалось тогда.
Мариенгофу нужно было просто поверить — именно он знал, что описывал, как никто другой.
Уже четверть века «Роман без вранья» переиздается непрестанно — с 1988 года он выходил отдельными изданиями и в антологиях, как минимум, 16 раз. Анатолий Борисович, безусловно, порадовался бы этому обстоятельству.
Собственно, скандальный успех и во второй половине 20-х имел место быть: книгу Мариенгофа за два года переиздали трижды.
И тут мы вынуждены отметить важную человеческую черту нашего героя.
По большому счету, ему было все равно, что писать: стихи, романы, пьесы, теоретические трактаты, драмы в стихах или мемуарную литературу.
Он обладал личностным зрением, своей, как Есенин это называл, словесной походкой, своим, в конце концов, шармом — и мог проявлять себя в любых жанрах.
Есенин писал о себе, что «осужден на каторге чувств / вертеть жернова поэм». Мариенгоф мог вертеть жернова чего угодно.
Главное, что ему было необходимо — немедленная реакция на сделанное. Рюрик Ивнев вспоминал, как Мариенгоф удивлялся, зачем заниматься поэзией для себя, пряча написанное в стол: «Ну, знаешь, — сказал Мариенгоф, — Хоть убей меня, я не могу понять, как можно писать стихи, зная, что они не будут напечатаны сейчас же, немедленно».
В середине 20-х он догадался, что его поэзия Советской России нужна не очень (она и в постсоветской не нужна, правда, по другим уже причинам: при Советах некоторые стихи прятали от читателей, а сейчас читатели прячутся от любых стихов),
На тот момент у Мариенгофа было три пути, которыми он мог пойти (и пошел): переквалифицироваться в драматурги, переквалифицироваться в сценаристы и, наконец, стать писателем — раз такая масть началась.
По сути, Мариенгоф будет заниматься всеми этими тремя занятиями одновременно, но в какой-то период именно на прозу сделает наивысшие ставки.
Раз так гремит «Роман без вранья» — почему бы и нет? А то, что ругают — ну, так мало ли его ругали: удар он умел держать, хотя на критиков огрызался постоянно, и зазорным это не считал (как, впрочем, и почти любой русский классик).
В общем, Мариенгоф принимается за новый и уже самый настоящий, не мемуарный роман — «Циники».
***
Отметим один парадокс. В общественном восприятии Мариенгоф — все-таки поэт (к примеру, именно как поэт он рассматривается в гуманитарных вузах). При этом большую часть жизни он занимался драматургией и на это жил.
Однако самой известной его книгой стали все-таки «Циники».
Подавляющее большинство поклонников Мариенгофа — поклонники этого романа. Эту книгу чаще всех остальных его книг переводили (и по сей день переводят) на иностранные языки. Только в Германии «Циники» выходили пять раз! А еще — в Англии и США, в Голландии, Италии, Франции, Сербии, Финляндии... О романе пишут серьезные исследовательские работы. Именно «Циники» были экранизированы — с Ингеборгой Дапкунайте и Андреем Ильиным в главных ролях — постановка Дмитрия Месхиева по сценарию Валерия Тодоровского.
«Циниками» Мариенгоф доказал, что он интересен не только как автор неканонического портрета Есенина, а как самостоятельный писатель, аналогов не имеющий. Он, конечно, и поэт редкий и небывалый — но кто у нас тут еще не разучился читать и ценить стихи? — поднимите руку! А лучше — обе руки. И сдавайтесь: наше время истекло.
«Циники» были сделаны меньше чем за год — в 1928-м.
На волне успеха «Романа без вранья» Ленинградский отдел Госиздата решил издать второй роман Мариенгофа.
Ему, конечно же, ужасно не терпелось, и когда берлинское издательство «Петрополис» («Petropolis Verlag») тоже предложило издать «Циников», Мариенгоф, естественно, согласился — а пусть выйдет сразу и в Берлине, и в СССР, почему бы и нет!
Немцы, к несчастью (или к счастью?), оказались куда более проворны, чем «Госиздат», и роман Мариенгофа издали стремительно — в октябре того же 28-го: только с рабочего стола, еще теплый, и вот уже — готовая книжка, вся эмиграция читает.
«Книга странная и, местами, отвратительная, но умная, резкая и отчетливая», — писал Георгий Адамович, первое критическое перо эмиграции.
«Автор ее, — рассказывал Адамович, — довольно известный поэт, бывший футурист (неправда. — Примеч. 3. П.), бывший имажинист, и сводит он счеты не только с революцией, но, кажется, и со средой, в которой долго жил...»
Адамович не заметил только одной вещи, которую вообще мало кто замечает в Мариенгофе: с кем бы он ни сводил счеты — самый серьезный счет у него все равно к себе. Мы уже упоминали выше о том, что, возможно, он сам на себя навесил чудовищный грех за смерть отца — но это лишь один из примеров.
В целом, «Циники», конечно же, не столько антибольшевистская книга (пожалуй, даже и вовсе нет — о чем сам Мариенгоф будет вполне, на наш взгляд, искренне говорить твердолобым советским критиканам), сколько месть самому себе за свой юношеский цинизм.
Мол, что, Толя, хотел кровавых метел, человеческой говядины и плах?
Получай от жизни в зубы тогда.
Ты думаешь остаться в стороне, когда жизнь перемалывает огромными челюстями всех подряд? Нет, она перемолотит и тебя, вместе с твоей любовью и твоими книжками, с которых ты так любил стирать пыль.
Однако диалог Мариенгофа 1928 года с самим же собой десятилетней давности советскую критику не взволновал. Куда больше взволновало их то, что весьма сомнительный роман вышел в Берлине (сначала на русском, а спустя год и на немецком), и трактуют эту книжку за границей в совершенно однозначном ключе.
Тогда в советской прессе как раз прошла злая кампания по поводу Бориса Пильняка и Евгения Замятина, тоже переправивших свои неполиткорректные сочинения в Берлин, — теперь к ним начали суровой ниткой подцеплять и Мариенгофа.
В 1929 году «Литературная газета» дала программную статью, где осудила теперь уже писателя Мариенгофа за «тенденциозный подбор фактов, искажающий эпоху военного коммунизма».
«Красная газета» выступила с однозначным призывом уже в заголовке: «За Пильняком и Замятиным — Мариенгоф». (Интересно, вспоминал ли этот заголовок Мариенгоф в 1938-м, когда прочитал в «Правде» известие о том, что Пильняка расстреляли?)
Впрочем, Мариенгоф и не собирался опускать руки. («Я трижды верую, что огнь вдохновенья / Не погасить позорной оплеухой», — говорит у Мариенгофа поэт Тридиаковский в драме «Заговор дураков». Именно!)
Он на разгоне — как так, только начал, не останавливаться же, когда летишь на всех парах...
На работоспособность он никогда не жаловался — при всем своем дендизме, Мариенгоф был тот еще трудяга.
В общем, пока его пропесочивают, в 1929 году он делает еще один роман — «Бритый человек».
И, самое главное, несмотря на все случившееся в течение года — опять отправляет его в «Петрополис»: а что? хочу — и печатаюсь.
Но тут случилось то, что в случае Мариенгофа всегда было куда более действенным, чем любая критика.
Выход «Бритого человека» за границей почти не заметили (в том числе, и потому, что в романе как-то слишком мало антибольшевистского: зацепиться не за что!.. А что, вы до сих пор думаете, что эмигрантская критика была многим умней, чем советская? Та же история, только в профиль).
Более того, и в Советской России на выходку Мариенгофа вовсе не обратили внимания.
Этого он уже не мог потерпеть. Еще Есенин в свое время высказывался примерно так: «Что бы не говорили — лишь бы говорили». А тут — полное молчание.
Надо срочно менять профессию, решил Мариенгоф.
Всякий раз со сменой амплуа он как бы закрывает израсходованный жанр.
Итак, было написано три романа (26-й — «Роман без вранья», 28-й — «Циники», 29-й — «Бритый человек») — все, финита.
В конце 30-х он тряхнет стариной, сделает целый исторический роман «Екатерина» — но это явно была не органичная его собственным желаниям попытка, что называется, вписаться в литпроцесс. Роман, с одной стороны, получился несколько вымученный, каждую главу он перекатывает, как камень — ох. С другой стороны, это ж все равно Мариенгоф — ив каждой главе — да не по разу — замечаешь: а умел же ведь! Ай, как красиво мог составлять слова.
Но «Екатерина» все-таки послесловие к прозаику Мариенгофу.
***
Малую прозу можно делать на уровне фразы или на уровне абзаца.
Это — всегда самая эффектная и самая видимая часть работы. Всякую фразу можно принарядить. При умении можно зажечь ее, как бенгальский огонь и она начнет искриться. Абзац можно построить, как анекдот, как театральную зарисовку, — всем будет, как минимум, забавно.
Большая проза делается на других механизмах, когда сюжет, разрешение характеров героев и вообще движение романа происходит как бы скрыто — это нельзя рассмотреть, это можно сравнить с работой мотора. Все едет, но ты не видишь, как именно такая махина приведена в движение.
Прозаик Мариенгоф поставил любопытнейший эксперимент. Он учился писать романы по «Опавшим листьям» Василия Розанова: то есть, грубо говоря, по дневникам.
Внешне — это не «большая проза». Это набор цирковых номеров в пределах одного абзаца.
Так написаны и «Циники», «Бритый человек» и даже «Екатерина» (хотя исторический роман тащить на подобном ходу оказалось всего сложней).
(По большому счету, и «Роман без вранья» тоже сделан подобным образом — но в этой книжке перед автором не стоит наиважнейшая задача: познакомить читателя с героем, дать его рассмотреть, и потом убедительно показать характер в движении. Даже сюжет — и тот не очень нужен: мы и так заранее имеем отличное представление о том, кто главный герой и каков был сюжет его жизни.)
Удивительно, что в случае с «настоящими» (не автобиографическими) романами — у Мариенгофа все получилось.
Да, он делал с фразой то, что до него, пожалуй, и не делал.
У него «пухлая гимназисточка» вылезает из платья, как розовая зубная паста из тюбика. У него «дерево, гнедое как лошадь». Он пишет о молодой, влюбленной женщине: «Она была натоплена счастьем, как маленькая деревенская банька». А еще в прозе Мариенгофа встречается: «рыжеватые сапоги сморщились, как человек, собирающийся заплакать».
Как метафорист Мариенгоф составляет в русской литературе конкуренцию Юрию Олеше и Валентину Катаеву, и неизвестно еще, кто из них выигрывает.
Сдается, и свой мовизм Катаев придумал если не напрямую отталкиваясь от опыта Мариенгофа, то втайне имея его в виду.
Но, знаете, кто наверняка учился у Мариенгофа? Сергей Довлатов.
И не только он, конечно, — особенно в новейшие времена.
После Мариенгофа подобным образом пытались работать очень многие: фокусничая и жонглируя разнородными предметами, превращая каждую сцену в анекдот.
Выходила, как правило, все равно полная ерундистика, напыщенная и подлая.
Одно из объяснений, почему получилось именно у Мариенгофа — за ним стояла огромная эпоха и его собственная судьба.
Без судьбы — не пишется ничего: судьбу не соткешь из воздуха, про нее можно наврать, но то, что ее вес (и крест) не давит на твои плечи — видно по твоей походке.
Другое объяснение, и оно самое верное (хотя и дополняющее первое): у Мариенгофа это получилось интуитивно, — он откуда-то знал, как нужно писать, быть может, сам о том не подозревая.
Но в итоге у него имеет место быть все то, что положено: он дал типажи (тех же постреволюционных циников) — которых не было до него, причем дал их в развитии. Типажи ожили до такой степени, что и теперь находятся среди нас. Ольга или Владимир из «Циников» —лица вполне реальные, и в русской (литературе — зачеркиваем) жизни они на всех основаниях сосуществуют с Печориным, Хлестаковым, Базаровым, тургеневскими барышнями, и так далее — Климом Самгиным, Бендером и К0, Митей Векшиным, Клэр и Николаем, Телегиным, Рощиным, а также их чудесными спутницами — сестрами Катей и Дашей...
Ожили типажи и — ожили времена.
Мариенгоф, при всем своем внешнем минимализме прозаика, сдвинул махину, а как это работало, мы в очередной раз, на наше счастье, не поняли.
И не нужно, наверное, нам это понимание.
Но что бы не говорили о беспросветном цинике Мариенгофе, мы все равно чувствуем: ему ведь невыносимо жалко своих героев в «Циниках». Критики наперебой писали про подлость и низость всего происходящего в романе, странным образом не замечая, что это — очень человечная книга. Самая человечная у Мариенгофа вообще — сравнимая, быть может, только с итоговой мемуарной — «Мой век...».
В «Циниках» дан человек со своей невыносимой болью.
Присмотришься и понимаешь — нет никакого цинизма вовсе, а есть только мужество личности под пятой времен и непреходящая печаль бытия.
***
Завершив с прозой, Мариенгоф в третий раз меняет профессию.
Как сам он признавался позже, начиная с 30-х годов его профессия — драматургия.
Театр в стране Советов приобрел наиважнейшее значение (сам Иосиф Виссарионович просил писателей писать больше пьес), — и Мариенгоф решает, что там ему место найдется (Сталин в его случае ни при чем, конечно).
Все-таки поэзия — вещь сугубо личностная и даже интимная (если ты не Демьян Бедный). Да и в прозе тоже от себя убежать сложно (Мариенгоф точно с этой задачей не справлялся, и подмигивал читателю из-за каждой строки).
Что до драматургии — то Мариенгофу показалось, что здесь ему будет чуть проще спрятаться за героев, а то и вовсе лишить себя авторского голоса.
Главное было избавиться от имажинизма.
Мы помним, что как поэт Мариенгоф родился с имажинизмом и с ним же исчез.
Но и как писатель Мариенгоф — не меньший имажинист: и если б он рискнул писать роман, избавившись от своей манеры разрешать любую коллизию через образ (image) —то никакого бы романа у него, наверное, не получилось бы.
И лишь как драматург Мариенгоф со временем зажил полноценной жизнью, полностью свободной от своего бурного поэтического прошлого.
Но чтоб понять, как это случилось поэтапно, нам придется немного открутить назад — и вернуться к первой серии.
Начало драматургической работы было положено еще в период жизни с Есениным.
В 1921 году два молодых поэта (Есенину — 26! по нынешним меркам юноша! Мариенгофу — 24! по нынешним меркам подросток!) засели за драмы.
Жили они в одной квартире, и кто б из нас отказался посмотреть на эту картину: как сидит один, с золотой головой, а второй со своим легендарным пробором — и оба пишут, закусив удила: Есенин «Пугачева», Мариенгоф — «Заговор дураков». Обе драмы из XVIII века — время Екатерины Великой и Анны Иоанновны.
Обратите внимание, какими рывками (прыжками!) развивались тогда молодые поэты. От лирики — к революционным маршам, от революционных маршей — к сложновыстроенным поэмам, — оттуда, с головой, — в драматическую историю России, чтоб найти если не ответы, то хоть созвучия новым временам.
А сегодня пиит может полвека подряд переливать из одного стакана в другой, такой же и все о себе, лишь о себе. И кто-то после этого посмеет сказать, что Мариенгоф — поэт скромных масштабов? До он по нашим временам — огромен. Просто он жил, как мы видим, в одной комнате с Есениным и, образно говоря, по соседству с Маяковским, в одном шагу от Блока. Жил бы между нас — потерялись бы у него в ногах.
(...Обидели сто сорок человек современных поэтов, едем дальше.)
Работу Мариенгофа восприняли с воодушевлением. Журнал «Театр и музыка» писал: «Оригинален и плодотворен замысел трагедии Мариенгофа: если Есенин в Пугачеве искал первого зачинателя революционных восстаний, то урбанист Мариенгоф первых "бланкистов" — заговорщиков против царизма — находит в шутах-дураках, потешавших самодур-цариц: Анну Ивановну и ее приспешников. <...> Трагедия Мариенгофа несомненно знаменует благостный перелом в его творчестве, <...> поэт пришел к интуитивному углублению исторического "вчера" и к лирическому предвосхищению исторического "завтра". <...> Мариенгоф не только умный ученик и даровитый последователь Есенина, он превзошел своего учителя мастерским воплощением трагедии первых заговорщиков, энергией драматического движения, разнообразием и своеобразием сценических положений».
В 21-м Мейерхольд собирался ставить «Заговор дураков» (и «Пугачева» тоже).
Ставки у Мариенгофа того времени максимально высоки: если его кто ругает — так это Ленин, если Мариенгоф кого-то ниспровергает — так это Блока и Брюсова, если он дружит с кем-то — так с Есениным, если ссорится — так с Маяковским, а если кто-то ставит пьесу Мариенгофа — так, значит, должен быть кто-то не меньше гения.
У Мейерхольда, впрочем, с Мариенгофом не сложилось (как и с Есениным).
Хотя постановку по «Заговору дураков» сделали все-таки в Проекционном театре Мейерхольда — но без его прямого участия — и спектакль чудовищным образом провалился на первом же показе.
История знает такие казусы, это не единственный.
Зато уже следующую пьесу Мариенгофа — «Вавилонский адвокат» — поставил в 1923 году Камерный театр.
После этого случится серьезный перерыв в театральных постановках, тем более, как мы помним, он уйдет в прозу. Параллельно с прозой у Мариенгофа случится роман не роман, но вполне себе заметная интрижка с кино.
В 1924 — 25 годах Мариенгоф работал заведующим сценарным отделом «Пролеткино». Понемногу освоившись в новой должности, он и сам перешел к сценарной работе.
В 1928 — 29 годах выходит сразу пять фильмов, в создании которых Мариенгоф поучаствовал.
1928-й. «Дом на Трубной». Режиссер Б. Барнет. Над сценарием работал Мариенгоф в соавторстве с давними приятелями по имажинизму Вадимом Шершеневичем и Николаем Эрдманом, их компанию дополняли Виктор Шкловский и Белла Зорич.
В том же 1928-м: «Проданный аппетит». Режиссер Н. Охлопков. Сценарий написан в соавторстве с Николаем Эрдманом.
В 1929-м сразу три фильма. «Веселая канарейка». Режиссер Л. Кулешов. Сценарий написан в соавторстве с Борисом Гусманом.
«Живой труп» (он же «Законный брак») — по пьесе Л. Н. Толстого. Режиссеры Ф. Оцеп и В. Пудовкин. Мариенгоф снова работал в соавторстве с Борисом Гусманом.
И, наконец, «Посторонняя женщина». Режиссер И. Пырьев. Второй сценарий с Эрдманом.
Тут, безусловно, тоже стоит напомнить о ставках Мариенгофа тех лет. Работает он не абы с кем, а исключительно с классиками советского кино.
Борис Барнет — будущий автор культовой «Окраины» и лауреат Сталинской премии за «Подвиг разведчика». Николай Охлопков — культовый актер (шесть Сталинских премий), но и знаменитый режиссер тоже. Лев Кулешов — один из виднейших теоретиков кино впоследствии. Всеволод Пудовкин — будущий автор «Победы», «Минина и Пожарского», «Суворова» и «Адмирала Нахимова» (три Сталинских премии). И, наконец, Иван Пырьев, поставивший впоследствии едва ли не половину самых знаменитых советских картин — «Свинарка и пастух», «Трактористы», «В шесть часов вечера после войны», «Кубанские казаки», «Идиот», «Белые ночи», «Братья Карамазовы» (и тоже лауреат всех на свете премий).
Несмотря на все вышесказанное, в те годы работа в кино конкретно для Мариенгофа была, скорей, подсобной возможностью как-то перебиться: времена, когда имажинисты владели кафе, книжными лавками и ездили в собственном салон-вагоне, прошли, гонорары от «Романа без вранья» закончились, а издаваемые за границей «Циники» и «Бритый человек» дивидендов не приносили — надо было как-то жить.
Сценарная работа как началась резво, так же и завершилась (после 29-го года по сценарию Мариенгофа снимут только один фильм, в 1936-м — «О странностях любви», режиссер Я. Протазанов, сценарий написан в соавторстве все с тем же Борисом Гусманом).
О причинах столь неожиданно прекратившейся бурной деятельности пока можно только догадываться, но, скорее всего, их было несколько.
Во-первых, у Мариенгофа и его компании явно имел место быть какой-то фарт в советской кинематографии, который со временем накрылся.
Известен факт, что после того, как он ушел из «Пролеткино», спустя несколько лет, его арестовали.
Дело в том, что «Пролеткино» было госпредприятием, куда большевики вкладывали много денег. В итоге и деньги куда-то пропали, и картин сняли мало. В числе прочих спросили и с Мариенгофа (продержав его два дня в камере); он, видимо, нашел доводы в свое оправдание, но вполне мог очень серьезно перенервничать.
Во-вторых, такая работа быстро перестала удовлетворять его тщеславие. Одно дело — быть автором драм, как Шекспир, Мольер и Гоголь с Чеховым, а другое — делать на ходу подмалевки для кино, хоть и в веселой, как правило, компании. Все-таки театр — это выше, это серьезней.
И, в конце концов, где слава? Пять фильмов вышло — ни одной рецензии, ни одного скандала. Так дело не пойдет.
В 1930 году Мариенгофу только 33 года — это время отсчета для самых главных свершений, а не для того, чтоб сдать себя в синематографический утиль.
Открытие Мариенгофа как драматурга еще предстоит. Запоздалое, ну ладно. Лично мы по этому поводу испытываем даже некоторое трепетное предвкушение.
Он писал драмы в разные времена и с разными целями, но ряд его работ в этом жанре — безусловные шедевры.
Трагедия «Заговор дураков» при всей их оригинальности, все-таки была пробой, к тому же поэтический, тем более — абсолютно имажинистской: перенасыщенной образами и метафорами; плюс ко всему имеющей несколько надуманный сюжет (сложно все-таки представить, что поэт Тредиаковский хотел свергнуть Анну Иоанновну).
Хотя и там уже проявились фирменные черты драматургии Мариенгофа.
Во-первых, точный, нисколько не базарный, а скорей даже аристократический (в конце концов, он все-таки русский дворянин по материнской линии) юмор.
Достаточно сказать, что сама трагедия начинается со сцены похорон лошади Анны Иоанновны:
Утишьте страсти Умерьте пыл
Сегодня день надгробных возрыданий
Хороним мы прекраснейшую из кобыл —
Любимицу великой государыни
Во-вторых, смеховое начало там неизменно соседствует с трагедийным: Мариенгоф жил в эпоху революций и войн, человеческое мелкотемье было не в его вкусе. Большим временам — большие трагедии.
(Надо сказать, Мариенгоф позволял себе то, что было более чем уместным в русской драме XIX века, а в следующем веке уже стало моветоном — он запросто и всерьез вводил в свои драмы в качестве героев цариц и царских наследников, вождей и премьеров: шекспировский размах, шекспировские страсти; а вот Есенин Екатерину Великую из «Пугачева» выбросил — решил, что не мужицкое это дело — цариц рисовать.)
Наконец, Мариенгоф был, в лучшем смысле, классицист, поэтому драматическое напряжение, завязку, конфликт и развязку выдерживал неукоснительно. Большинство его пьес элементарно интересно читать.
Это как любую классическую драму XIX века случайно, даже нехотя, начнешь перелистывать — а спустя десять минут только и думаешь: «Какая все-таки прелесть!»
«Шут Балакирев» и «Актер со шпагой» — две лучшие его драматические вещи, написанные нерифмованным, упругим, полным воздуха и какой-то почти пушкинской светлой силы стихом. Время Петра Великого и время его дочери государыни Елисаветы Петровны поданы так, что драмы звучат, как громокипящие имперские гимны.
Эти вещи, безусловно, лучше и легче читаются «Заговора...», в первую очередь потому, что Мариенгоф в них как драматург наконец избавился от своего имажинистского наследия.
Недаром «Шут Балакирев» поставили и в Ленсовета, и в БДТ им. М. Горького, и во многих провинциальных театрах — эта духоподъемная штука сотни раз прошла по всей стране в самые трудные годы — с 1941 по 1946-й.
В других своих, уже не стихотворных, театральных вещах, Мариенгоф забыл об имажинизме напрочь и правильно сделал. Разве что, изредка передавал тайные приветы своему прошлому.
В «Острове Великих Надежд» один из героев рекомендует зайти своим знакомым в кафе поэтов. Действие пьесы происходит в 1920 году: Мариенгоф был уверен, что к тому времени, когда он заканчивал «Остров...» — а это 1950 год, — никто уже не помнил, что там за кафе такое было.
Зато сам он хорошо понимал, что в том кафе, куда хотели зайти герои его пьесы, выступали 23-летний Мариенгоф и 25-летний Есенин — между прочим, хозяева заведения.
Или обратите внимание, в каком стиле написана вещь «Уход и смерть Толстого» — в телеграфном! До этого же только автор «Циников» мог додуматься! «Уход...» писался в 1960 году — это последняя вещь Мариенгофа, а ведь, надо же, не забыл прозаических наработок.
Как цитата из «Циников» звучат и крики газетчицы в «Острове...»: «Вечерние известия! Вечерние известия!.. Красные войска взяли Самару... Германия просит мира у президента Вильсона... Вобла без карточек!.. Вечерние известия! Агония Турции... Капитуляция Болгарии... Вобла без карточек!..»
Скрывать нечего: имели место быть в случае Мариенгофа и полупоклоны власти, и уступки временам. И «Суд времени» (написанный в 1948-м в разгар борьбы с космополитизмом, по этому самому поводу) и «Рождение поэта» (о Лермонтове, где Николай Первый неистово желает загубить вольнолюбивого сочинителя) по нынешним временам могут показаться читателю слишком «советскими»... Названные пьесы, впрочем, приобретают в этом смысле интерес уже иной и тоже, по-своему, серьезный — как документ эпохи.
К тому же рука Мариенгофу не отказывала, и порадоваться в его драмах всегда есть чему. Откройте упомянутый выше «Остров великих надежд» и в первом же действии обнаружите россыпь афоризмов: «Прежде чем сесть за круглый стол, я хочу знать, где его острые углы»; «...два великих премьера не могут принять одно мелкое решение», «Вы напрасно хотите запаковать живого петуха в папиросную бумагу, сэр!»; «Когда суп слишком горяч, трудно судить, хорошо ли он приготовлен...» — не будем продолжать цитаты, а то увлечемся.
Наконец, драматургия стала для Мариенгофа возможностью жить и заниматься тем делом, ради которого он был рожден — литературой.
Бытует мнение, что Мариенгоф был едва ли не запрещен всю свою жизнь. Но, как это ни удивительно, книжки его пьес время от времени выходили: «Шут Балакирев» (1941), «Рождение поэта» (1951), «Маленькие комедии» (1957), «Не пищать! Пьеса в трех отделениях для юношества» (1959) и еще один сборник из двух пьес — «Рождение поэта. Шут Балакирев» в том же 1959 году.
Его скетчи ставили многие провинциальные театры. Пьесу «Люди и свиньи» — Московский театр сатиры (1931), «Преступление на улице Марата» — Ленинградский драматический театр (1945), с пьесы «Золотой обруч» в 1946 году начал свою работу театр на Спартаковской (впоследствии Московский драматический театр на Малой Бронной) — и постановка прошла около трехсот раз! «Суд жизни» шел после войны во многих провинциальных театрах.
Заработал ли он себе славу на этом поприще? Едва ли.
На хлеб зарабатывал — и то хорошо.
Евгений Евтушенко, помещая потом стихи Мариенгофа в антологию «Строфы века» со свойственной ему, так сказать, широтой и безапелляционностью, заявит: «Мариенгофа... каким-то чудом не посадили, но из литературы почти вышвырнули — держали в холодной прихожей».
Вообще говоря, «каким-то чудом» не посадили почти всю их имажинистскую компанию: и Шершеневича, и Рюрика Ивнева, и Матвея Ройзмана, и Грузинова Ивана (Кусиков уедет за границу). Эрдмана, да, посадят — но выпустят, а после этого он еще получит Сталинскую премию.
И дело не в этом.
Мариенгофа, конечно, задвинули.
Но все-таки. С 1926 года по 1962-й у него выйдет 12 книг и книжечек, по его сценариям снимут шесть фильмов, в театрах поставят, как минимум, семь спектаклей по его пьесам, сотни, если не тысячи раз на самых разных площадках покажут его скетчи... Не считая всякой прочей мелочи — вроде публикации глав из романа «Екатерина» в журнале «Литературный современник» в 1936 году, выступлений по радио в войну, радиопостановки по «Рождению поэта» и периодических встреч с читателями.
Да, детская книжка «Мяч-проказник» была изъята из продажи, а «Роман без вранья» — из библиотек. Да, пьесу «Люди и свиньи» запретили после сотого показа, а «Золотой обруч» — после двухсотого. Да, после того как «Золотой обруч» прикрыли — пришлось трудно... Но и тогда Мариенгоф нашел веселый выход из положения — переписал от руки «Роман без вранья» и продал в музей как черновик 26-го года. И купили!
Так, «холодная прихожая» или нет?
Да, не барские покои, увы.
Но дело в том, что сейчас поэтов и в прихожую не пускают. И — ничего.
А они, может, очень даже хотят в такую прихожую.
По факту — Мариенгоф всю жизнь оставался тем, с чего начал свой путь, — советской литературной богемой.
А наша богема — больше чем богема: это зачастую и есть элитарии российской культуры.
Жил, кстати, Мариенгоф всегда в лучших квартирах в центре Москвы и Ленинграда. И отдыхал он в Пятигорске, Сочи, Коктебеле, Севастополе и Пицунде — в компании с маститыми советскими писателями. И домработница в их семье всегда была. И выглядел он, даже в самые невеселые времена, как элитарий: костюм, отличные ботинки, элегантное пальто, трость.
Недаром его называли «последний денди республики». Это кое-чего стоит. Денди в прихожей не живут.
***
А ведь еще была и жизнь у Мариенгофа. Обычная (или не обычная) человеческая жизнь, о ней-то мы немного позабыли.
Ввиду того, что он был элитарием, а не отщепенцем — всю жизнь дружил Мариенгоф с лучшими людьми эпохи — композитором Дмитрием Шостаковичем, поэтессой Агнией Барто, актером Василием Качаловым, писателем Юрием Германом.
Творчество Мариенгофа и его письма дают одно очень твердое ощущение: это был человек, наделенный необычайным жизнелюбием.
А помимо любви к жизни имел еще и страсть к одной женщине. Об этой страсти мы не имеем права смолчать.
Жену свою — известную актрису Анну Никритину сам Анатолий Борисович любовно прозвал «Мартышон» (она же «Мартын», она же «Мартышка»).
К Никритиной его еще Есенин ревновал. В письмах писал: «Как тебе не стыдно, собаке, — залезть под юбку и забыть самого лучшего твоего друга. Мартын — это одно, а я — другое». (Надо понимать послание так: не бросай меня, брат Толя, одиноко мне!)
Но потом, судя по всему, сам Мариенгоф будет мучительно ревновать своего Мартышона.
По крайней мере, мотив мучительной ревности — один из постоянных в стихах Мариенгофа постимажинистского периода.
Листья стекают в августе Пеною легких вин.
Милая,
Милая,
Милая,
Ты мне скажи, пожалуйста,
Я у тебя один?
Друг семьи, Рюрик Ивнев, в 1932 году в своем дневнике цитирует Чехова: «Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее уменье знакомиться и коротко сходиться с знаменитыми людьми». И тут же поясняет смысл приведенной цитаты: «Написано точно про Мартышку Мариенгофа».
В 1937 году, в «Записках сорокалетнего мужчины» Мариенгоф почти дрожит от мужского бешенства: «Не пускайте себе в душу животное! Я говорю о женщине». И еще: «Все женщины распутны. А так называемые верные жены еще хуже неверных, потому что в сердце своем, в мыслях, изменяют чаще и бесстыдней». И вот так еще: «Все дело в том, что у женщины душа помещается чуть пониже живота, а у нас несколько выше».
Не знаю, как вам, а нам кажется, что такие штуки только ужасно влюбленный человек может выкидывать.
В 1939 году Мариенгоф пишет:
Как же быть-то?
Расстаться что ли?
Ну ударь!
Закричи!
Что-нибудь разбей.
Ты моя до физической боли,
До мозга моих костей.
В том же году в следующем же стихотворении (одного не хватило — выговориться) кричит:
И ты такая же,
И ты
Боюсь подумать
И сказать
Какие чистые черты!
Какие ясные глаза!
Как черный узел развязать?
Я не сумею,
Не смогу,
И эти губы тоже лгут,
И эти тоже лгут глаза.
Уж ты поведай мне,
Открой.
Большое ль счастье принесло
Тобой содеянное зло,
Боль, причиненная тобой?
При этом сама Никритина говорила, что «...с Мариенгофом наша жизнь была безраздельна»: то есть они всегда были единым целым.
И большинство мемуаристов в один голос утверждают, что Мариенгоф свою жену обожал, а отношения у них были просто удивительные.
Артист и режиссер Михаил Козаков писал: «Лучшей пары, чем Мариенгоф — Никритина, я никогда не видел, не знал и, наверное, не увижу и не узнаю».
С другой стороны, в книге Ларисы Сторожаковой «Мой роман с друзьями Есенина», все та же Анна Никритина делится с подругой тайным рассказом о том, как милый Толя душил ее от ревности, а она хрипела: «Дверь закрой, соседи увидят...»
Хотя... в такое ли уж противоречие вступают слова Козакова и мемуары Сторожаковой? Может, напротив, тут никаких противоречий нет?
В 1947 году Ивнев (он сам рассказывал) зашел к Мариенгофу в гости, поболтали, потом Мариенгоф говорит; «Мне надо срочно уходить. Пойдем вместе. Одного я тебя не оставлю с моей женой».
А Мариенгофу ведь — 50 лет! Впрочем, как тут же замечает Ивнев; «Анатолий <...> выглядел таким же молодым, как и раньше. В жизни я встречал много людей, с которыми расставался на долгие годы, но не помню случая, чтобы человек почти не старел. Что касается Никритиной, его любимой «Мартышки», то она оставалась такой же, как в давние времена Таировского театра».
В 1950 году Мариенгоф завершает пьесу «Остров великих надежд». Подобно тому, как он передавал приветы своей имажинистской юности, так же он передает здесь приветы своей жене, давая прекрасной героине Жене прозвище Мартышон.
Там есть один знаменательный диалог, который (если б пьеса была поставлена) любимая жена непременно услышала бы со сцены. Разговаривает эта самая Женя с героем по имени Захар;
Женя (долго смотрит ему в глаза). У вас в глазах черным по белому написано; «А все-таки, Мартышон, я тебя — черт тебя дери»...
Захар. «Черт тебя дери» не написано!
Женя. Ну, что-то в этом роде.
Человеку 53 года — а он все сюрпризы устраивает жене, да?
Это была удивительная страсть, и не спорьте.
Нехорошо, конечно, но у нас есть и возможность заглянуть в письма Мариенгофа к жене (хотя едва ли они откровенней его стихов).
«Скучаю по тебе, Мартуха, любовка ты моя.
Длинный».
«Лето уже вероятно будет в Одессе, когда встречусь со своей миленькой. Отсчитываю дни, как гимназист перед каникулами.
Целую и обожаю. Твой Толюн».
«Не забывай, Люха, своего длинного обожателя.
Твой, твой!»
«Целую ручки и ножки и то местечко, из которого они произросли.
Твой Толюха».
«Любушка, а ты ведь все-таки не знаешь, как я тебя обожаю!»
«Нынче я тобой наказан, сижу без твоих чудных каракуль. Бог тебе простит это, миленькая!
Скоро ли уже расцелую в горяченькие губы?
Твой».
Автору этих писем — шестой десяток.
И вот уже 1959 год на дворе, Мариенгофу — за шестьдесят. И вдруг он сочиняет короткое и жуткое стихотворение.
Как дьявол нынче зла
— молчишь?
Снег сбрасывают с крыш
Весна пришла.
Что? Влюбилась в кого-то кобла?
Да.
Может, стихотворение и не к Мартышону обращено, конечно. Но вряд ли... Вряд ли, а?
В мемуарной, итоговой книге своей «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» Мариенгоф напишет, что ни разу в жизни не ругался со своей любимой больше, чем на пять минут.
Поверим, что ли, на слово.
***
Отношения Мариенгофа и Никритиной были разломаны пополам самым страшным событием, что может случиться в жизни любящих людей.
У них был сын — Кирка, Кирилл, парень удивительный, с ясной головой. Его должен был крестить Есенин — но судьба развела отца и его лучшего друга.
Однажды Мариенгоф и его Мартышка пошли ночью прогуляться — до Невского. А потом еще квартальчик. Такие ночные прогулки тоже, как мы знаем, совершают чаще всего романтично любящие друг друга люди.
Когда вернулись, обнаружили, что их 16-летний обожаемый сын — повесился.
Задолго до этого Клюев в письме Есенину писал: «Молюсь твоему лику невещественному, <...> тебя потерять — отдать Мариенгофу, как сноп васильковый, милый, страшно. <...> За твое доброе слово я готов пощадить даже Мариенгофа, он дождется несчастия».
Клюев был ведун.
Мариенгоф дождался.
Потом вспоминал такие семейные сцены:
— Папа, ты сегодня весь вечер дома?
— Да.
— Мама, а у тебя есть спектакль?
— Нет.
— А концерт?
— И концерта нет.
— И не репетируешь?
— И не репетирую.
— Значит, тоже дома?
— Дома.
— И гостей не будет?
— Не ждем.
<...>
Кирка обвивает ручонками шею матери и горячо, с благодарностью, целует ее в губы. Потом меня. В щеки, в нос, в лоб.
— А когда у тебя, папка, будет лысина, еще и в нее целовать буду.
— Не придется.
— Ой, не храбрись, старый денди!
Теперь она есть, но уже некому в нее целовать меня.
Причины смерти Кирилла Мариенгофа до настоящего времени не установлены, сообщают нам справочники.
Всю оставшуюся жизнь его отец задавался вопросом: зачем сын сделал это?
Он был очень амбициозный и чувствительный парень, об этом пишет отец.
Еще Кирка отлично понимал, какое мрачное время на дворе: отец вспоминает и про это обстоятельство.
У Кирки была девушка, и, кажется, они с ней поссорились: перед самоубийством пацан позвонил ей по телефону и сказал, что собирается сделать.
Были еще какие-то причины...
Только об одном обстоятельстве Анатолий Мариенгоф не говорит ничего — может быть, забыл в 1956 году, когда заканчивал книгу.
Самоубийство случилось зимой, в самом начале 1940-го. А на 1939-й год приходятся самые мучительные стихи Мариенгофа о его, на грани разрыва, отношениях... ну, пусть будет так: с лирической героиней этих стихов.
Но если Мариенгоф об этом обстоятельстве умолчал в своих мемуарах, значит, так оно и нужно.
***
Молодой Булат Окуджава часто приходил к дяде Толе и пел ему свои песни.
Кажется, так лучше всего закончить нашу историю.
Зачем мы ее рассказывали?
Ну, хотя бы чтоб показать — смотрите, это ж как в кино. Даже лучше, чем в кино, потому что перед нами настоящая жизнь.
Но фильм тоже можно снять. Там будет все: шумные успехи и чудовищные трагедии, гениальные друзья и сладостные подруги, и, конечно же, главный герой — который раз за разом восстает, как Феникс из пепла. И непрестанный труд этого героя, и горькая усмешка его, и его мудрость.
И лаковые башмаки, и трость в руке.
Разве не кино? Готовый сценарий.
Возьмите на заметку.
А мы пока договорим о литературе.
Мариенгофа можно трактовать как угодно. То есть как Пушкина. Как Блока. Как Есенина. Как Мандельштама. У них для любого интерпретатора найдется по необходимой строке.
Мариенгоф — революционный поэт, большевистский подпевала? Да запросто.
Многая лета,
Многая лета,
Многая лета
Здравствовать тебе — Революция,
— пропел он в поэме «Застольная беседа».
«Невозможно — это не советское слово», — афористично и с безмерным уважением к своей стране отчеканил Мариенгоф в одной из своих пьес.
Контра? На раз.
Берем роман «Бритый человек», цитируем: «А не думаете ли вы... что мы сбрили наши русские души вместе с нашими русскими бородами в восемнадцатом году? Не думаете ли вы, что в душе у нас так же гладко, как на подбородке? »
Империалист и государственник? Конечно же.
Даже саркастическая ода Тредиаковского из «Заговора дураков» звучит как имперская песнь:
Звени, звени хрустальный альт стаканов —
То льет восторг покорная держава,
Тебя — сияющей короной увенчанную
Поет на флейте радостная слава.
Не блеском скипетра и митры и порфиры
Сиять в веках правленью Анны.
Поет за доброту тебя серебряная лира,
Поют за разум бубны и тимпаны.
Лишь мудрым рулевым ты встала у кормила —
Средь волн бестрепетно поплыл корабль России.
Несчастную страну счастливо вое кормили
Твои, Царица, розовые перси
Сосцы своих грудей, тяжелых молоком и салом,
Ты вкладывала трем младенцам в нежный рот
О, Государыня, тебя сосали
Пехота, кавалерия и флот...
Другой любви, иных зачатий пришла весна потом
И вот — вторично ощенилась сука.
Не ты ли греешь теплым животом
Политику, искусство и науку.
Или, может быть, наоборот — он человек, возненавидевший это тяжеловесное тысячелетнее государство? И это тоже верно.
Дурацкую мечту поэта
Перетянула золотая
Литая чаша
Империи...
— жалуется Мариенгоф. Что было мечтой его? Наверное, свобода.
Значит, антисталинист и предвестник «оттепели»?
Конечно, недаром он приводит в книге «Мой век...» разговор с сыном:
— Неужели, папа, ты всерьез думаешь, что при нем можно писать?
— О чем ты?.. О ком?.. Не люблю загадок.
Кирка отчеканивает:
— Я тебя спрашиваю, неужели ты не понимаешь, что при нем писать нельзя...
Или все не совсем так?
Да, не совсем так.
Вчитайтесь внимательно в «Шут Балакирев», в прекрасную эту драму о Петре Великом, где последовательно разрешается как раз тема репрессий и дана вполне весомая попытка понять их и даже объяснить.
Идем дальше.
Русофоб? Еще бы!
Это его лирический герой в романе «Бритый человек» говорит: «Русский человек? Глупо. Подло. Совершенно лишнее. Неосновательная фантазия природы».
И там же остроумничает про «кукиш, счастливо заменяющий русскому человеку дар остроумия и находчивости».
Это ж его, наконец, стихи:
Исчезни ж, Русь!
Скачурься! смойся! сгинь!
С тобой
Губительной не жажду встречи
Ни в легких снах.
Пусть океан
Ворочается в желтых берегах.
Пусть камня финского приподнятые плечи
Пусть ветер, соль
И синь
Хорошо, пусть так.
Но не русофил ли он, раз на то пошло?
Да несомненный!
Это он объявит:
Я твой, Россия.
В славе ль ты,
В позоре.
Я тень люблю, что падает на милое лицо
Это он в ответ на слова Есенина, что у его собратьев по имажинизму «нет чувства родины», сказал: «...имажинизм отныне не формальное учение, а национальное мировоззрение, вытекающее из глубины славянского понимания мертвой и живой природы своей родины».
Это он за границей признается:
Птицы, звезды и степи,
Желтые зори.
И трава.
Тридцать три переедешь моря,
А в сердце:
Пепел
И маленькая Москва
Это он, еще раз, спустя годы повторит:
И вот я сердцем холодею:
Трястись куда? Бежать куда?
Когда в косматых Пиренеях
Из Пензы милая звезда.
Это он напишет в поэме «Денис Давыдов»: «Велики великороссы!.. Помяни-ка нас добром!»
Нас!
Это он в «Романе без вранья» скажет, что Василий Розанов (Розанов!) научил любить его Россию «не только во времена величия, но и во времена слабости и унижения».
Может, и ксенофоб тогда? А как же!
Это же он написал: «...только тем, кто несет погромные колья / Стихов серебряные росы».
Это он, вполне внятно направляя свой гнев против «господ Коганов и Фриче» в своей работе «Буян-остров», требовал оставить искусство в покое.
Это в его «Бритом человеке» сообщается: «Работали в дружине татары из-под Уфы, сарты и финны. Татары были жалкие, сарты суровые, финны наглые». Готовый международный скандал! ...Потом финнам не заплатили за работу, они устроили дебош, вызвали эскадрон. «Но финны разбежались раньше, чем уланы сели на коней».
Мы уж не говорим про откровенно антинемецкий пафос его военных поэм и баллад — там время было такое.
Но это Мариенгоф писал безо всякой войны: «Необходимо пресечь губительную тягу Московии к Америке. Американец вечно спешит и никогда не имеет времени. Вчера они перестали заниматься искусством, сегодня — любить, завтра им некогда будет думать. Эту роскошь они предоставят нам, если только железная чума не пожрет наши души».
Как сейчас сказано. Замените американца на жителя какого-нибудь российского мегаполиса покрупней, и тоже будет в точку.
По нынешним временам, это не очень либеральная точка зрения, не так ли ?
Совсем не по себе становится, когда в одной из его пьес лидеры европейских держав садятся за круглый стол и говорят о своих планах:
«Отделение от России латышей, литовцев, а может быть, и украинцев. Для украинцев как будто предусмотрена французская сфера влияния. <...> Наконец, самостоятельность Кавказа, подмандатная Средняя Азия — для управления на основе протектората. Все это требует свержения большевиков. Вот наша историческая миссия».
Мечтая о распаде России, лидеры европейских демократий так резюмируют желанье воевать против нее: «Да будет эта война последней в Европе. Мы этого, господа, хотим. Демократия хочет вечного мира».
Анатолий Борисович был непрост! При всем его антитоталитаризме, пустить его по линии «тайных диссидентов» и «мучеников совести» никак не получится.
В общем, нам хотелось бы заранее остеречь всех критиков Мариенгофа и его текстов хоть «слева», хоть «справа». Какая б не была ваша платформа, доказать обратное не составит труда.
Скажете, богохульник и антикреликал?
Согласимся: еще какой.
В «Бритом человеке» появляется архиерей, «грассирующий, как парижанка, и затянутый в рясу, будто в шелковый дамский чулок».
В театральной вещи «Уход и смерть Толстого» появляется старец Варсанофий, который прячется в дамской уборной, чтоб не пропустить смерть Льва Николаевича.
Начинал поэт Мариенгоф с того, что «...хилое тело Христа на дыбе...» вздыбливал в Чрезвычайке.
А потеряв сына он же сказал:
Друг мой, живу как во сне.
Не разговаривай строго
Вот бы поверить мне
В этого глупого Бога!
Но стоит ли, вопреки всему, говорить о нем и как о человеке, ведавшем о бытие Бога?
Да, опять — да.
Это он напишет о Христе-воителе и русской революции:
Чернь царственная, ты не внемлешь
Холодным доводам ума я
Тогда Христос,
Теперь
Московская чума
Очистит черной язвой землю.
Это он, пожилой уже человек, пишет жене о своем житье-бытье такие вещи: «Вскочил, как огурчик, в 6 часов, чтоб встретить Зойку. Она, стерва, опоздала минут на 15. Так что торжество было мое. Я с ней, как истый христианин, похристовался нашим оранжевым яичком, чем опять же посрамил эту ожидовевшую дворянку».
И это он же в самом начале своего пути, в тоске воскликнет, что «...от Бога / отрезаны мы, / как купоны от серии».
Можно ли тогда сказать, что Мариенгоф (как Пушкин, Блок, Есенин или Мандельштам) не един — а разломан и противоречит сам себе?
Нет, конечно.
Есть у него вещи удачные, и есть провальные, есть шедевры, и есть черт знает что... Однако словесная походка и дендистская повадка, своеобразная, на грани провокации, философия бытия и античный стоицизм — все это с первых слогов позволяет угадать: перед нами — он.
Цельный, как его трость. Ровный, как его пробор. Сияющий, как его цилиндр.
Вы имеете некоторые основания его ненавидеть. Мы имеем все основания им восхищаться.
Анатолий Борисович Мариенгоф.
М26 Собрание сочинений: В 3 т. Т. 1: Стихи; Драмы; Произведения для детей; Очерки; Статъи; Коллективное: манифесты и письма; Письма; Комментарии / Вступ, ст. 3. Прилепин. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. — 784 с., 32 с. ил.