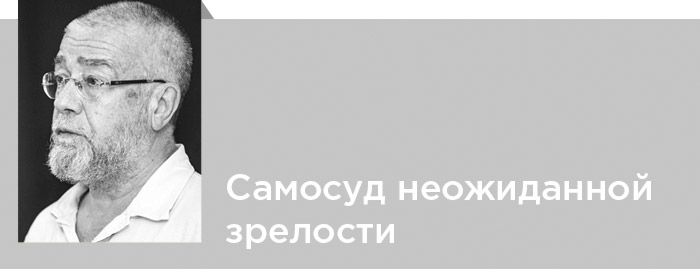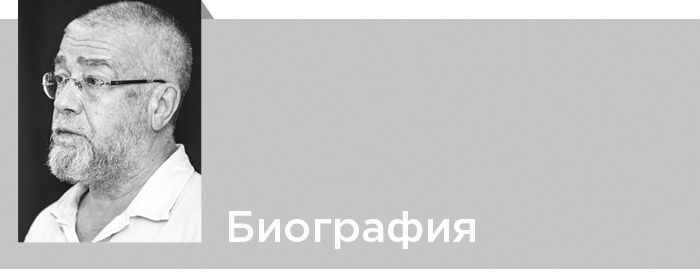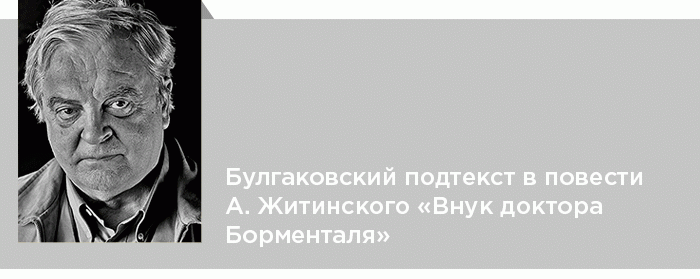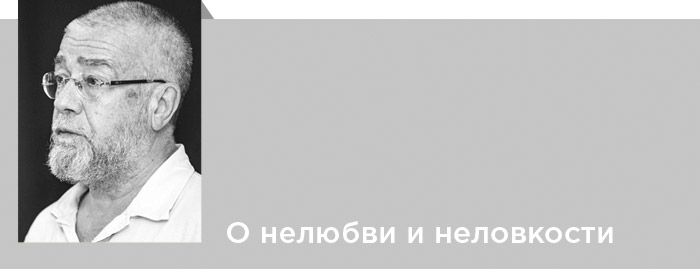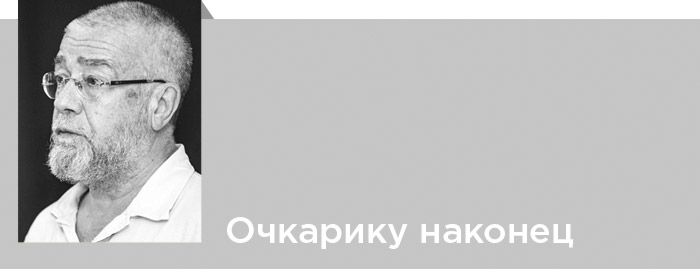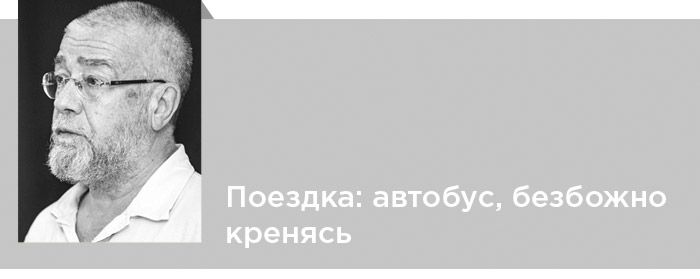Музыка с улицы Орджоникидзержинского. Сергея Гандлевского
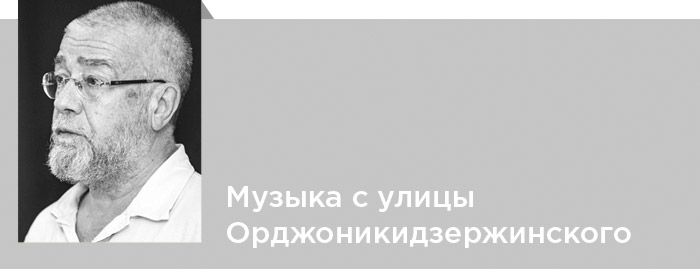
Артем Скворцов
Бухгалтерия и поэтический размах сочетались на замусоленных страницах в таких пропорциях, что вывести формулу этой скрупулезно вычисленной сумятицы взялся бы разве что беззаботный болван с ученой степенью.
Сергей Гандлевский “<НРЗБ>”
Сергей Гандлевский — один из немногих современных поэтов, чьи творчество и литературная стратегия вызывают интерес и уважение у читателей и авторов, отстаивающих разные художнические убеждения. В ситуации полного эстетического плюрализма и почти столь же полного отсутствия консолидирующих мнение аудитории фигур такое отношение к поэту — скорее исключение, чем правило.
Поэзия Гандлевского не обойдена вниманием критики1 , тогда как недостаток филологических работ, посвященных ему, ощущается все более явно. Последовательно к творчеству Гандлевского обращается едва ли не один А. Жолковский2 , в других же исследованиях имя поэта возникает спорадически3 .
Начало филологическим наблюдениям над стихами Гандлевского положил М. Безродный. Он выявил ряд существенных подтекстов стихотворения “Устроиться на автобазу…” и по ходу анализа, в частности, заметил: “Из авторов сборника “Личное дело” (М., 1991) недостаточно оценен С. Гандлевский, а между тем по разнообразию и оригинальности приемов “игры в классику” он, кажется, не знает себе равных <…> Клоунада и кричалки Пригова, цитатные фейерверки Кибирова и карточные фокусы Рубинштейна, конечно, много эффектнее. Вопрос, что раньше “вечности жерлом пожрется””4 . Если в момент опубликования этих слов они могли показаться броским “рекламным” заявлением, то спустя годы мнение М. Безродного воспринимается как первое в ряду аналогичных высказываний, смысл которых емко подытожил В. Кулаков: “…более “классического” поэта, чем Гандлевский, в нашей современной словесности, наверное, не сыскать. Если, скажем, Бродский — классицистичен, то Гандлевский именно классичен”5 .
В статье внимание обращено преимущественно на стихи автора и лишь в малой степени — на его эссеистику и прозу. Лирика Гандлевского — ключ ко всему его творчеству. Он поэт par exellence, его художественный мир ощутимо целен по своим образам, мотивам и темам. Все созданное им помимо стихов (эссеистика, пьеса “Чтение”, повесть “Трепанация черепа” и роман “<НРЗБ>”) направлено на объяснение и утверждение уже существующих и еще не написанных стихотворений.
Принципиальная установка работы — предлагать выводы общего характера наряду с привлечением широкого эмпирического материала. В разговоре о современном художнике внимание к части и частному может оказаться ничуть не менее важным, чем абстрактные представления о целом. Поэтому читателю предлагается не полемический или апологетический взгляд, а результат попытки аналитического истолкования поэтики конкретного автора. Общей задачей было осмысление состоявшегося художественного явления путем изучения верифицируемых данных6 . О том, как Гандлевский воспринимается читателями, критика писала много. О том, как устроен его поэтический мир, сказано пока явно недостаточно.
Стремясь проанализировать общие черты поэтики Сергея Гандлевского, следовало бы учитывать как их сугубо формальные аспекты, так и содержательные, сущностные. Что касается первых, то здесь уместен стиховедческий подход, когда изучается даже не столько “алгебра”, сколько “арифметика” гармонии: метрика, ритмика, строфика, графика, фоника, рифма и синтаксис. Это — предмет отдельного исследования. В статье внимание концентрируется на иных уровнях поэтики и особенностях художественной стратегии автора: индивидуальной фразеологии, лейтмотивах лирики, границах поэтического мира, образе лирического героя, подтекстах ряда произведений и социокультурном аспекте творчества. Частично об этом приходилось писать ранее7 , здесь же внимание обращается на проблемы малоизученные или вовсе не затрагиваемые прежде.
Гандлевский создал поэтику, соединяющую естественность художественного жеста с культурной рафинированностью. Внешняя “простота” его стиля — результат сокрытия сложности. Иногда и самому автору начинает казаться, что он вырвался из-под власти искусственности искусства, но для него это лишь кратковременная иллюзия: “…пишешь — думаешь, уникальное, а оказывается, работаешь в каноне”8 .
Сам поэт обозначил свой эстетический идеал как “критический сентиментализм”9 . По его мысли, это попытка преодолеть крайности паниронического и неумеренно пафосного стилей. Однако собственно сентиментальность в прямом значении слова, понимаемая как чувствительность и гемютность, проявляется у Гандлевского редко, он пестует драматически напряженную и одновременно сдержанную речь.
Результаты творческого возделывания культурного слоя в поэзии Гандлевского значительны. Но прежде чем говорить о том, что включено в границы его художественного мира, имеет смысл их очертить. Осознание того, что автор оставляет без внимания, также способствует лучшему постижению творческой индивидуальности.
Гандлевский индифферентен к мифологической атрибутике и — особенно — тематике. В его стихах практически полностью отсутствуют соответствующие аллюзии и реминисценции, если не считать редчайших случаев: иронического упоминания “Бхагаватгиты” (“Мое почтение. Есть в пасмурной отчизне…”), причем в толстом томе, подобно Манилову, лирический герой одолел только “четырнадцать страниц”; пародийного элегического дистиха “Ай да сирень в этом мае! Выпуклокрупные гроздья…”, где упоминается аллегорический Амур, хотя божок не назван по имени и перифрастически изображается как “голый дошкольник”; или единичного обращения к перевозчику через Стикс — при этом у Гандлевского мрачный мифологический персонаж смело русифицируется и тем самым отчасти “одомашнивается”, став “Хароном Паромычем” (“Раб, сын раба, я вырвался из уз…”), чем драпируется его трагическая аура.
Скупо представлены у Гандлевского и библейские образы и мотивы. Их больше, чем отсылок к античности, но в основном это либо лексика и фразеология, давно вошедшая в разговорный обиход, иногда почти междометная (“Ах ты, Господи Боже ты мой!”), либо библейские цитаты и аллюзии, обычно прочно связанные еще и с какой-то историко-культурной ассоциацией: “Как ангел, проклятый за сдержанность свою, / Как полдень в сентябре — ни холодно, ни жарко, / Таким я сделался, на том почти стою, / И радости не рад, и жалости не жалко” (“Как ангел, проклятый за сдержанность свою…”). Мотив из Откровения Иоанна Богослова органично соединяется со знаменитой максимой Мартина Лютера — “на том стою, и не могу иначе”. Автор здесь намеренно отступает от библейской традиции: ангел, строго говоря, был “проклят” вовсе не за “сдержанность”, скорее, за равнодушие: “14 И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: 15 Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! 16 Но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих” (Отк. 3, 14—16).
Едва ли не единственный “рудимент” традиционной мифопоэтической эмблематики, устойчивый в поэтике Гандлевского, — образ музы. Но и он по сравнению с каноном претерпел существенную трансформацию, о чем еще пойдет речь ниже.
Поэтическая идиоматика
Словоупотребление у Гандлевского оставляет ощущение благородной изысканности, хотя сама лексика редко выходит за пределы общераспространенной разговорной или традиционно литературной, восходящей к арсеналу поэтических формул конца ХVIII — начала ХIХ века. Механизм достижения автором эффекта лексико-фразеологической новизны довольно сложен.
Есть поэты, самый словарь которых отчетливо индивидуален. Таковы, например, В. Маяковский или Б. Пастернак. Достаточно привести два коротких ряда лексем — “пресволочнейшая”, “выкипячивая”, “изъиздеваюсь” в одном случае и “многогорбой”, “араукарий”, “тугоплавкость” в другом, чтобы любой читатель, знакомый с их стилем, безошибочно определил принадлежность этих слов лексикону того или другого автора. У Гандлевского дело обстоит иначе, подобных ярких словесных блесток из его поэтической ткани не надергаешь, постижение его поэтического материала требует кропотливого статистического анализа, где подспорьем послужил бы тезаурус языка поэта. По формулировке М. Гаспарова, подобный реестр — не что иное, как ““художественный мир” в переводе на язык филологической науки”10 .
Тезаурус, построенный на сходстве (чувства к чувствам, оружие к оружию и проч.), определяется как формальный. Тезаурус, который “группировал бы чувства <…> и оружие <…> по текстовым ситуациям <…> был бы тезаурусом, построенным на смежности — смежности самой различной степени, как в рамках фразы, так и в рамках целого произведения или группы произведений <…> можно назвать <…> тезаурусом функциональным”11 .
Ни формального, ни тем более функционального частотного словаря стихов Гандлевского пока нет. Это делает любые рассуждения на тему лексического состава его стихов приблизительными, а выводы — гипотетическими, но некоторые наблюдения имеет смысл изложить даже в отсутствие объективных данных.
Будущий составитель тезауруса поэта встанет перед трудной задачей: индивидуальны у автора не столько отдельные лексемы, которые сравнительно легко распределить по соответствующим рубрикам, и даже не идиомы, фразеологизмы, клише, сколько структуры более высокого порядка — способы синтеза стилистически различной лексики и устойчивых словосочетаний. Причем в отрыве от контекста они чаще всего необратимо теряют важные оттенки семантики или даже вложенный в них смысл вообще. И здесь исследователю сможет помочь уже не столько точный метод, сколько, скорее, инструментарий мотивного анализа.
Как замечено, “для истории и типологии поэтического языка наиболее значима поэтическая идиоматика <…> В принципе, в поэтическом языке всякое свободное сочетание может “идиоматизироваться” и начать восприниматься как примета стиля, жанра, школы или манеры конкретного автора”12 . С этой точки зрения особого внимания у Гандлевского заслуживают принципы взаимосуществования пластов традиционной поэтической фразеологии и современных сниженно-разговорных выражений.
Стилистический диапазон лексикона поэта включает в себя как “абсолютный верх” в разных вариантах — от библейских цитат и старославянизмов до возвышенно-романтических клише (“Храни меня, Господь”, “Под сводами последнего Суда”, “ангел мой”), так и “абсолютный низ”, в том числе обсценную лексику и блатную феню (“мешок дерьма”, “взлом мохнатого сейфа”, “старая б...”).
Если у автора изредка встречаются экзотические названия или языковые раритеты, то они всегда мотивированы контекстом и жестко привязаны к воссозданной ситуации, к сюжету или персонажу. Вообще Гандлевский ценит подробности, точность реалий и психологическую убедительность образов. Иногда эта тенденция проявляется открыто: при упоминании Эльбруса тотчас добавляется “а я там был” (право на произнесение красивого названия, неизбежно влекущего за собой альпинистско-романтические ассоциации, немедленно предъявлено, и экзотика оказывается лишенной возвышенного флера), а иногда конкретная отсылка бывает убрана в подтекст: “И курю в огороде на корточках, время теряю” (с помощью упоминания одной точной детали, изначально сугубо лагерной привычки курения на корточках, впоследствии ставшей общераспространенной, мгновенно воссоздается атмосфера позднесоветской эпохи, где даже повседневная жизнь граждан подспудно пропитана влиянием тяжелого прошлого).
Не считая атрибутируемых цитат и аллюзий (отверз… уста, рек… в сердце своем (Библия), веселие есть питие (Повесть временных лет), зеницы отверзаю, над златом чахнешь, кликов лебединых, очарованье очей (Пушкин), господин из Пиндемонти (Бунин плюс Пушкин), тусклый огнь (Тютчев плюс Набоков) и т.д.), Гандлевский охотно уснащает свою поэтическую речь хорошо известными, иногда даже избитыми образчиками высокого слога и соответствующей фразеологией: рок, лета, доблесть, юнец, отрок, дитя (в значении “юная девушка”), душемутительный, вольнодумец, жнец, гордец, херувим, поруганной, напасть, объемлет, пестовать, ужели, вчуже, хандра, безделка, безделица, длань, брань (в значении “ругань”), исчадье, мор и глад, своенравные лета, дивных странствий, небесного света, чудную дымку, питомец муз, вырвался из уз, на… бесконечном пиру, грозный пыл, скорбь тайную, существо небесное, предмет любви, ужасной клятвой, блажен, кто…, людского суда, не надрывай мне сердце, разбитое сердце и др.13 .
Взятый в отрыве от контекста, такой перечень выглядит уступкой общепоэтическим, особенно романтическим клише. Но в каждом конкретном стихотворении поэт разнообразно преодолевает лексически-образную заштампованность, синтезируя ее с лексикой и выражениями из иных семантико-стилистических рядов: “херувим на горшке” (о фото ребенка), “Трус, мор и глад — в Нью-Йорке. / А здесь последний свет погас — / Сопровский, я и “три семерки””, “ангел участковый”, “Разговор о Великом Авось” (вместо привычного торжественного “Может Быть”), “ангел, Аня, исчадие Польши” (в одной строке героиня характеризуется оксюморонными субстанциональными признаками, почти по аналогии с “ангел мой хранитель или коварный искуситель”), “Неряха, вундеркинд, гордец, / Исчадье книжной доблести и сплина” (о покойном друге, поэте А. Сопровском) и т.д.
Время от времени Гандлевский эффектно обыгрывает откровенно ювенильно-романтические, книжно-сказочные образы: “Я люблю беспрекословно / Все творения Твои. / Понимаю снег и иней, / Но понять не хватит сил, / Как ты музыкою синей / Этих троллей наделил!” (“Друзьям-поэтам”); “Так мы воспрянем из бессилья / И в ночь воинственной стеной / Нас вынесут упырьи крылья / Вальпургиевы за спиной” (“О, если б только не бояться…”);“…альбом колониальных марок в голубом налете пыли, шелковый шнурок…” (“Картина мира, милая уму…”). “Шнурок” и многоточие после него намекают на возможность эстетского суицида. Упоминание потенциального орудия самоубийства — отсылка к стихам А. Ахматовой: “…Мне не страшно. Я ношу на счастье / Темно-синий шелковый шнурок” (“Здесь все то же, то же, что и прежде…”).
Одно из ярких описаний алкогольных приключений изображается с привлечением лермонтовского персонажа, обретшего пушкинскую горячность: “Смиряя свистопляску рук, / Он выпил, скорчился — и вдруг / Над табором советской власти / Легко взмывает и летит, / Печальным демоном глядит / И алчет африканской страсти” (“Рабочий, медик ли, прораб ли…”). В другом стихотворении лирический герой утверждает, что не боится ничего, “разве только ленивых убийц в полумасках” (“Дай Бог памяти вспомнить работы мои…”) — в советском хронотопе начала восьмидесятых образ киношных киллеров смотрится экстравагантно. Наконец, зрелый герой вспоминает, как в ранней юности он мечтал предстать “Мерзавцем форменным в цилиндре и плаще” (“Ни сика, ни бура, ни сочинская пуля…”). Такие образы всегда подаются отстраненно-иронически, но постоянство, с которым возникают “сорняки” романтизма, заставляет сделать вывод, что игра с литературными штампами — важный и дорогой автору мотив.
Отдельного рассмотрения заслуживают лексемы, обретающие у Гандлевского индивидуальную семантическую окраску, — например, “праздник”, “трамвай”, “шум”. И первая среди них — “музыка”.
“Музыка” у поэта — один их тех немногих образов, что перешел к нему по наследству не столько от пушкинского времени, сколько от Серебряного века, причем в этом существительном отчетливо слышны символистские обертоны.
Образ музыки как квинтэссенции всего, что есть в поэзии лучшего, подлинного, суггестивного и в принципе непознаваемого, стал популярен у французских символистов, а позднее перекочевал к их русским последователям. Пратекст здесь — знаменитый манифест П. Верлена “Искусство поэзии”: “За музыкою только дело. / Итак, не размеряй пути. / Почти бесплотность предпочти / Всему, что слишком плоть и тело <…> Хребет риторике сверни. / О, если б в бунте против правил / Ты рифмам совести прибавил! / Не ты, — куда зайдут они?” и т.д. (перевод Б. Пастернака). “Противопоставление музыки красноречию после Верлена стало традиционным”, хотя “Art poйtique” “…демонстрирует те самые качества, которые поэт отвергает”14 .
В прозе Гандлевского, в романе “<НРЗБ>”, творчество, поэзия также прямо связаны с мотивом музыки — впрочем, для главного героя, Льва Криворотова, недостижимой: “С незажженной сигаретой в углу рта замер, пытаясь сберечь душемутительное обаяние сна, пока не выдохлось. Какая счастливая мука, как сладко поет внутри! Лучше всякой музыки, всяких стихов. Куда девается при пробуждении его сновидческий гений? Суметь бы наяву намарать что-нибудь подобное!”. Любопытно, что этот фрагмент романа, где персонаж пытается уловить наяву зыбкую музыку стиха, вероятнее всего, восходит не к кому-нибудь, а к Верлену: “Чуть ночь, я спать ложусь и, так как суть моя / В том, чтоб мечтать, — во сне я о стихах мечтаю, / Прекрасных, не таких, что наяву кропаю, / — О чистых, блещущих, как горный ключ, стихах, / Высоких, вдумчивых, без пустозвонства, — ах! / Чтоб в них прославил мир меня, совсем иного… / Но, пробудясь, из них не помню я ни слова!” (“Городской пейзаж”, перевод Г. Шенгели).
У высокой музыки есть и травестийный двойник — “музычка”, пошловато-инфернальный призрак подлинной гармонии: “Играет музычка, мигает лампочка, / И ну буфетчица зевать, / Что самое-де время лавочку / Прикрыть и бабки подбивать” (“Цыганка ввалится, мотая юбкою…”). Сюда же можно отнести и дискредитированную для многих горьковско-ленинским отзывом “Аппассионату” Бетховена: “И умолкнут над промышленной рекой / Звуки музыки нечеловеческой” (“Мама чашки убирает со стола…”). Оба этих стихотворения действительно отталкиваются от музыкально-песенной основы, причем от улично-фольклорной — “Цыпленок жареный, цыпленок пареный…” и “Камаринская”. Кроме того, первое стихотворение ритмически близко к хиту Б. Окуджавы 1950-х — “Из окон корочкой несет поджаристой…”, поскольку оно также восходит к “Цыпленку…”.
Примыкает к двум последним случаям и “окуджававская пластинка” с улицы Орджоникидзержинского. Это амбивалентный образ — не совсем та музыка, какую хотелось бы услышать лирическому герою, но уж какая есть, все же лучше, чем ничего, а “угрюмые дяди и глупые тети” иного не заслужили. Автор словно констатирует: у меня для вас/нас другой музыки нет.
Навязчивая, негармоничная, прерванная музыка, тихие звуки, шорох и шепот, звуки, сходящие на нет, и, наконец, полное отсутствие всякого живого звука ассоциируются в стихах поэта с тревогой или даже потусторонним ужасом: “…действие без звука. / Мой тяжкий сон, откуда эта мука?” (“Сегодня дважды в ночь я видел сон…”); “Для чего, моя музыка зыбкая, / Объясни мне, когда я умру, / Ты сидела с недоброй улыбкою / На одном бесконечном пиру…” (“Самосуд неожиданной зрелости…”); “Присядет и она, не проронив ни звука. / Отцы, учители, вот это — ад и есть!” (“Все громко тикает. Под спичечные марши…” — здесь обыгрывается цитата из “Братьев Карамазовых”: “Отцы и учители, мыслю: “Что есть ад?” Рассуждаю так: “Страдание о том, что нельзя уже больше любить””).
Напротив, “шум”, обилие звуков всегда связаны с жизнью и преодолением дисгармонии, пусть и на мгновение: “Детство в марте. Союз воробья и вербы. / Бедное мужество музыки. Старческий гам” (“Давным-давно забрели мы на праздник смерти…”) — здесь музыка перекрывает стандартность сексуальных подростковых переживаний и выводит героя на иной виток восприятия бытия; “Апреля цирковая музыка — / Трамваи, саксофон, вороны — / Накроет кладбище Миусское / Запанибрата с похоронной” (“Элегия”); “Нарастает стук колес и душа идет в разнос. / На вокзале марш играют — слепнет музыка от слез” (“На смерть И.Б.”) — горечь постижения смертности или национальной трагедии перекрывается музыкой жизни; “Растроганно прислушиваться к лаю, / Чириканью и кваканью, когда / В саду горит прекрасная звезда, / Названия которой я не знаю” (“Растроганно прислушиваться к лаю…”); “Был месяц май, и ливень бил по жести / Карнизов и железу гаражей. / Нет, жизнь прекрасна, что ни говорите” (“Мне тридцать, а тебе семнадцать лет…” — здесь возможна отсылка к “Верблюду” Тарковского: “А все-таки, жизнь хороша, / И мы в ней чего-нибудь стоим”).
Мажорное восприятие музыки более характерно для раннего Гандлевского. Только в семидесятые годы он мог завершить стихотворение утвердительной формулой, снимающей мотив важности личной трагедии: “А если кто и выронит смычок, / То музыка сама себе ответит” (“Декабрь 1977”).
Выразительный пример восприятия музыки как спасительной стихии, синонимичной поэзии, дает стихотворение, уже в первой строке которого заветное существительное то ли сознательно, то ли нет, представлено анаграмматически: “Опасен майский укус гюрзы…”. Путешествуя в одиночку по среднеазиатской пустыне, лирический герой заплутал и мог бы вообще погибнуть, но Господь послал ему попутчика, благодаря которому он вышел к железной дороге. Попутчик оказался уголовником, при первой же возможности укравшим у героя френч и сгинувшим в ночи. В момент, когда это случилось, герой видит сон: “Этой ночью снилось мне всего / Понемногу: золото в устье ручья, / Простое базарное волшебство — / Слабая дудочка и змея”.
Сон и есть ключ к разгадке смысла поэтической притчи. Во-первых, золото в устье ручья, самородок — это золото поэзии, возникающее само по себе. Во-вторых, как смертельно опасную кобру гипнотизируют сладостные звуки слабой дудочки, так и герой избегает самого страшного, впечатлив урку просто-напросто фактом своего существования. Уголовник не тронул героя по одной простой причине: тот — поэт. Почувствовав его особую ауру, опасный сосед всего лишь утащил его одежду, а не сделал чего похуже. Искусство нейтрализует зло.
Итак, несмотря на употребление в стихах практически всех стилистических слоев языка от абсолютного верха до абсолютного низа, автор стремится не к их бурлескному, контрастному столкновению, а к прямо противоположному эффекту — внешне гармоническому стилю, исполненному при этом скрытого драматизма, во многом создаваемому именно за счет диффузии стилистически разнородных элементов.
Связь с поэзией советского периода
и с поэзией современников
Гандлевский неоднократно утверждал, что советская поэзия, включая опыт поколения шестидесятников, прошла мимо него как читателя15 , что “объективно — “советскими” писателями на поверку эстетикой окажутся многие субъективно порядочные и далеко не бесталантные люди <…> Я их не сужу — я не был на их месте и в их шкуре <…> Но с точки зрения искусства они ломились в открытые двери”16 , и что сам он пишет “в расчете на мастеров прошлого <…> бывает, что смотришь на собственное стихотворение глазами Баратынского или Ходасевича, спрашиваешь с надеждой: вам понравилось?”17 .
Его собственное творчество — наиболее убедительное подтверждение последнему высказыванию, но все же изолированность Гандлевского от советской поэзии не стоит преувеличивать. Конечно, вписанным в советский контекст автором в 1970—1980-е он не был и к тому совсем не стремился: “Советскую поэзию я <…> просто не знал. Если и была жесткая этическая установка — это такое пренебрежительное отношение ко всей советской поэзии”18 . Но отголоски поэзии советского периода в его стихах есть.
Гандлевский не принадлежит к художникам, творящим в историческом вакууме, и как в его стихах встречаются точные предметные и ментальные реалии времени, так же естественно в них включаются и различные приметы недавнего прошлого. Важность связи настоящего поэта с современностью исчерпывающе описал В. Ходасевич: “Отражение эпохи не есть задача поэзии, но жив только тот поэт, который дышит воздухом своего века, слышит музыку своего времени. Пусть эта музыка не отвечает его понятиям о гармонии, пусть она даже ему отвратительна — его слух должен быть ею заполнен, как легкие воздухом. Таков закон поэтической биологии”19 .
Так или иначе, у Гандлевского есть ссылки на ряд авторов, которых с разной степенью определенности можно считать советскими. Практически все подобные намеки выдержаны в дистанцированно-ироническом ключе.
Скрыто или прямо упоминаются в стихах Б. Слуцкий, К. Симонов, а из прозаиков — В. Катаев: “Сдается мне, я старюсь. Попугаев / И без меня хватает. Стыдно мне / Мусолить малолетство, пусть Катаев / Засахаренный, в старческой слюне / Сюсюкает…” (“Давным-давно мы забрели на праздник смерти…” — здесь очевидна и аллюзия на “Бориса Годунова”); “Хватишь лишку и Симонову в унисон / Знай бубнишь помаленьку: “Ты помнишь, Алеша?”” (“Дай Бог памяти вспомнить работы мои…”). А прозаичные “часовые строительного управленья” из последнего стихотворения — ответ возвышенным “часовым любви” Б. Окуджавы.
В стихотворении “На смерть И.Б.” упоминается слог Слуцкого: “Мы “андроповки” берем, что-то первая колом — / Комом в горле, Слуцким слогом, да частушечным стихом”. Стиль Слуцкого принято считать намеренно шершавым, что неоднократно подчеркивал и он сам. Ироническое и, казалось бы, не идущее здесь к делу поминание поэта-фронтовика подготавливает появление образов, связанных с Великой Отечественной.
Но в значительной мере аллюзии на советских авторов связаны не столько с литературным, сколько с общеизвестным песенным фондом. Вовсе необязательно было читать, например, Л. Ошанина или В. Лебедева-Кумача, но вольно или невольно знанием их текстов обладал едва ли не каждый гражданин СССР.
Есть отголоски советской песенной традиции и у Гандлевского. В стихотворении ““Расцветали яблони и груши…”” подразумеваются сразу двое песенников — М. Исаковский и А. Фатьянов: “Под сиренью в тихий час заката / Бьют, срывая голос, соловьи. / Капает по капельке зарплата, / Денежки дурацкие мои”. Ср.: “Я хожу в хороший час заката / У тесовых новеньких ворот, / Может, к нам сюда знакомого солдата / Ветерок попутный занесет?” (А. Фатьянов, “Где же вы теперь, друзья-однополчане?”). Кроме того, у Фатьянова имеются и одни из самых популярных соловьев в русской поэзии: “Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, / Пусть солдаты немного поспят…” (“Соловьи”). Параллель с Фатьяновым поддерживается и тем, что у Гандлевского стихотворение начинается с прямой закавыченной цитаты из другой знаменитой довоенной песни — “Катюши” Исаковского: ““Расцветали яблони и груши”, — / Звонко пела в кухне Линда Браун. / Я хлебал портвейн, развесив уши. / Это время было бравым”.
Густая пародийная цитатность из советской поэзии, столь важная для некоторых авторов из поколения Гандлевского, ему самому несвойственна, но единичные примеры подобного встречаются. Так, раннее стихотворение “Цыганскому зуду покорны…” — своеобразный “антипатриотический” ответ на шлягер М. Исаковского: “Цыганскому зуду покорны, / Набьем барахлом чемодан, / Однажды сойдем на платформы / Чужих оглушительных стран <...> Под старость с баулом туристским / Заеду — тряхну стариной — / С лицом безупречно австрийским, / С турецкой, быть может, женой”. Ср.: “Летят перелетные птицы / В осенней дали голубой, / Летят они в жаркие страны, / А я остаюся с тобой, / А я остаюся с тобою, / Родная навеки страна! / Не нужен мне берег турецкий, / И Африка мне не нужна” (М. Исаковский, “Летят перелетные птицы”).
Жена малоазиатского происхождения взялась в позднейшем тексте с турецкого берега предшественника, за безупречно австрийское лицо фонически несет ответственность жаркая Африка, и по той же логике паронимических ассоциаций “берег турецкий” вынудил героя Гандлевского посетить некогда покинутые им края “с баулом туристским”.
Есть у Гандлевского и пример прямого “переписывания” стихотворения советского автора, когда первоисточник очищается от “лирической воды”, избыточности, амплификации, и его сентиментальный лейтмотив аранжируется иным контекстом, словно оправдывающим утешительную интонацию, хотя и остается в основе своей неизменным: “Ты не плачь, не плачь, не плачь. Не надо. / Это только музыка! Не плачь. / Это всего-навсего соната. / Плачут же от бед, от неудач. / Сядем на скамейку. / Синевато / Небо у ботинок под ледком. / Это всего-навсего соната — / Черный рупор в парке городском. / Каплет с крыши дровяного склада. / Развезло. Гуляет черный грач… / Это всего-навсего соната! / Я прошу: не плачь, не плачь, не плачь” (Е. Винокуров, “Не плачь”). Ср.: “Скрипка-невеличка, а рояль огромный, / Но еще огромней тот орган загробный. / Глупо огорчаться, это лишь такая / Выдумка, забава, музыка простая <...> Полно убиваться, есть такое мненье, / Будто эти страсти, грусти, треволненья — / Выдумка, причуда, простенькая полька / Для начальной школы, музыка — и только” (“Ливень лил в Батуми. Лужи были выше…”). Симптоматично, что, видимо, ощущая советскую “пуповину” сочинения, сам автор впоследствии в повести “Трепанация черепа” назвал свое детище “слабым слюнявым стишком”20 .
Для полноты картины следует по контрасту привести пример аллюзии на автора, начинавшего в правильно-советском духе и завершившего свою жизнь сугубым антисоветчиком, возможно, наиболее яростным и последовательным из поэтов второй половины ХХ века, — А. Галича: “Кострома ли, Великие Луки — / Но в застолье в чести Воркута” (“Что-нибудь о тюрьме и разлуке…”); “С детьми играют в города — / Чита, Сучан, Караганда” (“Вот наша улица, допустим…”). Поминаемые здесь названия плохо вяжутся с правилами игры в города, но зато спаяны железной логикой лагерных ассоциаций. Кроме того, они неоднократно упоминались в наиболее острых песнях барда: “Не солдатами — номерами / Помирали мы, помирали. / От Караганды по Нарым — Вся земля как сплошной нарыв! / Воркута, Инта, Магадан! / Кто вам жребий тот нагадал?!” (“Песня о синей птице”); “Сколько раз на меня стучали, / И дивились, что я на воле… / Ну, а если б я гнил в Сучане, / Вам бы легче дышалось, что ли?” (“Черновик эпитафии”). Галич — автор из актуального литбагажа Гандлевского, уважение и любовь к нему он выразил в эссе “Двадцать лет спустя”.
Популярные в советское время русские песни, особенно “о тюрьме и разлуке”, также вплелись в канву поэзии Гандлевского. В стихотворении “Когда волнуется желтеющее пиво…”, насыщенном аллюзиями из классиков (Лермонтов, Козьма Прутков, Набоков, Ахматова, Тарковский, Мандельштам), скромно затесался и “Вечерний звон” Т. Мура, с легкой руки И. Козлова ставший поистине народным: “Того гляди, сгребут, оденут в мешковину, / Обреют наголо, палач расправит плеть. / Уже не я — другой — взойдет на седловину / Айлара, чтобы вниз до одури смотреть”. Ср.: “Лежать и мне в земле сырой! / Напев унылый надо мной / В долине ветер разнесет; / Другой певец по ней пройдет, / И уж не я, а будет он / В раздумье петь вечерний звон!”. В. Кулаков видит здесь отголоски влияния “лермонтовской кавказской экзотики”21 , и такое предположение не противоречит ни тексту, ни подтексту (стихотворение начинается с обыгрывания мотивов Лермонтова-Ламартина22 ), но все же прямая отсылка осуществлена именно к Козлову-Муру.
Помимо названных имен Гандлевский ссылается и на поэтов, к нормативизму советскости отношения не имеющих, но в той или иной степени присутствовавших в подцензурной литературе — А. Тарковского, Б. Окуджаву, Д. Самойлова, Ю. Мориц, О. Чухонцева, а также на авторов андеграунда и эмиграции — Л. Лосева, А. Цветкова, Б. Кенжеева. Особенно значимы связи его поэзии с Тарковским и Чухонцевым.
В эссе “Мэтр”, посвященном А.Тарковскому, поэт писал: “Наш товарищеский круг, за исключением Алексея Цветкова, любил Тарковского. А я тем более: хитросплетение моей жизни связало в то время воедино сильную неразделенную любовь и его стихи”23 . Такое признание автора дорогого стоит: он вообще крайне неохотно указывает на свои литературные пристрастия.
Внимательное прочтение Тарковского более или менее явственно отзывается в разных стихах его младшего современника: “Это праздник. Розы в ванной <…> Праздник. Все на свете праздник — / Черный, красный, голубой”. Здесь “окликнуты” сразу два стихотворения Тарковского: “Хорош ли праздник мой, малиновый иль серый, / Но все мне кажется, что розы на окне…” (“25 июня 1935 года”) и “Оперенный рифмой парной, / Кончен подвиг календарный, — / Добрый путь тебе, прощай! / Здравствуй, праздник гонорарный, / Черный белый каравай!” (“Поэт”). Разумеется, более явные, но менее значимые аллюзии здесь — на детские стихи, имитирующие принцип считалок — например, “Мяч” С. Маршака, “Пузыри” Е. Благининой или “Воздушные шары” Э. Успенского.
Но, пожалуй, наиболее интересный и важный случай опоры на поэтику Тарковского — пример ориентации целого стихотворения на текст-предшественник. “Опасен майский укус гюрзы…” имеет ряд точек соприкосновения с “Затмением солнца, 1914”. Это и общая притчевость сюжета, и мотив встречи лирического героя со странным человеком, обладающим тревожной аурой (уголовника в одном случае и дезертира в другом). Краткое общение с ним неожиданно приводит героя к катарсическому состоянию и желанию воздать благодарность бытию в форме признания необычайной долготы жизни — она вбирает в себя так много событий и впечатлений, что кажется значительно длиннее реального земного срока: “Так вдвоем и ехали по пескам. / Хорошо так ехать. Да на беду / Ночью он ушел, прихватив мой френч, / В товарняк порожний сел на ходу, / Товарняк отправился на Ургенч. / Этой ночью снилось мне всего / Понемногу:золото в устье ручья, / Простое базарное волшебство — / Слабая дудочка и змея. / Лег я навзничь. Больше не мог уснуть. / Много все-таки жизни досталось мне. / “Темирбаев, платформы на пятый путь”, / Прокатилось и замерло в тишине”. Ср.: “В то лето народное горе / Надело железную цепь, / И тлела по самое море / Сухая и пыльная степь <…> А утром в село на задворки / Пришел дезертир босиком, / В белесой своей гимнастерке, / С голодным и темным лицом. / И, словно из церкви икона, / Смотрел он, как шел на ущерб / По ржавому дну небосклона / Алмазный сверкающий серп <…> Истало темно. И в молчанье, / Зеленом, глубоком как сон, / Ушел он и мне на прощанье / Оставил ружейный патрон. / Но сразу, по первой примете, / Узнать ослепительный свет... / Как много я прожил на свете! / Столетие! Тысячу лет!”.
Даже самый потаенный, почти сакральный образ стихотворения Гандлевского — “золото в устье ручья” — отклик на “алмазный сверкающий серп” со “ржавого дна небосклона” Тарковского.
О единократном упоминании Окуджавы в стихотворении “Вот наша улица, допустим…” речь уже шла. Есть еще одна параллель:“Когда задаром — тем и дорого — / С экзальтированным протестом / Трубит саксофонист из города / Неаполя. Видать, проездом” (“Элегия”).Ср.: “Заезжий музыкант целуется с трубою, / пассажи по утрам, так просто, ни о чем…” (Б. Окуджава, “Заезжий музыкант целуется с трубою…”). Здесь важно и то, что пронзительный звук духового инструмента связан в поэзии Гандлевского с отчетливыми апокалиптическими ассоциациями: “Нас смоет с полотняного экрана. / Динамики продует медный вой. / И лопнет высоко над головой / Пифагорейский воздух восьмигранный” (“Сегодня дважды в ночь я видел сон…”, см. также “Поездка: автобус, безбожно кренясь…”).
А. Цветков, говоря о парадоксальном сравнении Гандлевского с Окуджавой, отмечает: “Гандлевский пересекся с Окуджавой в одной точке, исключительно важной для всего культурного вектора России в прошлом веке <…> Окуджава, более чем кто бы то ни было, воспитал поколение шестидесятых, людей, полагавших, что если зажмуриться, то все, в сущности, красиво. Гандлевский отдал команду, распустившую это поколение, хотя они тогда не услышали”24 .
В самом деле, упоминание поэтического мира Окуджавы внутри художественного универсума Гандлевского — ироничное и безвозвратное расставание с идеалами шестидесятников, то есть прощание с теми представлениями о мире, о стране, о себе и об искусстве, которые кажутся иллюзиями следующему за Окуджавой культурному поколению.
В поколении Гандлевского многие привыкли относиться к Д. Самойлову, поэту “поздней пушкинской плеяды”, так, как это зафиксировал В. Куллэ, отнюдь не разделяющий приводимую точку зрения: “Самойлов неактуален, и вообще это довольно посредственный советский стихотворец…”25 . Еще более выразительно признание О. Юрьева, содержащееся в глубоком эссе о Бродском, где речь идет о взаимоотношениях таланта и ума: “Великими называются стихи, которые ощущаются великими, великий же поэт — тот, кто их написал, вне зависимости от обстоятельств и личностей. В этом смысле Александр Ривин с его двумя с половиной стихотворениями равен Гомеру. А автор “Сороковых-роковых” — Лермонтову, как в этом ни прискорбно признаться”26 . Такое утверждение Самойлова великим, но с оговоркой, что признаваться в подобном “прискорбно”, само по себе многое сообщает о структуре современной литературной иерархии у авторов разных генераций.
Как бы то ни было, переклички с Самойловым у Гандлевского несомненны. Одна из них уже отмечалась27 : “Но стихи не орудие мести, / А серебряной чести родник”. Ср.: “А слово — не орудье мести! Нет! / И, может, даже не бальзам на раны. / Оно подтачивает корень драмы, / Разоблачает скрытый в ней сюжет” (Д. Самойлов, “А слово — не орудье мести! Нет!..”).
Имеется, как минимум, еще одно примечательное совпадение: “Растроганно прислушиваться к лаю, / Чириканью и кваканью, когда / В саду горит прекрасная звезда, / Названия которой я не знаю” (“Растроганно прислушиваться к лаю…”). Ср.: “Зима. Среди светил вселенной / Звезда, как камень драгоценный. / Я звездной карты не знаток, / Не знаю, кто она такая. / Против меня передовая / Глядит на северо-восток” (Д. Самойлов, “Звезда”).
Эти связующие нити между стихами Гандлевского и поэзией старших современников заставляют подвергнуть сомнению его тезис о незнакомстве с авторами советского периода. Подобные признания свидетельствуют скорее о следовании определенным правилам игры, принятым в андеграундной среде, для которой ничего советского не существовало, а интерес к нему воспринимался как моветон. Примеры неочевидной работы поэта с советской традицией отчетливей обозначают его индивидуальную систему запретов и добровольную ориентацию на шкалу оценок своего круга, важную для автора и после устранения барьера официоз/андеграунд.
Текстуальные и тематические переклички Гандлевского со стихами О. Чухонцева — отдельная интересная тема. Определенное сходство их поэтик впервые было отмечено Г. Кружковым28 , но еще В. Куллэ привел характерный пример образного совпадения29 — “Одиночество свищет в кулак” у Чухонцева (“Послевоенная баллада”) и “Расстояния свищут в кулак” у Гандлевского (“Что-нибудь о тюрьме и разлуке…”). Параллелей существует значительно больше. Обозначим здесь еще некоторые.
Стихотворение Гандлевского “Сегодня дважды в ночь я видел сон…” тематически представляет собой развернутую вариацию на двенадцать строк В. Ходасевича “Все жду, кого-нибудь задавит…”, но есть и некоторые текстуальные параллели со стихотворением Луиса Симпсона “Я видел себя в городе безлюдном” в переводе О. Чухонцева30 . С последним его связывают также мотив видения-сна и размер — белый пятистопный ямб, который Гандлевский затем переводит в рифмованный.
Едва ли не самый примечательный случай скрытой ссылки на сочинение Чухонцева — стихотворение С. Гандлевского “Косых Семен. В запое с Первомая…”. Его финал восходит к финальному фрагменту поэмы Чухонцева “Однофамилец”: “Вот вам герой — в пустой витрине. / Вот — факт. Куда ни заведет / рассказ, где за героем следом / влетит и автор в анекдот / за сходство, так сказать, с портретом. / А все четырехстопный ямб, / к тому же с рифмой перекрестной / а-б-а-б — и хром, и слаб, / такой, как утверждают, косный, / а нам как раз, но если нас / издевкой и зацепят едкой, / что ж, не обрамить ли рассказ / пушкинианскою виньеткой? / Хоть так: за праздничный разбой / муж на год осужден, условно, / о чем жена, само собой, / жена жалеет безусловно. / Что до другого и других, / то все осталось как и было, / волна прошла — и омут тих…”. Ср. у Гандлевского: “И — высказался я. Но тем упрямей / Склоняют своенравные лета / К поруганной игре воображенья, / К завещанной насмешке над толпой, / К поэзии, прости за выраженье, / Прочь от суровой прозы. / Но, тупой, / От опыта паду доанекдота. / Ну, скажем так: окончена работа, / Супруг супруге накупил обнов, / Врывается в квартиру, смотрит в оба, / Распахивает дверцы гардероба, / А там — Никулин, Вицин, Моргунов”.
Сходства двух отрывков следующие: иронические отсылки к Пушкину и декларируемый отказ от пафоса; мотив “анекдота”, что также ассоциативно отсылает к Пушкину (“Домик в Коломне”); переход к издевательскому краткому пересказу истории — “Хоть так” у Чухонцева и “Ну, скажем так” у Гандлевского; упоминание героя-мужа и “жены” у Чухонцева, “супруга и супруги” у Гандлевского; мотив супружеской неверности, поданный открыто иронически у обоих; кроме того, в целом для этих произведений одним из ключевых оказывается общий мотив пьянства, причем чухонцевский герой — “косой” Семенов — пьет с седьмого ноября, а Косых Семен Гандлевского“в запое с Первомая” — в текстах фигурируют два основных советских праздника; наконец, существует и фоническое сходство фамилии “Косых” и эпитета “косный” у Чухонцева.
Чухонцев близок Гандлевскому, в первую очередь, сходным для обоих поэтов глубоким интересом к прозаизации стиха — как бы ни понимать это выражение. Наиболее любопытными случаями прозаизации можно считать те, где “проза” входит в качестве неотъемлемого ингредиента в “поэзию”, растворяясь в ней и ее обогащая — именно такое явление позволяет установить типологические связи между Чухонцевым и Гандлевским.
Если говорить упрощенно и сжато, оба поэта принадлежат постпушкинской традиции, и для них понятие “проза” в стихах уже не есть “презренный бытовой сор, недостойный стать предметом поэзии”. Более того, в определенной степени для ряда авторов она даже в чем-то предпочтительней слишком возвышенной, архаичной и пафосной “поэзии”. И во многих случаях явно не следует толковать это существительное как формальную оппозицию “стиху”. Контекстуально оно может прочитываться различно: “приметы реальной жизни, ценные сами по себе, точно увиденные и переданные подробности существования” с одной стороны и “драгоценные признаки стабильности и уюта в окружении враждебного мира” — с другой, и “зрелость, трезвый, взрослый взгляд на жизнь без иллюзий и максималистского разочарования” — с третьей, — иногда даже “безжалостно трезвый”. Это душевный опыт, приобретаемый по мере роста поэта и ничуть не отвергающий поэтичность как таковую.
Классическая традиция
Тема влияния Пушкина на Гандлевского настолько обширна, что в рамках общей статьи целиком охватить ее невозможно. Здесь имеет смысл ограничиться краткими соображениями, тем более, что имя солнца русской поэзии в разговоре о творчестве Гандлевского так или иначе упоминалось и еще не раз возникнет.
Пушкин в понимании Гандлевского — недосягаемый образец для современного русского поэта. Он не просто первый — он единственный. Пишущим после него в определенном смысле повезло: “…Пушкин избавил всех, идущих за ним, от республиканских искушений и иллюзий. Тем бескорыстнее поприще русской поэзии, что на нем всегда состязались люди, заведомо обреченные на непризовые места, потому что главная победа уже была одержана”31 .
Говоря об отношении Гандлевского к Пушкину, нельзя не упомянуть существенный факт: в немецком переводе романа “<НРЗБ>” его название выглядит как “Warten auf Puschkin” — “В ожидании Пушкина”.
Поиск “пушкинского следа” в “<НРЗБ>” требует отдельного исследования. Исключительно важный в романе мотив непонимания женщинами сути поэзии с одновременным врожденным “лирическим чутьем” к реальности тоже есть развитие соответствующей идеи Пушкина: “Очень по-женски лишенная всякого чутья и вкуса к поэзии, Аня была поэтически зряча в живой жизни”32 . Ср. у классика: “Природа, одарив их (женщин. — А.С.) тонким умом и чувствительностию самой раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не досягая души; они бесчувственны к ее гармонии; примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстроивают меру, уничтожают рифму. Вслушивайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия… Исключения редки”33 .
Что касается пушкинских аллюзий в стихах Гандлевского, то приведем здесь лишь три выразительных примера из десятков существующих.
Одна из наиболее лестных — и редких! — автохарактеристик лирического героя Гандлевского (правда, данная якобы от третьего лица) восходит к пушкинскому отзыву об известном эпизоде “Сентиментального путешествия” Л. Стерна: “Стерн говорит, что живейшее из наших наслаждений кончится содроганием почти болезненным. Несносный наблюдатель! знал бы про себя; многие того не заметили б”34 . Ср.: “Бог в помощь всем. Но мой физкультпривет писателю. Писатель (он поэт), несносных наблюдений виртуоз, сквозь окна видит бледный лес берез, вникая в смысл житейских передряг, причуд, коллизий. Вроде бы пустяк по имени хандра, и во врачах нет надобности, но и в мелочах видна утечка жизни. Невзначай он адрес свой забудет или чай на рукопись прольет, то вообще купает галстук бархатный в борще. Смех да и только” (“Картина мира, милая уму…”). Характеристика героя намеренно неоднозначна: апелляция к Пушкину и Стерну возводит его в один ранг с классиками, но в то же время он оказывается по-житейски беспомощным и, таким образом, высокое звание поэта уравновешивается его неподготовленностью к прозаическим нуждам низкой жизни.
Во втором случае (в “Стансах”) хрестоматийный пушкинский образ возникает в еще более неожиданном контексте:“Об пол злостью, как тростью, ударь, шельмовства не тая, / Испитой шарлатан с неизменною шаткой треногой…” (немаловажна и отсылка к “Под землею” Ходасевича: “И злость, и скорбь моя кипит, / И трость моя в чужой гранит / Неумолкаемо стучит”).
Причем здесь тренога, и что вообще имеется в виду? Образ двусмыслен: его можно воспринимать и в приземленном значении “приспособление для фиксирования некого предмета в нужном положении, используемое преимущественно профессионалами”, и — контекстуально — в старом поэтичном: “треножник”, отвлеченный эмблематический образ высокого искусства, жертвенного огня поэзии. “Шаткая тренога” — это перевод на язык современной презренной прозы пушкинского и ходасевичевского, то есть обобщенно классического “колеблемого треножника”.
Есть у Гандлевского и пример скрещенных аллюзий на Пушкина и Боратынского — “На смерть И.Б.”. Ведущим мотивом обращения к покойной возлюбленной или женщине, вернуться к которой невозможно, стихотворение ориентировано на классические первоисточники: “Напрасно чувство возбуждал я: / Из равнодушных уст я слышал смерти весть, / И равнодушно ей внимал я” (А. Пушкин, “Под небом голубым страны своей родной…”); “Напрасно я себе на память приводил / И милый образ твой, и прежние мечтанья: / Безжизненны мои воспоминанья...” (Е. Боратынский, “Притворной нежности не требуй от меня…”).
В своей новейшей элегии Гандлевский скрыто полемизирует с классическими, каковые, в свою очередь, сами находятся одна с другой в сложных отношениях притяжения-отталкивания35 . Ситуация, аналогичная воссозданной в стихотворении, имеет место в романе “<НРЗБ>”: ““Из равнодушных уст я слышал смерти весть…”, но внимал ей не равнодушно, нет. <…> Стало быть, умерла. Пренебрегала мною при жизни, умерла сама по себе — какое бешенство, тоска, пустота”. Ср.: “Не ослышался — мертва. Пошла кругом голова. / Не любила меня отроду, но ты была жива”.
Присутствие Боратынского у Гандлевского менее отчетливо, чем пушкинское. Оно проявляется как на формальном, так и на смысловом уровнях. Боратынский единожды прямо упоминается у Гандлевского в контексте, где соединены фамилии трех выдающихся поэтов ХIХ века: “Боратынский, Вяземский, Фет и проч. / И валяй, цитируй, когда не лень. / Смерть, — одни утверждают, сплошная ночь, / А другие божатся, что юрьев день” (“Боратынский, Вяземский, Фет и проч. ...”).
У всех трех названных авторов действительно есть стихи, в которых отстаиваются точки зрения на смерть как на освобождение vs. небытие (см., например, “Смерть” Боратынского, “Смерть жатву жизни косит, косит…”, “Нет, нет, я не хочу и вовсе мне не льстит…”, “Из собрания стихотворений “Хандра с проблесками”” Вяземского, “А.Л. Бржеской”, “Смерть”, “Смерти”, “Никогда”, “Жизнь пронеслась без явного следа…” Фета).
Однако наиболее существенно Боратынский повлиял на Гандлевского своим способом изображения диалектики чувств. Метод поэтического анализа душевных движений Боратынского И. Семенко назвала “дифференцирующим”. У Гандлевского также важную роль играют уточнение впечатлений и эмоций и различение понятий. Говоря о духовной основе поэзии Боратынского, Семенко отмечала: “Проповедь Баратынского — это проповедь сомнения; у него “откровенья” — “откровенья” преисподней; его незримый — должен оправдаться перед “сердцем и умом” людей <...> Но именно в этом и заключалась сила его духа, именно это наложило печать бесстрашия на поэзию Баратынского, сумевшего “улыбнуться ужасу””36 .
Человек в лирике Гандлевского терзаем сомненьями не меньше, чем у Боратынского, но он не столь духовно безогляден. Внутренний мир его героя добровольно ограничен проблемами сугубо частного переживания одиночества и человеческой разъединенности. По Гандлевскому, личность в физическом мире отчетливо ощущает присутствие иной, высшей сущности, но поэт позволяет себе лишь ходить “вокруг да около небес”, говорить о Бытии только обиняками, ироническими намеками и кратчайшими формулами: “Если жизнь дар и вправду, о смысле не может быть речи. / Разговор о Великом Авось”. Не забудем, что “авось значит вовсе не то же, что просто “возможно” или “может быть”. Если словаможет быть, возможно и подобные могут выражать гипотезы относительно прошлого, настоящего или будущего, то авось всегда проспективно, устремлено в будущее и выражает надежду на благоприятный для говорящего исход дела”37 — раблезианское “Великое Может Быть” приобретает у поэта национальную окраску.
Лирика Гандлевского последовательно обходит метафизику по касательной: поэт сознательно исследует и воссоздает область не столько духовного, сколько душевного38 . Его лирический герой либо индифферентен к метафизике (выражение “метафизические враки” из стихотворения последних лет “В черном теле лирику держал…” — отнюдь не случайная проговорка), либо, чаще всего, хочет дать понять, что она, быть может, вообще слишком далека от современного человека, или, во всяком случае, от человека советской-постсоветской эпох. Позиции Гандлевского чужда игра на травестийное понижение высоких материй. Сам он предпочитает деликатное невмешательство в дела высших инстанций.
Такой герой исторически и психологически достоверен: рисуя поэтический автопортрет, автор, по сути, создает художественный документ эпохи, пишет душевный портрет позднесоветского интеллигента, не приукрашивая его и не ударяясь в разоблачение. Это и трезвая самооценка, и — рикошетом — оценка определенного исторически конкретного типа личности.
Поэзия Вяземскогоотразилась у Гандлевского редкими скрытыми цитатами. Опосредованное же влияние классика существенней: его смелые опыты по прозаизации стиха не могли не заинтересовать современного автора, оттого иаллюзии из Вяземского имеют отношение к тематике прозы жизни.
Возвращаясь к стихотворению, упоминающему Вяземского в ряду имен других великих, добавим, что у самого Петра Андреевича есть аналог подобной строки в “Поминках”: “Дельвиг, Пушкин, Боратынской, / Русской музы близнецы…”. В них говорится только о покойных русских поэтах, а стихотворение Гандлевского посвящено именно смерти.
Теперь обратим внимание на случаи иных отсылок. Стихотворение “Чтоб к социальному протесту…”, представляющее собой краткий экфразис “Бурлаков на Волге” И. Репина и медитации на тему картины, содержит перекрестную аллюзию на два текста Вяземского: “Привет, ребята! Ни на йоту / Не изменились вы с поры, / Когда мы классную работу / Превозмогали, школяры. / Мы изменились. Нам знакома / Теперь поденщины истома / И лямка долга на плече, / И чем здесь пахнет вообще”. Ср.:“Нет, не Помпея ты, моя святыня, нет, / Ты не развалина, не пепел древних лет, — / Ты все еще жива, как и во время оно: / Источником живым кипит благое лоно, / В котором утолял я жажду бытия. / Не изменилась ты, но изменился я” (“Приветствую тебя, в минувшем молодея…”); “Вот хоть бы я: давно и даже / Давно за срок и зауряд / С житейской лямкой я на страже, / А все же я плохой солдат” (“Дивлюсь всегда тому счастливцу…”).
Автокритический мотив “плохого солдата”, неважного ученика жизни, при удобном случае стремящегося сбросить с себя ее тяжкий груз, отозвался и в другом стихотворении Гандлевского: “мой народ отличает шельмец оргалит от фанеры / или взять чтоб не быть голословным того же меня / я в семью возвращался от друга Валеры / в хороводе теней три мучительных дня” (“близнецами считал а когда разузнал у соседки…”). Ср.: “Вот хоть бы я: давно и даже…”.
Модернистская традиция
Эпоха Серебряного века — в отличие от Золотого — повлияла на Гандлевского преимущественно на текстуальном, а не идейном уровне: поэт сознательно отстраняется от проблематики жизнестроительства и “театра для себя”, столь важной для большинства модернистов. Безусловными поэтическими ориентирами для автора среди классиков начала ХХ века предстают О. Мандельштам и В. Ходасевич. Обращения же к наследию Г. Иванова, Б. Пастернака и А. Ахматовой чаще всего полемичны.
Аллюзий на Мандельштама у Гандлевского не больше, чем, например, на Тарковского, но его влияние отнюдь не сводится к конкретным текстуальным перекличкам. Главное, чему поэт научился у классика, — это умению органически переплавлять “чужую песню” “в свою” и максимально широко обыгрывать “упоминательную клавиатуру”. Мандельштамовский принцип сложного скрещения подтекстов и их одновременной строгой обусловленности логикой поэтических ассоциаций Гандлевский впитал в полной мере и сделал одним из ведущих в своей поэтике.
Характеризуя исследовательский подход К. Тарановского, пионера изучения подтекстов у классика, О. Ронен писал: “Для поэтики Мандельштама характерна строгая мотивированность всех элементов поэтического высказывания не только в плане выражения и в семантических явлениях, связанных с тыняновским понятием “тесноты стихового ряда” <…> но и в плане содержания на самых высших его уровнях”39 . Эти слова могут быть отнесены и к поэзии Гандлевского, во многом постакмеистической, и — шире — к его творчеству вообще.
О трансформации “колеблемого треножника” у Гандлевского речь уже шла. Но плавный переход от сугубо поэтического образа треножника к восприятию его в качестве детали быта, в частности, кухонного, наблюдается уже у Мандельштама: “Несозданных миров отмститель будь, художник, — / Несуществующим существованье дай; / Туманным облаком окутай свой треножник / И падающих звезд пойми летучий рай” (“Я знаю, что обман в видении немыслим…”), но “Я давно полюбил нищету, / Одиночество, бедный художник. / Чтобы кофе сварить на спирту, / Я купил себе легкий треножник” (“Я давно полюбил нищету…”) — сохранение в последнем четверостишии знаковой рифмы “художник/треножник” весьма примечательно.
В поздних стихах Гандлевского образ закипающего кофе, поданный отчасти в духе раннего Мандельштама, подспудно связан с “треножником”, но по умолчанию заменен кофейником — здесь видна тяга к еще большей прозаизации прежнего образа “шаткой треноги”: “В черном теле лирику держал, / Споров о высоком приобщился, / Но на кофе, чтобы не сбежал, / Исподволь косился. / Все вокруг да около небес — / Райской спевки или вечной ночи. / Отсебятина, короче, / С сахаром и без. // Доходи на медленном огне / Под метафизические враки. / К мраку привыкай и тишине, / Обживайся в тишине и мраке. / Пузыри задумчиво пускай, / Помаленьку собираясь с духом, / Разом перелиться через край — / В лирику, по слухам” (“В черном теле лирику держал…”).
Другая, более явная аллюзия на Мандельштама представлена в стихотворении “Среди фанерных переборок…”: “…Утоптанная снежная дорога. / Облупленная школьная скамья. / Как поплавок, дрожит и тонет сердце. / Крошится мел. Кусая заусенцы, / Пишу по буквам: “Я уже не я””. Ср.: “О, широкий ветер Орфея, / Ты уйдешь в морские края — / И, несозданный мир лелея, / Я забыл ненужное “я”” (О. Мандельштам, “Отчего душа так певуча…”).
Именно это стихотворение Мандельштама завершается знаменитым риторическим вопросом “Неужели я настоящий / И действительно смерть придет?”. Гандлевский цитирует последние строки в “Трепанации черепа”: “…на сорок втором году я впервые с полной достоверностью ощутил, что смерть действительно придет и “я настоящий”; и все мелочи и подробности моей немудрящей жизни предстали мне вопиющими и драгоценными”. Вероятность отсылки косвенно подтверждается и тем, что стихотворение Гандлевского написано в 1974 году — а за год до того вышел “синий, с предисловьем Дымшица” “томик” избранного Мандельштама в “Библиотеке поэта” и, следовательно, был еще животрепещущей культурной новостью.
Ходасевич оказался единственным поэтом, которому Гандлевский посвятил отдельное стихотворение (“Одасевич?.. Переспросил привратник…”). В нем повествуется о посещении могилы классика на Новом Биянкурском кладбище под Парижем.
Так же, как и в случае с Мандельштамом, влияние Ходасевича прослеживается не столько в прямых цитатах или аллюзиях, сколько в более существенном сходстве двух поэтических миров. У Ходасевича Гандлевский подхватил тему нелюбви лирического героя к себе, жесткой самооценки, хрестоматийно запечатленной в шедевре “Перед зеркалом”. Кроме того, Ходасевич безусловно близок современному поэту своей обращенностью на культуру Золотого века и умением скрыто модернизировать стих под видом тщательной реставрации традиции: ““Старомодная” лирика Ходасевича напоминает: никакого новаторства самого по себе, художественной дерзости вообще, приема, годного на любой случай, не существует. Любить новаторство или не любить новаторства — все равно, что любить или не любить китайцев, это — неумно”40 .
Сомнениям героя Гандлевского в возможности выразить любой человеческий опыт поэтически также легко найти аналогию у Ходасевича: “Обо всем в одних стихах не скажешь / Жизнь идет волшебным, тайным чередом…” (В. Ходасевич, “Обо всем в одних стихах не скажешь…”). Ср.: “Зазнайка-поэзия, спрячем тетрадь / Есть области мира, живые помимо / Поэзии нашей, — и нам не понять, / Не перевести хриплой речи Памира” (“Здесь реки кричат как больной под ножом…”).
К Ходасевичу восходит и мотив мучительного желания преобразовать видимую сумятицу жизни в гармоническое единство творения, не покидающее поэта до смертного одра: “О если бы я мог, осмелился на йоту / В отвесном громыхании аллей / Вдруг различить связующую ноту / В расстроенном звучанье дней!” (“Бывают вечера — шатаешься под ливнем”). Ср.: “О, если б мой предсмертный стон / Облечь в отчетливую оду!” (В. Ходасевич, “Жив Бог! Умен, а не заумен…”). Здесь необходимо учитывать и перекрестные отсылки к Мандельштаму и Пастернаку: “Да обретут мои уста / Первоначальную немоту, / Как кристаллическую ноту, / Что от рождения чиста!” (О. Мандельштам, “Silentium”); “О, если бы я только мог / Хотя отчасти, / Я написал бы восемь строк / О свойствах страсти” (Б. Пастернак, “Во всем мне хочется дойти…”).
В заключительном стихотворении своей последней поэтической книги “Европейская ночь” Ходасевич словно сквозь зубы признавался: “Нелегкий труд, о Боже правый, / Всю жизнь воссоздавать мечтой / Твой мир, горящий звездной славой / И первозданною красой” (“Звезды”). В начале творческого пути Гандлевский завершил одно из произведений, написанных тем же размером, в чем-то сходным признанием: “В конце концов, не для того ли / Мы знаем творческую власть, / Чтобы хлебнуть добра и боли — / Отгоревать и не проклясть!” (“Без устали вокруг больницы…”).
Гандлевский действительно нигде не проклинает мир, как это иной раз делает Ходасевич — “Он был превосходный поэт одной темы — неприятия мира”41 , — но все недовольства внешними и внутренними обстоятельствами жизни обращает на своего лирического героя.
Традиция Г. Иванова,как и в случае с Мандельштамом или Ходасевичем, абсорбирована Гандлевским не столько в плане прямого или скрытого цитирования этого поэта, сколько в учитывании его опыта центонной поэзии и знаменитой темы презрения к себе. Как в свое время заметил В. Марков в статье с симптоматичным заглавием “Русские цитатные поэты: Заметки о поэзии П.А. Вяземского и Георгия Иванова”:, “Вообще поэтов можно делить на цитатных и нецитатных”42 . Иванов, безусловно, относится к первой категории.
Кроме собственно цитатности Гандлевский, как и многие авторы его поколения и его круга, не прошел мимо опыта бесстрашного “заземления” высокой классики, последовательно проводимого Ивановым. Например, “кощунственные” строки “…Фитиль, любитель керосина, / Затрепетал, вздохнул, потух — / И внемлет арфе Серафима / В священном ужасе петух” (“Голубизна чужого моря…”) написаны отнюдь не иронистом или концептуалистом конца ХХ века, тем не менее — по бестрепетному характеру обращения с хрестоматийным наследием — они кажутся взятыми именно из позднесоветского контекста.
У Гандлевского вообще не так много раскавыченных цитат, тем более цитат-строк, полностью совпадающих с первоисточником. В этом смысле Иванову в его стихах особенно повезло: один выразительный пример точного цитирования есть в стихотворении “Скрипит? А ты лоскут газеты...”: “Еще осталось человеку / Припомнить все, чего он не, / Дорогой, например, в аптеку / В пульсирующей тишине. / И, стоя под аптечной коброй, / Взглянуть на ликованье зла / Без зла, не потому, что добрый, / А потому, что жизнь прошла”. Ср.: “Все тот же мир. Но скука входит / В пустое сердце, как игла, / Не потому, что жизнь проходит, / А потому, что жизнь прошла” (Г. Иванов, “Все тот же мир. Но скука входит…”). Иванов во второй строфе стихотворения цитирует “Разуверение” Боратынского: “И хочется сказать — мир чуждый, / Исчезни с глаз моих скорей — / “Не искушай меня без нужды / Возвратом нежности твоей!”” — о любви Гандлевского к цитатным перспективам речь уже заходила неоднократно.
Здесь героя вместе с витальными силами покидает, по крайней мере, и боль, наступает состояние индифферентности, тогда как чаще всего при введении макабрических мотивов Гандлевский не упускает случая описать нравственные муки своего героя — например, во вполне ивановском по духу финале другого стихотворения: “И жизнь моя была б ничуть не хуже, / Не будь она моя!” (“Найти охотника. Головоломка…”).
В художественном мире зрелого Гандлевского человек одинок, но вдвойне одинок художник, которому примирение с миром дается от случая к случаю — и всегда на краткие мгновения. По мере продвижения к финалу мыслящее существо не успокаивается от правильной и плавной реализации жизненной задачи, а со все большей тревогой и раздражением усиливает бремя саморефлексии и самоосуждения. Такая позиция лирического героя Гандлевского довольно близка ивановской, но у современного автора полностью отсутствует важный для Иванова мотив претензий к миру и констатации бессмысленности, а иной раз и неприемлемости традиционно христианских религиозно-философских идеалов. Иванов мог вызывающе добавить к устойчивому словосочетанию “вечный покой” эпитет “отвратительный”, Гандлевскому подобное чуждо.
Отвечая на вопрос А. Гениса о самых главных для него именах в русской литературе ХХ века, Гандлевский наряду с Мандельштамом, Набоковым и Бродским назвал Пастернака: “…хотя он далеко не самый любимый мною поэт. Но он открыл такой темп, так смял синтаксис, приблизив письменную речь к разговорной, что не учитывать этого, когда занимаешься поэзией, просто нельзя”43 . Набоков-поэт весьма скромно представлен в цитатном поле Гандлевского, а аллюзивные связи с Бродским и того слабее44 . В этом сказывается стремление к упорной самостоятельности и нежелание подражать любимым авторам, а также, возможно, и иной распространенный эффект, когда, по словам Д. Самойлова, “читал того, а подвергся влиянию этого”45 .
В интервью В. Куллэ поэт признался: “Меня раздражают интеллигентство и гемютность Пастернака, хотя отдаю должное его врожденному гению”46 . Неоднозначное отношение к Пастернаку вполне отчетливо представлено и в стихах Гандлевского. Так, стихотворению “Когда, раздвинув острием поленья…”, одному из тех немногих у автора, что с изрядной долей условности можно отнести к острополитическим, предпослан эпиграф из Пастернака: “…То весь готов сойти на нет / В революцьонной воле”. В оригинале одна строка выглядит несколько иначе, здесь даже смягчена экспрессивность источника: “И так как с малых детских лет / Я ранен женской долей, / И след поэта — только след / Ее путей, не боле, / И так как я лишь ей задет / И ей у нас раздолье, / То весь я рад сойти на нет / В революцьонной воле” (“Весеннею порою льда...”).
Пастернак критически упоминается и в контексте этого стихотворения Гандлевского: “Когда по радио в урочную минуту / Сквозь пение лимитчиц, лязг и гам / Передают, что выпало кому-то / Семь лет и пять в придачу по рогам, / Я вспоминаю лепет Пастернака. / Куда ты завела нас, болтовня? / И чертыхаюсь, и пугаюсь мрака…”. “Лепет” и “болтовня” классика о “женской доле” и “революцьонной воле” с горечью оцениваются позднейшим автором как лепта Пастернака в общее дело создания коллективного советского мифа.
Но если идеологически Гандлевский иной раз готов резко возразить предшественнику, то эстетически он отчасти опирается на его опыт. Помимо прямых отсылок, стилистического и эвфонического влияния поэтика Пастернака наложила отпечаток на построение отдельных метафор и рифм у Гандлевского и на его ритмику.
Намеки на Пастернака особенно характерны для стихов Гандлевского 1970—1980-х годов: “Есть старый флигельугловатый / В одной неназванной глуши. / В его стенах живут два брата, / Два странных образа души” (“Есть старый флигель угловатый…”). Ср.: “Льет дождь. На даче спят два сына, / Как только в раннем детстве спят” (Б. Пастернак, “Вторая баллада”).
Уже упоминавшаяся “Элегия” своим размером определенно указывает на Пастернака с характерным для него чередованием в четырехстопном ямбе дактилических и женских окончаний: “В лесу казенной землемершею / Стояла смерть среди погоста, / Смотря в лицо мое умершее, / Чтоб вырыть яму мне по росту” (Б. Пастернак, “Август”). В этом смысле один строфоид “Элегии” кажется горько-ироническим продолжением-развитием “Августа”: “А ты живешь свою подробную, / Теряешь совесть, ждешь трамвая, / И речи слушаешь надгробные, / Шарф подбородком уминая”. Есть здесь и другая пастернаковская метка: “Но жизнь, как тишина / Осенняя, — подробна” (Б. Пастернак, “Давай ронять слова…”). К Пастернаку же восходят и наиболее яркие рифмы стихотворения: “музыка—Миусское” и “дышится—Дымшица”, но во всем остальном оно от эстетики Пастернака далеко.
В стихотворении “Самосуд неожиданной зрелости…”, написанном трехстопным анапестом, в одной из строк встречается усеченная третья стопа: “Или прятать кухонное лезвие / В ящик письменного стола”. Трехстопники Пастернака как раз дают классические образцы неожиданного “сжимания” размера одной строки, например: “Глухая пора листопада. / Последних гусей косяки. / Расстраиваться не надо: / У страха глаза велики” (“Глухая пора листопада…”).
П. Вайль, вспоминая строки “Выйди осенью в чистое поле, / Ветром родины лоб остуди. / Жаркой розой глоток алкоголя / Разворачивается в груди” (“Что-нибудь о тюрьме и разлуке…”), писал: “Семисложный глагол движется медленно и плавно, лепесток за лепестком разворачивается — разливаясь горячей волной после стакана, приступая к сердцу, обволакивая душу”47 . Яркий глагол также имеет непосредственное отношение к Пастернаку. Употребление Гандлевским в начале строк многосложных слов, особенно глаголов, причастий и деепричастий, с ударением на четвертом или даже на пятом слоге с конца — также пастернаковское влияние48 . Отсюда и разворачивающаяся алкогольная роза Гандлевского, и пропуски у него двух метрических ударений в четырехстопном ямбе, и появление рамочного ритма в строках с глаголами, причастиями и деепричастиями. Достаточно сравнить начальные строки стихотворения “Светало поздно. Одеяло…” со следующими фрагментами из “Волн”: “Светало. За Владикавказом / Чернело что-то. Тяжело / Шли тучи. Рассвело не разом. / Светало, но не рассвело”; “Мне хочется домой, в огромность / Квартиры, наводящей грусть. / Войду, сниму пальто, опомнюсь, / Огнями улиц озарюсь. // Перегородок тонкоребрость / Пройду насквозь, / Пройду как свет, / Пройду, как образ входит в образ / И как предмет сечет предмет”. Ср.: “Светало поздно. Одеяло / Сползало на пол. Сизый свет / Сквозь жалюзи мало-помалу / Скользил с предмета на предмет”.
Cизый свет Гандлевского осторожно проникает в жилое помещение, так же, как, самоуподобленный свету, проникает в квартиру герой Пастернака. Пять анжамбеманов Гандлевского в начальных строках стихотворения нельзя назвать приемом из типичного пастернаковского арсенала, но, тем не менее, и они приводят к “Волнам”.
В стихотворении Гандлевского с его иронико-ностальгическим кавказским колоритом упоминаются даже отдельные пастернаковские топонимы: “Обнявший, как поэт в работе, / Что в жизни порознь видно двум, — / Одним концом — ночное Поти, / Другим светающий Батум” (Б. Пастернак, “Волны”). Ср.: “Экскурсионный теплоход / “Сухум-Батум” с заходом в Поти”.
Так, “с заходом в Пастернака”, откристаллизовывалась поэтика Гандлевского, впоследствии по-прежнему учитывавшего опыт пастернаковской фоники, но оставшегося холодным к роскошно-избыточной метафоричности раннего Пастернака и к некоторым его идеологемам.
Гандлевский неоднократно открыто выражал свое критическое отношение к А. Ахматовой, причем не столько к стихам, сколько к ее монументальному имиджу: “Ахматова <…> в поздние годы дала себя убедить, что она — царскосельская статуя, и это напрочь лишило ее естественности жеста…”49 .
Пристрастное отношение современного поэта к Ахматовой объяснимо: она из тех авторов, кто создал не только свою поэтику, но и социокультурную стратегию поведения. Последняя может нравиться или нет, но не признать факт ее существования нельзя 50 .
Тем не менее, отклики на собственно стихи Ахматовой в творчестве Гандлевского все же есть. Это и “строфическая цитата” из “Поэмы без героя” в стихотворении “Грешный светлый твой лоб поцелую…”, и — что особенно интересно — подтекст из четвертой “Северной элегии”, скрытый в первых абзацах романа “<НРЗБ>”: “Долго плутал он, Лев Криворотов, по коммунальной захламленной квартире в поисках выхода <…> И раз, и два, и три пробовал Криворотов какие-то двери, но одни оказывались заперты, другие вели в очередное ответвление коридора <…> Славянский шкаф замыкал собою один из тупиков коммунального лабиринта, и, желая перехитрить логику бредовых обстоятельств, Криворотов вошел в шкаф <…> он развел руками одежду, шагнул из последних сил и вышел насквозь — в свет и воздух. Снаружи был ранний вечер <…> К причалу <…> подошел пассажирский катер, и они — Лев Криворотов и любимая до неузнаваемости женщина — <…> взошли на него <…> И тогда Криворотов нельзя теснее припал к своей спутнице и “я люблю тебя”” — сказал то ли ей, то ли вообще, содрогаясь на каждом слоге, — и проснулся”. Ср.: “И нет уже свидетелей событий, / И не с кем плакать, не с кем вспоминать. / И медленно от нас уходят тени, / Которых мы уже не призываем, / Возврат которых был бы страшен нам. / И, раз проснувшись, видим, что забыли / Мы даже путь в тот дом уединенный, / И, задыхаясь от стыда и гнева, / Бежим туда, но (как во сне бывает) / Там все другое: люди, вещи, стены, / И нас никто не знает — мы чужие. / Мы не туда попали… Боже мой! / И вот когда горчайшее приходит: / Мы сознаем, что не могли б вместить / То прошлое в границы нашей жизни, / И нам оно почти что так же чуждо, / Как нашему соседу по квартире; / Что тех, кто умер, мы бы не узнали, / А те, с кем нам разлуку Бог послал, / Прекрасно обошлись без нас — и даже / Все к лучшему…” (“Северные элегии”, 4).
Подтекст из Ахматовой имеет прямое отношение не только к зачину повествования, где, как и в “Северных элегиях”, есть мотив поиска своего прежнего жилья, прежних связей и мотив воспоминаний и снов, но и к одной из главных линий романа — безответной любви его главного героя, Льва Криворотова, к девушке Ане, которая также прекрасно обошлась без него: “Пренебрегала мною при жизни, умерла сама по себе…”.
Лирический герой
Гандлевский — один из немногих современных поэтов, применительно к творчеству которых можно говорить о присутствии у них образа лирического героя, именно героя, а не абстрактного субъекта. “В подлинной лирике всегда присутствует личность поэта, но говорить о лирическом герое имеет смысл тогда, когда она облекается устойчивыми чертами — биографическими, сюжетными”51 . В лирике Гандлевского в полном соответствии с традиционно понимаемым образом лирического героя “личность — не только субъект, но и объект произведения, его тема, и она раскрывается в самом движении поэтического сюжета”52 .
Для самоидентификации лирического героя Гандлевского характерна жесткая самоирония. Сводный список самоопределений из стихов за тридцать с лишним лет говорит сам за себя. Он открывается сравнительно мягкими примерами: “очарованный странник с пачки “Памира“”, “старый лицедей”, “изгой”, “испитой шарлатан”, “перестарок и межеумок”, “бирюк”, “питомец муз”. Последнее не должно смущать невписанностью в общую картину: именуясь так, герой без обожания разглядывает себя в зеркале (мотив Есенина и Ходасевича). Изредка о лирическом герое речь идет в третьем лице, иногда даже он предстает персонажем текста в тексте: “чуть-чуть безумец, несколько эстет, преступник на свободе, симпатяга” (герой рисунка из стихотворения “Найти охотника. Головоломка…”), но и в таких случаях “он” оказывается необычайно близок лирическому “я”. Список определений продолжается следующими автохарактеристиками: представитель “бичей, карнавальной накипи оседлых сословий”, “чужой, сутулый, в прошлом многопьющий”, один из “угрюмых дядь”, “придурковатый подпасок”, “раб, сын раба”. И завершается он не менее впечатляющим рядом: “придурок”, “дурак дураком”, который в юности испытывал желание “заделаться... мерзавцем форменным в цилиндре и плаще”, в итоге аттестует себя как художника “от слова худо”, который в горькую минуту утверждает, что он “труженик позора” и “в общем целом мешок дерьма”.
Положительных характеристик лирического героя значительно меньше, все они относятся к ранним стихам, описывающим его детство и юность, и в экспрессивности безусловно уступают пейоративным (см. “Среди фанерных переборок…”, “Декабрь 1977”, “Я был зверком на тонкой пуповине…”).
Собранный воедино, этот ряд суровых самоаттестаций напоминает почти заклинание, заговор, произносимый с тайной целью скрыть истину и отвести от себя сонм уродливых фантомов — настолько он чрезмерен. Из поэтов более молодого поколения подобным может щегольнуть разве что поэзия Д. Новикова и Б. Рыжего. Но если у первого жесткие самооценки выглядят органично и искренно, то у второго, в соответствии с общими принципами его поэтики, это уже явная литературная игра.
Душевное самообнажение лирического героя поэта имеет сложный и глубоко укорененный в русской культурной традиции смысл. Изучив семантику сугубо русского понятия “надрыв”, исследователи пришли к выводу, что по отношению к нему можно говорить о двух типах мышления и поведения — “дворянском”, не допускающим не только душевной распущенности, но и малейшего перебарщивания с сентиментальностью, что осознается как моветон, и “разночинском”, при котором, напротив, “выворачивание души наизнанку” по поводу и без повода последовательно культивируется53 .
В этом смысле лирический герой Гандлевского особенно примечателен. С одной стороны, он порой не чужд демонстрации достоевско-есенинского душевного надрыва, а с другой — всегда подает его в духе пушкинско-набоковской аристократической чуждости разночинскому самокопанию. Таким образом, две существенно важные для русской культуры нового времени антагонистические тенденции оказываются в равной степени востребованными современным автором, более того — можно сказать, что они диалектически сосуществуют в его художественном мире.
В свое время А. Зорин отметил: “Лирика Гандлевского на редкость густо заселена персонажами, и ее творец — плоть от плоти окружающей людской массы”54 . С одной стороны, это действительно так. В его стихах встречаются такие персонажи, как студенты, интеллигенты, деревенские старухи, бытовые алкоголики, рабочие, домохозяйки, люмпен-пролетарии, обыватели, уголовники… С другой стороны, стихов, где лирический герой выводится за скобки, немного, и большинство из них игровые, масочные (“Баллада”, “Устроиться на автобазу…”, “Отечество, предание, геройство…”). Кроме того, персонажи редко изображаются с какими-нибудь характерными подробностями (см., например: “Это праздник. Розы в ванной…”, “Картина мира, милая уму…”, “Дай Бог памяти вспомнить работы мои…”, “Зверинец коммунальный вымер…”). Центральная точка зрения у Гандлевского всегда принадлежит самому лирическому герою. Поэт “одновременно и художник, и модель; и мастер, и материал. Он сам свой объект”55 , тогда как прочие персонажи при всем их впечатляющем числе (несколько десятков) все же периферийны. Даже в тех случаях, когда герой “физически” отсутствует в стихах, именно его взгляд на действительность и его личная аксиология доминируют.
Раннюю лирику Гандлевского отличает повышенный интерес лирического героя к самому себе и к своему месту в универсуме, причем его отношения и с собой, и с миром можно с определенными оговорками назвать гармоничными. Это по большому счету лирика восторга, радостного приятия мира, хотя ноты светлой элегической грусти вполне допускаются. Здесь отсутствует “густонаселенность”, появление персонажей не оказывается поэтической доминантой. С конца 70-х по конец 80-х приходит период трезвой оценки окружающей действительности, и вот здесь-то как раз резко возрастает степень социальных подробностей и количество типажей, попадающих в поле зрения протагониста. Приблизительно с начала 90-х “персонажность” идет на спад, герой вновь погружается в самосозерцание, но его взгляд на себя и на мир уже далек от веселья юности.
Существенная общая черта лирики Гандлевского — принадлежность его персонажей и связанных с ними мотивов и образов советскому хронотопу. Никаких менеджеров среднего звена, гламурных красоток или бывших научных работников, торгующих на базаре шмотками, то есть героев постсоветской России, в его стихах нет. Не обнаруживает там себя и желание расширить границы поэтической географии, выйдя за пределы территории исчезнувшего СССР. Даже в произведениях последних лет, где фигурируют какие-либо герои, речь всегда идет только о взгляде на легко узнаваемую советскую (если не по времени, то по духу) реальность. Когда в стихах упоминается “диспут ночной / Чернокнижников Кракова и Саламанки” (“Дай Бог памяти вспомнить работы мои…”), происходит он в андеграундном кругу, и место его проведения — советская бытовка; а если лирический герой в поздних стихах уже вполне реально путешествует по “какой-нибудь Чехии, Польше”, то “чужие оглушительные страны”, на платформы которых он в конце концов сходит, оказываются не более чем фоном для переживаний персонажа. Их функцию без ущерба для художественного мира поэта могла бы выполнить репродукция иноземного пейзажа на стене.
Заметно, как с течением времени в поэтическом космосе Гандлевского возрастает степень дисгармоничности, трагизма и бремени самоосуждения. Если еще в середине 80-х лирический герой мог “Растроганно прислушиваться к лаю, / Чириканью и кваканью…” и “любую ерунду” брать “на веру”, то к концу 90-х тональность его откровений меняется: “и уже не поверят мне на слово добрые люди / что когда-то я был каждой малости рад” (“близнецами считал, / а когда разузнал у соседки…”) — эволюция знаменательная.
Идейный стержень творчества Гандлевского — изнурительное выяснение отношений поэта со своей музой, ответы на вопрос, что есть поэзия и внутренняя жизнь творца. При этом все ипостаси музы у Гандлевского объединяет одно: ни в каком ее воплощении с нею нельзя соединиться надолго. Либо она чересчур юна и неискушенна (“Мы знаем приближение грозы…”, “Будет все. Охлажденная долгим трудом…”), либо отталкивающе-отвратительна (“Неудачник. Поляк и истерик…”), либо прекрасна, но отстраненно-холодна (“Так любить — что в лицо не узнать…”). Во всех случаях подспудно проводится единая идея: вдохновение — лишь краткий миг, и та счастливая гармония в отношениях поэта и музы, классический пример которой дал Пушкин, для современного автора невозможна: “Красавица ли за сорок с лицом / Таким, что совесть оторопевает, / Дитя ли вздорное — в карманах руки, / Разбойничья улыбка на губах (Лолита? — А.С.) — / Кто б ни была ты, ангел мой, врасплох / Застигнут будет старый лицедей…” (“Весной, проездом, в городе чужом…”). Лирический восторг у автора всегда мучительно выстрадан.
Образ музы у Гандлевского парадоксален: она возбуждает вдохновение поэта, но сама при этом не является носителем поэтического взгляда на мир. Кроме того, обладание ею почти всегда постыдно, ибо незаконно (она никому не принадлежит).
Конструируемый Гандлевским миф о поэте есть, с одной стороны, демифологизация сложившейся романтической социокультурной модели творческого и жизненного поведения художника, а с другой — создание некоего нового мифа постромантического толка, поскольку без мифологизации, по всей видимости, цельная творческая стратегия существовать не может. Новый миф о поэте — это представление не о шамане-медиуме или сильной романтической личности, а “постбродский” миф о частном человеке, самостоятельном и независимом, имеющем дело не с потусторонними силами или музой, а с реалиями, ментальностью и языком своей эпохи.
Подобный идеал, тем не менее, имеет довольно сложное отношение к нынешнему положению вещей, поскольку, по мысли Гандлевского, современный автор зачастую пытается встать на прежние, уже не соответствующие действительности позиции, и эти “срывы” не идут на пользу ни самим поэтам в реальной жизни, ни их творчеству. По Гандлевскому, современный стихотворец должен как можно скорее смириться со своим скромным, но достойным положением, быть адекватным самому себе и не требовать от окружающего мира немедленного отклика и приятия его творчества.
В то же время, несмотря на явное неприятие романтической позиции, тема одиночества человека и особенно творческой личности, столь привычная у романтиков, исключительно важна и для Гандлевского. Единственный способ преодоления одиночества для художника — сочинительство, само созерцание творческого акта, непредсказуемое и краткое: “О, искуситель-змей, аптечная гадюка, / Ответь, пожалуйста, задачу разреши: / Зачем доверил я обманчивому звуку / Силлабику ума и тонику души?” (“Когда волнуется желтеющее пиво…”).
Шутливое или холодное дистанцирование лирического героя Гандлевского от “философии общего дела” среднего обывателя встречается в его стихах сплошь и рядом (см. “Дай Бог памяти вспомнить работы мои…”, “Отечество, предание, геройство…”, “Устроиться на автобазу…” и др.). По мысли автора, единственное дело, достойное поэта, за которое ему предстоит расплачиваться своей судьбой, — это жизнь в поэзии и жизнь поэзии. Мотив вызывает прочные и закономерные ассоциации с пушкинским отношением к творчеству, которое мыслится как самодостаточное явление, чуждое привязке к “пользе”.
Гандлевский последовательно и настойчиво разводит искусство и жизнь: “Совершенное искусство имеет очень мало точек соприкосновения с обыденной жизнью; совершенство и предполагает самодостаточность. А вот недоискусство как раз любит вторгаться в жизнь”56 .
Вместе с тем Гандлевский далек от стремления абсолютизировать или, тем более, сакрализировать искусство. Со свойственной ему бескомпромиссностью, особенно по отношению к себе, он констатировал еще в ранних стихах: “А вошедшая в обыкновение ложь / Ремесла потягается разве что с астмой / духотою” (“Будет все. Охлажденная долгим трудом…”). Не “иллюзия” искусства, а именно “ложь” — ни больше ни меньше. Но по сравнению с чем же искусство ложно — с обыденной жизнью или более высокими, чем оно, духовными идеалами? Как ни странно, верны оба ответа. Рядом с повседневной, обычной жизнью, рядом с прозаическим бытом искусство может казаться эскапизмом, рядом с высотами духа оно выглядит некоей искусственной полумерой. И тем не менее более чем ясно представляя себе ограниченность и уязвимость искусства, поэт не отступает от него: “Почему мы любим искусство? <…> Нас берут в со-Авторы, и новое, не свойственное нам зрение различает просвет: и мы утешаемся, не обманываясь. Это драгоценное самочувствие я рискну назвать истиной. Но понимаемой не как формула или, чего доброго, руководство, а как состояние”57 (здесь курсив автора).
Квинтэссенцией соответствующих идей автора стал роман “<НРЗБ>” о великом (или кажущимся великим) поэте Викторе Чиграшове. Главную пару героев романа — Криворотов/Чиграшов — вообще можно рассматривать как раздвоение лирического героя Гандлевского, своего рода два полюса личности, достоинства и недостатки которой гиперболизированы. Первый садомазохистски рефлексирует, второй с ирониче-ской надменностью бережет свое privacy, доверяя лишь малую часть интимных переживаний дневнику, не предназначенному ни для чьих глаз, и о его внутреннем мире читатель может лишь догадываться. А. Цветков в эссе, посвященном Гандлевскому, также говорит об органическом “раздвоении” лирического героя поэта на две ипостаси — “романтика” и “циника”, распространяя это разделение на всю его лирику58 .
Сознательно или бессознательно поэт опирается на пушкинский художественный и жизненный опыт. Современный исследователь Пушкина, мотивируя амбивалентную связь Гринева со Швабриным и Моцарта с Сальери, заключает: “Раздвоение личностного мира автора в обнаженном виде выступает, например, в “Моцарте и Сальери” <…> Сегодня уже мало кто сомневается в том, что оба героя суть проекция одной души — души автора. Кто же как не Пушкин мучительно задумывался над соотношением алгебры и гармонии, кто завидовал Мицкевичу и Грибоедову, кто с ужасом осознавал злодейские стороны своего гения?”59 .
Поэтому не случайно Криворотов, поминая Чиграшова через много лет после его смерти, проговаривается: “…так и я жил год за годом почитай половину жизни, урывками корпя над бумагами Чиграшова, и видит Бог, часы, проведенные в этих, наверняка слишком личных для филолога, изысканиях, были далеко не худшими часами изо всего отпущенного на мой век. Быть может, опыт тихой и всепоглощающей страсти подвиг меня написать в один присест либретто к мюзиклу “Презренный металл” по “Скупому рыцарю”. (А вовсе не по “Моцарту и Сальери”, что, вроде бы, напрашивается!)”.
В романе подспудно проводится мысль: все существенное о себе поэт сообщает в стихах, а на долю исследователей их жизненных обстоятельств остается лишь более или менее мифологизированная биография. Общий итог “<НРЗБ>” драматичен: жизнь поэта тревожна и печальна всегда, независимо от степени его даровитости, но только у талантливых авторов несправедливые (да и несправедливые ли?) зигзаги судьбы слабо компенсируются настоящими стихами, и никакого иного утешения у стихотворца нет и быть не может.
В сцене “поэтической схватки” гения и бездарности, когда Чиграшов редактирует стихи Криворотова, живой классик с экспрессией и раздражением выражает свое видение поэтического дела. Он сердится на Криворотова не только за лелеемые им пошло-романтические представления, но и за то, что тот заставил Чиграшова выражаться слишком патетично: “Поэзия — довольно небольшое дело <…> приучите себя хорошенько к мысли, что единственный человек, кому ваша лирика по-настоящему нужна и интересна, — вы сами и есть <…> Не надо брать публику в расчет вовсе”.
По мысли автора, Виктор Чиграшов проводит в жизнь нетривиальную модель существования истинного поэта в современном мире, тогда как Лев Криворотов способен только бесконечно и бесполезно штамповать прежние, отжившие формы поведения “свободного художника”.
* * *
Как заметил М. Гаспаров, в рассуждениях о самых “общих особенностях развития поэтики <…> трудно быть доказательным и можно лишь стараться быть убедительным”60 , но если стремиться охарактеризовать творчество поэта в целом, подобных суммирующих выводов, усредняющих и неизбежно упрощающих эмпирическое разнообразие уникальных эстетических объектов, все же не избежать.
Лирика Сергея Гандлевского — скрупулезно точное, литературно изощренное и одновременно стилистически разговорно-естественное изображение внутренней и внешней жизни частного человека, русского интеллигента позднесоветской закалки, поэта, зачастую мучительно переживающего свое одиночество, живущего hic et nunc в реалистически и психологически достоверно воссозданном современном хронотопе, окруженного соответствующими предметными и языковыми реалиями и персонажами, каковые, однако, никогда не заслоняют собой лирического героя и не выходят на авансцену, личности, которая находится в постоянной горько-иронической авторефлексии и героически пытается преодолеть свое стабильное место в этом мире, ограниченность собственного опыта и своего “я”, но всякий раз остро осознает утопичность подобных попыток.
Гандлевскому удалось то, чего достигает далеко не каждый автор: с помощью сугубо индивидуального поэтического мыслечувствия эстетически впечатляюще передать разделяемый многими его современниками образ своей эпохи.
Приметки
1 Айзенберг М. Вместо предисловия // Личное дело №. М.: Союзтеатр, 1991; Айзенберг М. Разделение действительности // Личное дело №; Зорин А. Альманах — взгляд из зала // Личное дело №; Кузнецова О. Представление продолжается [О книге стихов С. Гандлевского “Праздник”] // Новый мир. 1996. № 8; Куллэ В. Сергей Гандлевский: “Поэзия… бежит ухищрений и лукавства” // Знамя. 1997. № 6; Шульпяков Г. Пейзаж Питера Брейгеля // Арион. 1997. № 3; Панн Л. Печаль узнавания //Нескучный сад. Tenafly (N.J.): Hermitage Publishers, 1998; Генис А. Лестница, приставленная не к той стенке //Генис А. Иван Петрович умер. М.: Новое литературное обозрение, 1999; Вайль П. Свиток соответствий. Платформа Марк. Толкование сновидений.Сердечный приступ // Вайль П. Стихи про меня. М.: КоЛибри, 2006. С. 602—608, 641—647, 679—681, 684—687.
2 Жолковский А.К. К проблеме инфинитивной поэзии (Об интертекстуальном фоне стихотворения С. Гандлевского “Устроиться на автобазу…”) // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. Т. 61. 2002. № 1; Жолковский А.К. Избранные статьи о русской поэзии: Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М.: Изд. РГГУ, 2005. С. 461, 471, 475, 477, 590; Жолковский А.К. Махаловка с НРЗБ // НРЗБ. Allegro mafioso. М.: ОГИ, 2005. С. 192—195.
3 Лекманов О.А. Пропущенное звено // Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск: Водолей, 2000; Зубова Л.В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М.: НЛО, 2000. С. 313, 333.
4 Безродный М.В. Конец цитаты. СПб.: Изд. Ивана Лимбаха, 1996. С. 71, 72—73.
5 Кулаков В. Постфактум. Книга о стихах. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 50.
8 Жолковский А.К. Махаловка с НРЗБ // НРЗБ. Allegro mafioso. М.: ОГИ, 2005. С. 193 (признание С. Гандлевского. — А.С.).
9 Гандлевский С.М. Критический сентиментализм // Гандлевский С.М. Порядок слов: стихи, повесть, пьеса, эссе. Екатеринбург: У-Фактория, 2000. С. 293—298.
10 Гаспаров М.Л. Художественный мир М. Кузмина. Тезаурус формальный и тезаурус функциональный // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. II. О стихах. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 416.
11 Там же. С. 417.
12 Пильщиков И.А. Из наблюдений над генезисом и поэтикой элегий Баратынского // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. Т. 66. 2007. № 3. С. 57.
13 Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, курсив в цитатах мой. — А.С.
14 Абсолютное стихотворение. Маленькая антология европейской поэзии / Составление, комментарий и подстрочный прозаический перевод Бориса Хазанова. М.: Время, 2005. С. 169.
15 Алехин А., Гандлевский С. Поэтический ландшафт эпохи голоцена // Арион. 1994. № 4. С. 11—12.
16 Гандлевский С.М. Поэтическая кухня: Эссе. СПб.: Пушкинский фонд, 1998. С. 53.
17 Там же. С. 67.
18 Цит. по: Куллэ В. Сергей Гандлевский… С. 215.
19 Ходасевич В.Ф. Собр. соч. в 4 тт. Т. 3. Проза. Державин. О Пушкине. М.: Согласие, 1997. С. 371.
20 Гандлевский С.М. Порядок слов… С. 180.
21 Кулаков В. Постфактум. С. 7.
22 Гаспаров М.Л. “Когда волнуется желтеющая нива…”: Лермонтов и Ламартин // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. II. О стихах. С. 48—57.
23 Гандлевский С.М. Порядок слов... С. 382.
24 Цветков А. Сергею Гандлевскому // Воздух: Журнал поэзии. 2006. № 3. С. 9.
25 Куллэ В. Апофеоз неактуальности // Новый мир. 2007. № 5. С. 197.
26 Юрьев О. Ум // Нева. 2006. № 5. С. 197.
27 Скворцов А.Э. Игра в современной русской поэзии. С. 348. На эту же параллель указал В. Куллэ (Куллэ В. Апофеоз неактуальности // Новый мир. 2007. № 5. С. 200).
28 Кружков Г. В снежных сумерках на опушке века... // Арион. 1999. № 1. С. 19.
29 “...Мне хватает жизни без прикрас”. Беседа Сергея Гандлевского с Виктором Куллэ // Звезда. 1997. № 6. С. 222.; см. также: Куллэ В. Сергей Гандлевский...
30 Современная американская поэзия. Антология. М.: Прогресс, 1975. С. 302.
31 Гандлевский С.М. Порядок слов... С. 369.
32 Гандлевский С.М. <НРЗБ>. С. 90.
33 Пушкин А.С. Отрывки из писем, мысли и замечания // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 7. Л.: Наука, 1978. С. 38.
34 Пушкин А.С. Указ. изд. С. 38.
35 Семенко И.М. Поэты пушкинской поры. М.: Художественная литература, 1970. С. 235; Гинзбург Л.Я. О лирике. М.: Интрада, 1997. С. 72—73.
36 Семенко И.М. Указ. изд. С. 290.
37 Шмелев А.Д. Лексический состав русского языка как отражение “русской души” // Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 32.
38 О разграничении духа/души в русской языковой картине мира см.: Шмелев А.Д. Дух, душа и тело в свете данных русского языка // Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира.
39 Ронен О.Поэтика Осипа Мандельштама. СПб.: Гиперион, 2002. С. 14—15.
40 Гандлевский С.М. Порядок слов... С. 367.
41 Чуковский Н.К. О том, что видел: Воспоминания. Письма. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 126.
42 Марков В.Ф. О свободе в поэзии. СПб.: Изд. Чернышева, 1994. С. 216.
43 Гандлевский С.М. Поэтическая кухня. С. 59.
44 На сегодняшний день выявлен лишь один бесспорный подтекст из Бродского — см.: Лекманов О.А. Пропущенное звено // Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск: Водолей, 2000. С. 358—361.
45 Самойлов Д.С. В кругу себя. М.: ВИМО, 1993. С. 26.
46 “...Мне хватает жизни без прикрас”. Беседа Сергея Гандлевского с Виктором Куллэ. С. 223.
47 Вайль П. Сердечный приступ // Вайль П. Стихи про меня. М.: КоЛибри, 2006. С. 684. О мастерском использовании этого глагола ранее писал А. Зорин (Зорин А. Альманах — взгляд из зала // Личное дело №. М.: Союзтеатр, 1991. С. 253—254).
48 Шапир М.И. Эстетика небрежности в поэзии Пастернака (Идеология одного идиолекта) // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2004. Т. 63. № 4. С. 43.
49 Алехин А., Гандлевский С. Поэтический ландшафт эпохи голоцена. С. 14.
50 См. наиболее известные работы последних лет о жизнестроительстве Ахматовой и о выстраиваемом ею собственном образе: Богомолов Н.А. От Пушкина до Кибирова. Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 323—332; Жолковский А.К. Избранные статьи о русской поэзии: Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. С. 159—174; ТименчикР.Д. Анна Ахматова в 1960-е годы. М.: Водолей Publishers; Toronto: The University of Toronto, 2005.
51 Гинзбург Л.Я. Указ. соч. С. 146.
52 Там же. С. 150.
53 Левонтина И.Б. “Достоевский надрыв” // Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. С. 247—258.
54 Зорин А. Альманах — взгляд из зала // Личное дело №. М.: Союзтеатр, 1991. С. 251.
55 Айзенберг М. Вместо предисловия. С. 8.
56 Гандлевский С.М. Найти охотника. СПб.: Пушкинский фонд, 2002. С. 131.
57 Гандлевский С.М. Порядок слов… С. 405, 407.
58 Цветков А. Сергею Гандлевскому. С. 10.
59 Листов В.С. Автобиографическое в “Капитанской дочке” // Philologica. 2001/2002. Vol. 7. № 17/18. С. 162.