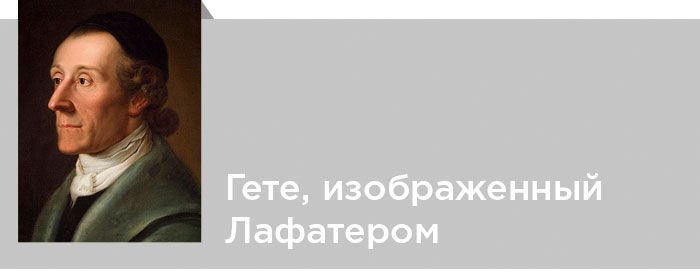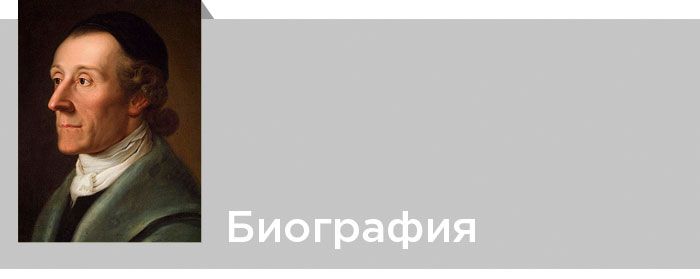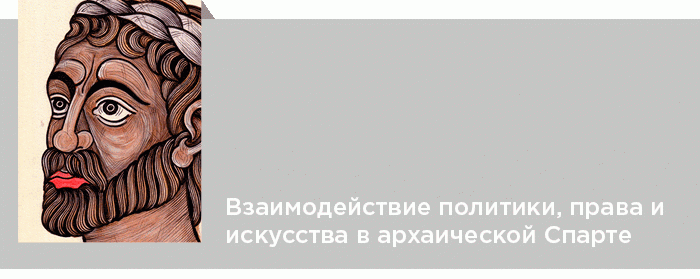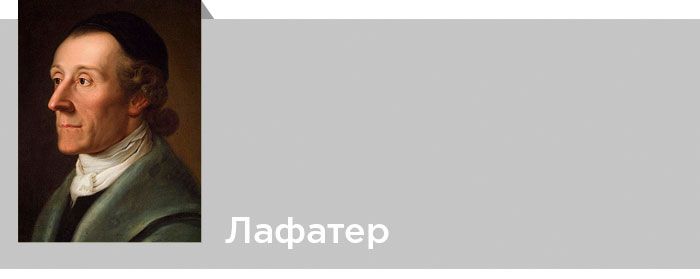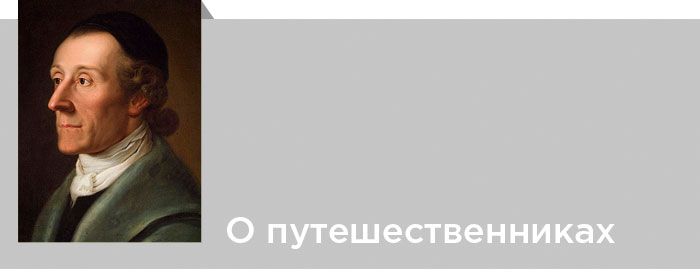Иоганн Каспар Лафатер: забытые пророчества

Николай Николаевич Непомнящий
(По материалам В. Астаховой)
Прославленный автор более пятидесяти опер, заслуживший при жизни памятник у театра Комической оперы в Париже, Андре Эрнест Модест Гретри (1741–1813) рассказал в своих «Мемуарах» об удивительном и самом горестном случае из своей жизни.
У него были три дочери-погодки: старшей — 16, средней — 15, младшей — 14 лет. Однажды зимним вечером вместе со своей матерью они отправились на бал, в дом, хорошо им знакомый. Его хозяйкой была приятельница их семьи. Гретри приехал туда с опозданием, после репетиции его оперы «Рауль Синяя борода». Эту оперу ставил театр «Комеди Итальенн».
Когда он вошёл в зал, танцы были в разгаре. Его дочери привлекали всеобщее внимание; все восхищались их красотой и скромным поведением, а жена композитора наслаждалась их успехом больше, чем они сами. Все стулья рядом с ней оказались заняты, и Гретри подошёл к камину, где стоял какой-то важный с виду господин. Гретри увидел, что и он не спускает глаз с его дочерей. Но смотрел он на девушек, наморщив лоб, в глубоком и мрачном молчании. Вдруг он обратился к композитору:
— Милостивый государь, не знаете ли вы этих трёх девиц?
Почему-то Гретри не сказал, что они — его дочери, а ответил сухо:
— Мне кажется, это — три сестры.
— И я думаю так же. Почти два часа они танцуют без отдыха, я смотрел на них всё это время. Вы видите, что все от них в восхищении. Нельзя быть прекраснее, милее и скромнее.
Отцовское сердце забилось сильнее, Гретри едва удержался от признания, что девушки — его дети. Незнакомец продолжал, голос его стал торжественным, с пророческими интонациями:
— Слушайте меня внимательно. Через три года ни одной из них не останется в живых!
Слова незнакомца произвели на Гретри ошеломляющее впечатление. Мрачный господин сразу же ушёл. Гретри хотел было последовать за ним, но не смог сдвинуться с места: ноги не слушались его. Придя в себя, он начал расспрашивать окружающих о странном человеке, но никто не сумел назвать его имени. Одно лишь выяснилось: он выдавал себя за физиогномиста, ученика знаменитого Лафатера.
«Странное сие предсказание оправдалось, — писал Гретри, — в течение трёх лет лишился я всех дочерей моих…»
Имя Иоганна Каспара Лафатера (1741–1801) сейчас забыто, так же как созданная им физиогномика. Не вспоминают и талантливейшего из его учеников — венского врача и анатома Франца Галля, дополнившего физиогномику френологией, теорией, согласно которой можно определить характер и судьбу человека по строению его черепа.
Галль жил в Париже с 1807 года. Возможно, что именно он и был тем предсказателем, имя которого безуспешно пытался узнать Гретри. Слава Галля едва не затмила славу его учителя Лафатера, так как френология вскоре стала более популярной, чем физиогномика.
Суть же физиогномики Лафатера сводилась к следующему. Человек — существо животное, моральное и интеллектуальное, то есть — вожделеющее, чувствующее и мыслящее. Эта природа человека выражается во всём его облике, поэтому, в широком смысле слова, физиогномика исследует всю морфологию человеческого организма. Так как наиболее выразительным зеркалом души человека является голова, то физиогномика может ограничиться изучением лица. Интеллектуальная жизнь выражена в строении черепа и лба, моральная — в строении лицевых мышц, в очертании носа и щёк, животные черты отражают линии рта и подбородка. Центр лица, его главная деталь — глаза, с окружающими их нервами и мышцами. Таким образом, лицо делится как бы на этажи, соответственно трём основным элементам, составляющим главную сущность каждого. Физиогномика изучает лицо в покое. В движении и волнении его изучает патогномика.
Разработав такую теорию, сам Лафатер не следовал ей на практике. С детства он любил рисовать портреты, был исключительно впечатлительным, и лица, поразившие его красотой или уродством, перерисовывал по многу раз. Зрительная память у него была великолепна. Он заметил, что честность и благородство придают гармонию даже некрасивому лицу.
Лафатер родился в Цюрихе, изучал там богословие и с 1768 года до самой смерти занимал должность сначала приходского дьякона, а потом пастора в своём родном городе. Он продолжал рисовать уши, носы, подбородки, губы, глаза, профили, анфасы, силуэты — и всё это с комментариями. Постепенно Лафатер поверил в свою способность определять по внешности ум, характер и присутствие (или отсутствие) божественного начала в человеке. Он имел возможность проверять верность своих характеристик на исповедях. В его альбомах были рисунки фрагментов лиц всей его паствы, портреты людей знакомых и незнакомых, выдающихся, великих и обыкновенных. Он анализировал в «Физиогномике» лица великих людей разных времён по их портретам, и некоторые характеристики производили впечатление гениальных догадок в области психологии.
По Лафатеру, у Фридриха Барбароссы глаза гения, складки лица выражают досаду человека, не могущего вырваться из-под гнёта мелких обстоятельств.
Для скупцов и сластолюбцев характерна выпяченная нижняя губа.
У Брута верхнее глазное веко тонко и «разумно», нижнее округло и мягко, что соответствует двойственности его характера — мужественного и вместе с тем чувствительного.
Широкое расстояние между бровями и глазами у Декарта указывает на разум не столько спокойно-познающий, сколько пытливо стремящийся к этому.
В мягких локонах Рафаэля проглядывает выражение простоты и нежности, составляющих сущность его индивидуальности.
У Игнатия Лойолы, бывшего сперва воином, затем — основателем ордена иезуитов, воинственность видна в остром контуре лица и губ, а иезуитство проявляется в «вынюхивающем носе» и в лицемерно полуопущенных веках.
Изумительный ум Спинозы ясно виден в широком пространстве лба между бровями и корнем носа.
Эти замечания, вкупе с соображениями относительно темпераментов, «национальных» физиономий увлекательны и интересны, но научной ценности при отсутствии научных методов наблюдений не имеют.
Изложение основ физиогномики всё время прерывается у Лафатера разными лирическими отступлениями: то он поучает читателя, то бранит врагов физиогномики, то цитирует физиогномические наблюдения Цицерона, Монтеня, Лейбница, Бэкона и других философов.
Кроме них, у него ещё были предшественники: древние греки — Аристотель и Зопир, определивший сущность Сократа и уверенный, что большие уши — признак тонкого ума; Плиний Старший, уверявший, что это совсем не так, но обладающий большими ушами доживёт до глубокой старости.
В своей «Физиогномике» Лафатер временами предаётся отчаянию при мысли о непознаваемости человеческой природы, иллюстрируя эту мысль изображением кающегося царя Давида, ослеплённого небесным светом. И действительно, проникновение в сущность человеческого характера у такого гения, как Шекспир, не требует описаний внешности. В его пьесах очень редко говорится о чертах лица, однако, читая их, представляешь и Гамлета, и Шейлока, и Отелло, и Яго…
С улыбкой читаешь у Лафатера о Гёте: «Гений Гёте в особенности явствует из его носа, который знаменует продуктивность, вкус и любовь, словом, поэзию». Кстати, о Гёте. Ещё до того как стать дьяконом в Цюрихе, юный Лафатер совершил путешествие по Германии и имел счастье познакомиться и подружиться с Гёте. В то время он уже собирал материал для своей «Физиогномики» (книга была опубликована в 1772–1778 годах сначала в Германии, затем — во Франции, со множеством рисунков лучших гравёров того времени).
В рассуждениях на тему «поэзия и правда» Гёте оставил привлекательный портрет своего друга: «Его кроткий и глубокий взгляд, его выразительный рот, простой швейцарский диалект, который слышался в его немецкой речи, и многое другое, выделявшее его среди других, давали всем, кто обращался к нему, — самое приятное душевное успокоение».
Гёте увлёкся его теорией и сам начал изучать (довольно поверхностно) черепа людей и животных. Не дождавшись научных объяснений физиогномики, он стал говорить о Лафатере как об очень добром человеке, но подверженном огромным заблуждениям. «Вполне строгая истина не вдохновляла его, он обманывал себя и других. Поэтому-то между мною и им дело дошло до полного разрыва. Последний раз я видел его в Цюрихе, причём он меня не заметил. Переодетый, я шёл по аллее и, увидев, что он идёт мне навстречу, свернул в сторону, так что он прошёл, не узнав меня. Своей походкой он напоминал журавля».
Лафатер верил в Калиостро и его чудеса. И когда его надувательства были разоблачены, Лафатер стал утверждать, что это был другой Калиостро, а истинный — святой человек.
Гибкий и длинный, с торчащим носом и выпуклыми глазами, всегда экзальтированный, Лафатер походил на взволнованного журавля. Таким он запомнился тем, кто его знал.
В 1781–1782 годах будущий император России Павел I и его жена Мария Фёдоровна — граф и графиня Северные (под таким псевдонимом по настоянию Екатерины Великой они путешествовали по Европе) побывали во многих странах. Одной из последних они посетили Швейцарию, и в Цюрихе Павел встретился с Лафатером. Павел попросил во всей полноте изложить его идеи и слушал его с большим интересом. Стремившийся в тот период своей жизни ко всему мистическому, он с наивным волнением замечал, что доктрины цюрихского философа дали очень много его душе.
В начале августа 1780 года Николай Михайлович Карамзин приехал в Цюрих (тогда в России говорили «Цирих») для встречи с Лафатером, с которым переписывался и «Физиогномику» которого изучал. Вот несколько фрагментов из его «Писем русского путешественника»:
«В карете дорогою. Уже я наслаждаюсь Швейцарией, милые друзья мои! Всякое дуновение ветерка проницает, кажется, в сердце моё и развивает в нём чувство радости. Какие места! Какие места!..
…Мы приехали в Цирих в десять часов утра… После обеда пойду — нужно ли сказывать, к кому?
В 9 часов вечера. Вошедши в сени, я позвонил в колокольчик, и через минуту показался сухой, высокий, бледный человек, в котором мне не трудно было узнать — Лафатера. Он ввёл меня в свой кабинет. Услышав, что я тот москвитянин, который выманил у него несколько писем, Лафатер поцеловался со мною — поздравил меня с приездом в Цирих, — сделал мне два или три вопроса о моём путешествии и сказал: „Приходите ко мне в шесть часов; теперь я ещё не кончил своего дела. Или останьтесь в моём кабинете, где можете читать и рассматривать, что вам угодно. Будьте здесь как дома“. — Тут он показал мне в своём шкапе несколько фолиантов с надписью: „Физиогномический кабинет“ и ушёл. Я постоял, подумал, сел и начал разбирать физиогномические рисунки. Между тем признаюсь вам, друзья мои, что сделанный мне приём оставил во мне не совсем приятные впечатления…
Лафатер раза три приходил опять в кабинет, запрещал мне вставать со стула, брал книгу или бумагу и опять уходил назад. Наконец вошёл он с весёлым видом, взял меня за руку и повёл — в собрание цирихских учёных… Небольшой человек с проницательным взором, — у которого Лафатер пожал руку сильнее, нежели у других, — обратил на себя моё внимание. При первом взгляде показалось мне, что он очень похож на С.И.И.Г. и хотя, рассматривая лицо его по частям, увидел я, что глаза у него другие, лоб другой и всё, всё другое, однако ж первое впечатление осталось, и мне никак не можно было разуверить себя в сём сходстве. Наконец я положил, что хотя и нет между ними сходства в наружней форме частей лица, однако ж оно должно быть во внутренней структуре мускулов! Вы знаете, друзья мои, что я ещё и в Москве любил заниматься рассматриванием лиц человеческих, искать сходства там, где другие его не находили, и проч. и проч., а теперь, будучи обвеян воздухом того города, который можно назвать колыбелью новой физиогномики, метоскопии,[2] хиромантии, подоскопии,[3] — теперь и вы бойтесь мне на глаза показаться!..
…Вы, конечно, не потребуете от меня, чтобы я в самый первый день личного моего знакомства с Лафатером описал вам душу и сердце его. На сей раз могу сказать единственно то, что он имеет весьма почтенную наружность: прямой и стройный стан, гордую осанку, продолговатое и бледное лицо, острые глаза и важную мину. Все его движения живы и скоры; всякое слово говорит он с жаром. В тоне его есть нечто учительское и повелительное, происшедшее, конечно, от навыка говорить проповеди, но смягчаемое видом непритворной искренности и чистосердечия. Я не мог свободно говорить с ним, первое, потому, что он, казалось, взором своим заставлял меня говорить как можно скорее, а второе, — потому, что я беспрестанно боялся не понять его, не привыкнув к цирихскому выговору.
11 августа. В 10 часов вечера. Пришедши в одиннадцать часов к Лафатеру, нашёл я у него в кабинете жену владетельного графа Штолберга, которая читала про себя какой-то манускрипт, между тем как хозяин (NB: в пёстром своём шлафроке) писал письма. Через полчаса комната его наполнилась гостями. Всякий чужестранец, приезжающий в Цирих, считает за должность быть у Лафатера. Сии посещения могли бы иному наскучить, но Лафатер сказал мне, что он любит видеть новых людей и что от всякого приезжего можно чему-нибудь научиться. Он повёл нас к своей жене, где пробыли мы с час, — поговорили о французской революции и разошлись. После обеда я опять пришёл к нему и нашёл его опять занятого делом. К тому же всякую четверть часа кто-нибудь входил к нему в кабинет или требовать совета, или просить милостыни. Всякому отвечал он без сердца и давал, что мог…»
Импульсом для создания «Физиогномики» явился для Лафатера случай. Однажды в доме приятеля молодой Лафатер, стоя у окна, увидел проходившего по улице господина.
— Взгляни, — обратился он к приятелю, — там идёт тщеславный и завистливый деспот, душе которого, однако, не чужды созерцательность и любовь к Всевышнему. Он скрытен, мелочен, беспокоен, но временами его охватывает жажда величественного, побуждающая его к раскаянию и молитвам. В эти мгновения он бывает добрым и сострадательным, пока снова не увязнет в корысти и мелких дрязгах. Он подозрителен, фальшив и искренен одновременно, в его речах всегда смешаны ложь и правда, и трудно понять, где одна, где другая. Он всё время думает о том, какое впечатление производит на окружающих.
— Да это же… — и приятель назвал фамилию господина. — Ты давно знаком с ним?
— Впервые вижу.
— Не может быть! Как же ты мог так точно определить его характер?
— По повороту головы.
Лафатер был отмечен перстом Всевышнего, у него был особый талант, интуиция, а быть может, — «мистический нюх». Опыт, знания, умение анализировать — всё это важно, но лишь в том случае, если есть этот дар Божий. Он не мог объяснить, как это у него получается. Иногда всё решала мельчайшая деталь, какой-нибудь едва заметный признак.
Он носил в себе живую идею о Христе и не понимал, как можно жить и дышать, не будучи христианином. Во всяком событии физического или морального плана он видел личное проявление Бога. Физиогномист и в то же время богослов, он старался найти на человеческих лицах отражение божественного. Когда-нибудь человек сделается физически и духовно совершенным отображением Бога — Лафатер в это верил.
Постепенно физиогномика сделалась главной целью его жизни, хотя он продолжал писать и проповедовать. Популярность его росла, и посещение им ряда городов Европы превратилось в триумфальное шествие. Он не только определял сущность людей, но и предсказывал им судьбу.
К нему начали приезжать, присылать портреты жён, невест, любовников (фотографию тогда ещё не изобрели), приводить детей. Иногда происходили курьёзы. Однажды он принял приговорённого к смерти преступника за известного государственного деятеля, но всё-таки в большинстве случаев он оказывался прав. О нём рассказывали чудеса.
Как-то в Цюрих приехал молодой красавец аббат. Лафатеру не понравилось его лицо. Прошло немного времени, и аббат совершил убийство.
Некий граф привёз к Лафатеру свою молодую жену. Ему хотелось услышать от знаменитого физиогномиста, что он не ошибся в выборе. Она была красавицей, и граф надеялся, что душа её так же прекрасна. Лафатер усомнился в этом и, чтобы не огорчать мужа, попытался избежать прямого ответа. Граф настаивал. Пришлось сказать, что в действительности Лафатер думал о его жене. Граф обиделся и не поверил. Через два года жена бросила его и окончила свои дни в публичном доме.
Одна дама привезла из Парижа дочь. Взглянув на ребёнка, Лафатер отказался говорить. Дама умоляла. Тогда он написал что-то на листе бумаги, вложил в конверт, запечатал и взял с дамы слово распечатать его не ранее чем через полгода. За это время девочка умерла. Мать вскрыла конверт и прочитала: «Скорблю вместе с вами».
Лафатер составил и свой собственный психологический портрет: «Он чувствителен и раним до крайности, но природная гибкость делает его человеком всегда довольным… Посмотрите на эти глаза: его душа подвижно-контрастна, вы получите от него всё или ничего. То, что он должен воспринять, он воспримет сразу или никогда… Тонкая линия носа, особенно смелый угол, образуемый с верхней губой, свидетельствует о поэтическом складе души; крупные закрытые ноздри говорят об умеренности желаний. Его эксцентричное воображение содержит две силы: здравый рассудок и честное сердце. Ясная форма открытого лба выказывает доброту. Главный его недостаток — доверчивость, он доброжелателен до неосторожности. Если его обманут двадцать человек подряд, он не перестанет доверять двадцать первому, но тот, кто однажды возбудит его подозрение, от него ничего уже не добьётся…»
Он был убеждён, что характеристика беспристрастна.
Поклонники боготворили Лафатера, считали его провидцем. Великие писатели и поэты изучали физиогномику для того, чтобы описания героев их произведений точнее соответствовали их внутреннему миру. Со ссылкой на Лафатера Михаил Юрьевич Лермонтов характеризует внешность Печорина в «Княгине Лиговской». Соответствия портретных характеристик с физиогномикой есть во многих произведениях Лермонтова. В феврале 1841 года Лермонтов в письме к А. И. Бибикову сообщил, что покупает книгу Лафатера.
Замечателен портрет ханжи и негодяя Урии Гипа у Диккенса, вызывающий отвращение у читателя при первом же знакомстве: «Низенькие двери под аркой отворились, и то же самое лицо появилось в них снова. Несмотря на замечавшийся в нём красноватый оттенок, свойственный коже большинства рыжеволосых людей, оно показалось мне так же похожим на лицо мертвеца, как и в то мгновение, когда выглядывало перед тем из окна. Владелец его был действительно рыжий юноша всего только пятнадцати лет, как я узнал впоследствии. Тогда же он показался мне значительно старше. Рыжие его волосы были до чрезвычайности коротко обстрижены под гребёнку. Бровей у него почти вовсе не было, ресницы же окончательно отсутствовали. Это придавало его красно-карим глазам совершенно особенное выражение. Они были до такой степени лишены надлежащей тени и покрова, что я не мог представить себе, каким образом устраивался обладатель их для того, чтобы спать. Это был плечистый и костлявый юноша в чёрном сюртуке и таковых же брюках и белом галстуке. Костюм казался мне приличным, а сюртук был застёгнут на все пуговицы. Особенно бросалась мне в глаза длинная худощавая рука юноши, напоминавшая руку скелета…»
Далее Диккенс описывает, как этот юноша любил беспрестанно потирать руки и временами насухо вытирать их носовым платком. Когда же он пальцем проводил по листу бумаги, «казалось, что остаётся на ней мокрый и скользкий след, как от улитки…»
Оноре де Бальзак в «Человеческой комедии», в части, которая называется «Крестьяне», основываясь на физиогномике Лафатера, даёт такую портретную характеристику одному из героев — Тонсару: «Он скрывал свой истинный характер под личиной глупости, сквозь которую иногда поблёскивал здравый смысл, походивший на ум, тем более что от тестя он перенял „подковыристую речь“. Приплюснутый нос, как бы подтверждающий поговорку „Бог шельму метит“, наградил Тонсара гнусавостью, такой же, как у всех, кого обезобразила болезнь, сузив носовую полость, отчего воздух проходит в неё с трудом. Верхние зубы торчали вкривь и вкось, и этот, по мнению Лафатера, грозный недостаток был тем заметнее, что они сверкали белизной, как зубы собаки. Не будь у Тонсара мнимого благодушия бездельника и беспечности деревенского бражника, он навёл бы страх даже на самых непроницательных людей».
Последователей Лафатера в писательской среде было очень много. «Физиогномика» предоставляла богатейший материал для создания образов выдуманных героев. Им пользовались и поклонники великого физиогномиста, и те, кто о нём не слышал. Рассказы о приметах внешних черт, соответствующих той или иной особенности характера, распространялись среди представителей разных слоёв общества и уже не требовали ссылок на первоисточник. Тонкие губы — у злого человека, толстые — у доброго. Чёрный глаз опасен, голубой — прекрасен. Подбородок, выдающийся вперёд, — у волевых людей, скошенный — у слабовольных и т. д. и т. п.
Особенно впечатляющей оказалась легенда о «петлистых ушах». Её приводит Иван Бунин в рассказе с таким же названием: «У выродков, у гениев, бродяг и убийц уши петлистые, то есть похожие на петлю, — вот на ту самую, которой давят их».
И всё было бы прекрасно, если бы каждый мог, как Лафатер, определять характер и предсказывать судьбу, основываясь на его теории. Но так как этого не происходило — не получалось закономерностей, а были лишь случайные совпадения, — физиогномику начали забывать и, мало того, высмеяли как лженауку.
Одним из вошедших в историю курьёзов оказалась попытка определить характер Чарлза Дарвина последователем и почитателем Лафатера, капитаном парусного корабля «Бигль» Фицроем, который верил в физиогномику как в систему, не подлежащую критике. Он был убеждён, что сможет определить способности каждого из приходивших к нему кандидатов на должность натуралиста в кругосветном плавании по форме носа. Внимательно вглядываясь в лицо Дарвина, он почувствовал некоторое сомнение в том, что у человека с подобным носом хватит энергии и решимости вынести предстоящее путешествие. К счастью, Фицрой сумел преодолеть свои сомнения и позднее вынужден был признать, что ошибся.
Жизнь цюрихского пастора не была бы ничем омрачена, если бы он не выразил вслух протест против оккупации Швейцарии французами в 1796 году. За это его выслали из Цюриха, но через несколько месяцев он вернулся. Возобновились его проповеди и рассуждения на моральные темы, ничего не прибавлявшие ни к его славе физиогномиста, ни к славе литератора. Он написал несколько произведений на библейские темы и сборников религиозной лирики, но как поэт он не создал ничего замечательного. Всё, что он писал или говорил, характеризовало его как личность обаятельную и добросердечную. Слова «вера» и «любовь» были для него тождественны. Он постоянно искал компромисс между взглядами Церкви и общества. Он пытался даже примирить животный магнетизм Месмера с наукой и религией одновременно.
Его гибель в 1801 году была результатом наивно-идеалистического взгляда на вещи. Он вздумал пуститься в душеспасительные рассуждения с пьяными французскими мародёрами. Один из них выстрелил в него. От этой раны Лафатер и умер. Перед смертью он простил убийцу и даже посвятил ему стихотворение. Знал ли Лафатер, провидец судеб стольких людей, какая судьба ожидает его самого? На это у него нет никаких указаний. «Если бы располагали точными изображениями людей, кончивших жизнь на эшафоте (такая живая статистика была бы крайне полезна для общества), — писал Бальзак, — то наука, созданная Лафатером и Галлем, безошибочно доказала бы, что форма головы у этих людей, даже невинных, отмечена некоторыми странными особенностями. Да, рок клеймит своей печатью лица тех, кому суждено умереть насильственной смертью».