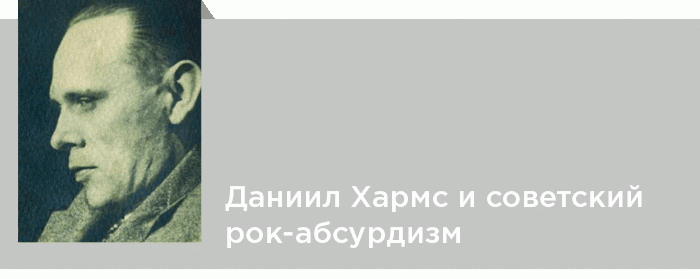«Книги-то, чай, чернилами пишутся!» (К интерпретации одного рассказа для детей Д. Хармса)

УДК 821.161.1-1
DOI 10.17223/18137083/58/8
А. Н. Губайдуллина
Томский государственный университет
«Книги-то, чай, чернилами пишутся!» (К интерпретации одного рассказа для детей Д. Хармса)
Рассказ Даниила Хармса «Как старушка чернила покупала» может быть отнесен к числу детских книг с двойной адресацией (рассчитанных на прочтение не только детьми, но и взрослыми). Текст был написан в 1928 г. и во многом явился свидетельством эпохи. В рассказе есть автобиографический и метатекстовый уровни, а также развернутая система символов, позволяющая прочитывать в этом произведении гибель человека старой эпохи в новой, постреволюционной, действительности. Трагическое настроение рассказа Хармса перекликается с интонацией современников, пишущих для детей: Н. Заболоцкого, О. Мандельштама.
Ключевые слова: Даниил Хармс, Самуил Маршак, Николай Заболоцкий, детская литература, старуха, чернила.
A. N. Gubaydullina
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation.
«Books are written with ink, aren’t they?» (Interpreting a story for children by Daniil Harms)
«How an old lady was buying some ink» written by Daniil Harms can be attributed to the children's books addressed not only to children, but also to adults. The story was written in 1928 and published as a separate book for children in 1929 though immediately prohibited for distribution in libraries, probably because it was the evidence of that age. The story has autobiographical and meta-textual levels and features the detailed system of symbols that allows one to discover the death of old age man taking place at the new, post-revolutionary, reality in this work. A tragic perception of the age by Harms echoes with the tone of his contemporaries who wrote for children: Nikolay Zabolotsky and Osip Mandelshtam.
Keywords: Daniil Kharms, Samuil Marshak, Nikolay Zabolotskiy, literature for children, crone, ink.
Рассказ Даниила Хармса «О том, как старушка чернила покупала» вышел отдельным изданием для детей в 1929 г. и попал в число книг, «не рекомендуемых для массовых библиотек» как «бессмысленный юмористический рассказ» [Блюм, 2003, с. 181]. В начале 1928 г. писатель намечает в своих записных книжках краткую канву этой истории: «Пошла одна старушка / старушка в платочке / по улицам по городу / чернила покупать. // Но было очень холодно / на улице и в городе» [Хармс, 2002, т. 1, с. 212] – и позже, весной 1928, делает там же отметку о необходимости сдачи рассказа «Старушка и чернила» в печать к июню текущего года [Там же, с. 226].
Как известно, время создания произведения – 1928 г. – период активной работы автора в пространстве детской литературы, год возникновения журнала «Ёж», где печатались тексты С. Маршака, Н. Олейникова, А. Введенского, Н. Заболоцкого. С другой стороны, 1928 г. был сложным для детских писателей (обвинения в адрес К. Чуковского, борьба со «сказочностью», последовательное утверждение образа ребенка-борца как идеального человека новой эпохи).
Рассказ Хармса «о старушке» интересен не только маленькому, но и взрослому читателю. Как многие сочинения автора, данный рассказ принадлежит к числу текстов с «двойным кодированием» [1] и передает настроение, дух времени, а также представления Хармса о творчестве. Фабульно текст прост и основан на привычной для Хармса кумулятивности: старушка блуждает по городу в поисках чернил, многократно попадая из-за своей рассеянности в повторяющиеся нелепые ситуации. В конце концов она находит в издательстве не только чернила, но и писателя, который решает рассказать о ее приключениях. Таким образом, рассказ закольцовывается. Хармс в очередной раз акцентирует внимание на том, как создается текст, на самом процессе текстопорождения.
Героиня истории встраивается в ряд хармсовских «старух», предвосхищая их появление («Вываливающиеся старухи», 1936–1937; повесть «Старуха», 1939). В детском рассказе нет явного мортального сюжета, который актуализируется в связи с темой старости в его «взрослых» текстах.
«Хармсовский поэтический мир образуют символические образы смерти: дворники, сторожа, старики / старухи, дети, всадники, кони. <…> Старики / старухи и дети у Д. Хармса являются маркерами границы между жизнью и смертью, символизируют собой переход в разные бытийные топосы. Старость и детство неизменно связаны с категорией “времени”, которой подвластно превратить человеческое существование в одно мгновение» [Малыгина, 2009, с. 85]. Уменьшительно-ласкательный суффикс («старушка») детского текста смягчает негативные коннотации, однако косвенно тема смерти / небытия все же проявлена. Старушка живет на Кособокой улице, в доме № 17 (к слову, можно усмотреть в номере визуальный параллелизм числа 17 с числом 11 – номером дома самого Хармса на улице Надеждинской). Кособокость становится признаком ущербности, жалкости. Жизнь героини отчетливо делится на прошлое и настоящее, в полной мере определяясь «дуалистичностью», о которой в рамках интерпретации повести «Старуха» говорит Юсси Хейнонен. «Что касается категории времени, Хармс применяет свою модель, установив, что “прошлому” соответствует это, а “будущему” то между тем, как “настоящее” функционирует в качестве препятствия, отделяющего это от того» (курсив автора. – А. Г.) [Хейнонен, 2003, с. 10]. Рассказ начинается с противопоставления прошлой и современной жизни персонажа: «Когда-то жила она вместе со своим мужем и был у нее сын. Но сын вырос большой и уехал, а муж умер, и старушка осталась одна» [Хармс, 1929, с. 5]. Социальная ценность существования старушки редуцирована: «Жила она тихо-мирно, чаёк попивала, сыну письма писала, а больше ничего не делала» [Там же, с. 6]. По ходу действия рассказа героине постоянно пеняют, что она «с луны свалилась» (фраза в небольшом тексте повторяется 6 раз); ее сын работает лесничим и «тут не живет» [Там же, с. 24], что тоже подчеркивает принадлежность героини другому миру, ее маргинальность в пространстве социума и онтологии.
С другой стороны, обособленность героини, ее условная инобытийность связана не только с идеей смерти, но и с темой уходящего мира, невосстановимо разрушенного прошлого. Портретные характеристики старушки намекают на ее буржуазность: «В руках у нее зонтик с большой блестящей ручкой, а на голове шляпка с черными блестками» [Там же, с. 7]. Шляпка с вуалеткой как признак изысканности к 1920-м гг. имела устойчивый негативный имидж. М. A. Николаева в своей работе «Динамика образа врага в советском плакате (1918–1941)…» упоминает шляпу и зонт как признаки классового врага. Если шляпа идентифицировалась обывателем как признак буржуазности [Николаева, 2012, с. 381], то зонт в 1920-е гг. появлялся на плакатах как маркер мелкобуржуазной интеллигенции, понимаемой широко [Там же, с. 384]. В начале рассказа старушка заходит в керосинную лавку и просит «французских булок» [Хармс, 1929, с. 6]. Помимо ситуативного комизма, подобного приключениям человека рассеянного с улицы Бассейной («Он отправился в буфет / Покупать себе билет. / А потом помчался в кассу / Покупать бутылку квасу» [Маршак, 2003, с. 202]), подспудно утверждается неразумность воспоминаний о французских булках в послереволюционной стране:
Приказчики смеются:
– Да вы что, гражданка, откуда ж у нас французские булки? С луны вы что ли свалились!» [Хармс, 1929, с. 6].
Обращение «гражданка» усиливает контраст между эпохами. Так, образ старушки связывается Хармсом с образом уходящей интеллигенции дореволюционного времени.
Основной конфликт рассказа связан с неспособностью «бывшего» человека выжить в «новое» время. Путешествие по городу в поисках чернил является для старушки чередой испытаний со стороны незнакомой реальности. При этом обновленный мир можно рассматривать в социальном аспекте (отношения «бывших» / «нынешних» людей), а можно – как утверждение новой, техногенной, цивилизации.
Социальные отношения деструктивны. Те, с кем старушка встречается на улице, так или иначе представляют для нее угрозу. Первые, кого старушка видит, – это дворники. В рассказах Хармса дворник «всегда находится рядом с умершим, присутствует в момент проводов человека в загробный мир, олицетворяя собой смерть, страшное предзнаменование конечности и хрупкости мирской жизни» [Малыгина, 2009, с. 6]. Для старушки путешествие по городу становится метафорой умирания; дворник гонит ее по дороге струей воды.
Вне дома в полной мере проявляется беспомощность героини в реальности. Соседи и приказчики смеются над ней, «толстый и свирепый» мясник «ревет» [Хармс, 1929, с. 10], а уличные гастролеры кричат на нее: «…как закричит туда, прямо старушке в лицо, да так, что за семь верст услыхать можно» [Там же, с. 15]. Со старушкой обращаются, как с безвольным неживым предметом: толкают, хватают, тащат.
С одной стороны, можно принять социальную враждебность за страх героини перед шумным, деятельным миром: в таком случае угроза существует лишь в ее сознании, а реальность расположена к ней благожелательно (молодой человек, хватая старушку, помогает перейти через дорогу; продавцы готовы продать ей еду; проезжающие артисты просто громко рекламируют выступление). С другой стороны, ощущение враждебности мира в детском рассказе становится отражением той социальной деструкции, которая в полной мере проявлена во «взрослом» творчестве Д. Хармса.
Действительность в рассказе связана с потреблением и развлечениями. Бóльшая часть пути старушки проходит по базару, где ей предлагают купить разную пищу. Исторический контекст написания произведения связан с концом НЭПа. Во второй половине года (октябрь 1928 г.) началось осуществление первого пятилетнего плана развития народного хозяйства, руководство страны взяло курс на ускоренную индустриализацию и коллективизацию, что, по сути, означало отказ от новой экономической политики и усиление давления на крестьянство.
В рассказе Хармса изобилие еды связано с завоеванием мира новыми людьми. М. Бахтин отмечал, что символическое соединение поглощающего и поглощаемого знаменует торжество жизни над смертью и находит отражение в древних мотивах воскресения [Бахтин, 1990, с. 166]. В рассказе «Как старушка чернила покупала» героине последовательно предлагают купить рыбу, мясо, чернослив, то есть продукты трех сфер, стихий: водной (рыба), земной (мясо), воздушной, либо древесной (чернослив, растущий вверху, на ветвях дерева). В символическом плане можно прочитывать это так: новому человеку подчинены все сферы бытия.
Примечательно, что в том же 1928 г. Николай Заболоцкий пишет стихотворение «Начало осени» [Заболоцкий, 1983, с. 73], образная система и композиция которого ассоциативно перекликаются с рассказом «Как старушка чернила покупала». Стихотворение начинается с образа старух, маргинальных по отношению к сильной, действенной «вселенной»: «Старухи, сидя у ворот, / Хлебали щи тумана, гари». Старухи у Заболоцкого столь же беспомощны и бесплотны, как старушка Хармса, кормятся нематериальной пищей(«щи тумана»). Образам стариков противопоставлен герой – «пролетарий», который «скреплял периферию». Герой нового времени становится центром мира. Он так же могущественен и силен, как персонажи детского рассказа Хармса, управляет не только социумом, но и природным космосом: «И ветр ломался вкруг него»; «В его глазах – начатки знанья, / Они потом уходят в руки, / В его мозгу на состязанье / Сошлись концами все науки». При этом человек столь же материалистичен, как у Хармса; он аккумулирует вокруг себя все природные дары: «Приходит соболь из Сибири, / И представляет яблок Крым, / И девка, взяв рубля четыре, / Ест плод, любуясь молодым». Стихотворение воплощало бы торжество изобилия и победу человека над миром, если бы не финал, который вносит трагическую ноту в сюжет: «Качался клен, крича от боли, / Качался клен, и выстрелом ума / Казалась нам вселенная сама». Мотивы «боли» и «выстрела» сопрягают жизнь со смертью. Человек насильственно трансформирует мир. Кроме того, в последней строке появляется другой коллективный герой (местоимение 1-го лица, множественного числа); в текст вводится переживание наблюдателя, столь же периферийного, как и старухи, вытесненного в коду стихотворения. (Сравним с композицией рассказа «Как старушка чернила покупала»: начало – представление нелепой, маргинальной героини; развитие – утверждение плотской антропоцентричной реальности; финал – появление героя-писателя, наблюдающего и фиксирующего описанный конфликт. Соединяются два времени: мета-время рассказывания истории и время «старушки»). Трудно говорить об определенном влиянии одного из текстов (Хармса и Заболоцкого) на другой, но можно говорить об общем писательском настроении и чувстве ненужности, переданном в и том и в другом случаях.
Вернемся к мотиву торговли и товарам хармсовского рассказа. Первым, кого старушка встречает на базаре, является продавец рыбы. Исследователи отмечали значимость образа рыбы для Хармса и в другом аспекте – как олицетворение образа Христа [Малыгина, 2009, с. 84]. В данном рассказе упоминается судак: «стоит какой-то парень и продает судака большого и сочного, длиной с руку, толщиной с ногу» [Хармс, 1929, с. 8]. Именно судак наравне с щукой и осетром применялся в православной кулинарии для приготовления пирогов «на монастырское дело» [Алексеев, 2008]. Анализируя рассказ А. П. Чехова «Человек в футляре», где герой ест судака, И. Н. Островских утверждает: данная диета свидетельствует о том, что Беликов полумертвый, так как «рыба в символическом смысле является своего рода медиатором между миром живых и миром мертвых» [Островских, 2004, с. 262]. Подобное рассуждение применимо и к героине хармсовского рассказа, пребывающей между жизнью и смертью и приближающейся к последней. В рассказе есть и вторая аллюзия на христианскую мифологию: старушка встречает вестников на ослах, несущих послание. «На переднем осле сидит верхом человек и держит в руках большущее знамя. На других ослах тоже люди сидят и тоже в руках вывески держат» [Хармс, 1929, с. 14]. Распространенный мотив въезда Христа в Иерусалим на осле [Топоров, 1980, с. 764], на наш взгляд, в рассказе Хармса не только обыгрывается (ср.: знамя / знамение), но и профанируется. Если христианский мессия несет людям мудрость и спасение, то у Хармса на ослах едут цирковые артисты Дурова, которые обещают публике развлечение и легкое удовольствие. Цирк Анатолия Анатольевича Дурова начал гастролировать в России после 1925 г., когда руководитель вернулся из-за рубежа (его отъезд за границу в 1919 г. был реакцией на обвинение в антивоенном выступлении, суд и ссылку) и снова принял российское гражданство. После 1926 г. Дурова обвиняют в аполитичности. В 1928 проходят его последние выступления: в октябре Анатолий Дуров погибает на охоте при нелепых обстоятельствах. В этой связи традиционная рекламная фраза в рассказе Хармса: «Спешите увидеть гастроли Дурова. <…> Последняя неделя!» [Хармс, 1929, с. 15] – приобретает оттенок трагической иронии.
Старушка принимает ослов за современное транспортное средство: «Должно быть это теперь на ослах как на трамваях ездят» [Там же]. В двадцатистраничной детской книге упоминается почти весь транспорт начала ХХ в.: извозчики, автомобили, трамваи, мотоциклет… Улица представляет собой пространство непрерывного движения и изменения. Чувство безысходности нарастает у старушки на «шумной» дороге. Целенаправленному движению обитателей улицы противопоставлена ее хаотическая беготня.
Неоднозначная оценка Хармсом техногенной революции перекликается с представлениями других писателей-современников. В детской литературе С. Маршак, О. Мандельштам выразили не только привлекательность динамичного мира, но и страх интеллигенции оказаться лишней, не успеть за новыми скоростями. «Мандельштам в детском стихотворении использует те же элементы трамвайной образности, которые Р. Тименчик находит в поэзии Серебряного века в целом: обращает внимание на глаза трамвая; подчеркивает огненные признаки (огни города, моргающее электричество, фейерверк), которые вызывают у поэтов начала ХХ в. астральные ассоциации; вводит тему усталости, которая сопровождает трамваи у К. Большакова, В. Маяковского, И. Эренбурга. В центре стихотворения “Клик и Трам” оказывается тема пугающего нового времени, разных стратегий выживания и взаимопомощи. <…> За бортом “трамвайной” жизни оказываются люди искусства (опоздавший настройщик), не вписавшиеся в динамичное время. <…> Лишним человеком становится и рассеянный С. Я. Маршака – герой, инварианты которого существуют, как минимум, в трех детских стихотворениях, связанных с трамваем: в книге “Дураки” (1924) – неграмотный Егорка… в книге “Лев Петрович” (1926) – нелепый профессор, который не может дождаться трамвая… кроме того, первый эпизод из стихотворения “Вот какой рассеянный”, опубликованный в журнале “Пионер” (1928), представлял собой именно “Случай в трамвае”. Интеллигентные герои С. Я. Маршака, как и детские персонажи О. Мандельштама, в 1920-е гг. предстают беспомощными перед диктатом прагматики, и образ трамвая помогает это заметить» [Губайдуллина, 2012, с. 133]. В рассказе Хармса о старушке к средствам транспорта могут быть также причислены движущиеся стеклянные двери и лифт, знаменующие пограничный кордон при переходе в другой мир – пространство издательства.
Книжное издательство – единственное место, где старушка находит чернила. Хозяевам обновленной постреволюционной действительности подвластны быт и цивилизация, однако им недоступна область культуры. Безусловно, ситуация отсутствия чернил имеет реальные исторические предпосылки: 1910–1920 гг. – время советского «бумажного кризиса», когда не хватало канцелярских принадлежностей, а чернила приходилось в некоторых случаях заменять свекольным соком [Сальникова, 2011, с. 121]. В то же время важен более глубокий уровень интерпретации сюжета. Лейтмотивная фраза об отсутствии чернил в рассказе намекает на прагматичность, духовную нищету общества. Характерно, что персонажи не только не имеют чернил, но даже не понимают с первого раза, о чем говорит старушка:
– Чернила? – переспросил он.
– Чернила.
– Чернила? [Хармс, 1929, с. 9]
Или:
А человек на осле не расслышал видно, что старушка ему сказала… [Там же, с. 15]
Картина меняется, когда лифт транспортирует старушку на шестой этаж здания с книжным магазином внизу. Дом «гудит, как швейная машинка» [Там же, с. 22]. Хармс отсылает читателя к образу ленинградского «зингеровского» дома (знакомого горожанам также как Дом книги), где начиная с 1925 г. размещалась Детская редакция Государственного издательства – Детгиз. Детский отдел занимал три комнаты на пятом этаже, которые раньше принадлежали фирме «Зингер». Редакцией в то время руководил С. Я. Маршак, в здании постоянно бывали А. И. Введенский, Н. А. Заболоцкий, Л. С. Липавский, Д. И. Хармс, Е. Л. Шварц, Б. С. Житков и другие авторы. В рассказе лифт привозит старушку на шестой этаж (верхний в реальном «зингеровском» доме), Хармсу важно подчеркнуть, что «выше некуда» [Там же]. Конечная точка путешествия оказывается мифологизированным местом, описывается как «большая, светлая комната» [Там же]. Известно, что на крыше «Дома книги» находится скульптурная группа, которую составляют валькирии, одна из них держит веретено и швейную машинку. Также на фасаде есть атрибуты бога Меркурия: посох вестника и дорожная шапка с крыльями. Символически верхний этаж знаменует в рассказе Хармса верхний мир, божественное, демиургическое пространство (не случайно автором редакция сравнивается с «кузницей»: местом, где создается нечто новое [Там же, с. 23]). Но Меркурий, Гермес также является проводником душ умерших [Тахо-Годи, 1980, с. 241], что позволяет интерпретировать итог путешествия старушки как смерть и проникновение в идеальный верхний мир. Косвенно эта логика подтверждается тем, что ранее старушка «у мужа чернила брала, а теперь муж умер» [Хармс, 1929, с. 24] Обстоятельства смерти мужа в рассказе не поясняются, но, как имеющий чернила, он может быть причислен к числу пишущих людей, интеллигентов. Добывая в конце концов чернила, старушка причисляется к группе посвященных. К ним же относятся и два писателя, встреченные ею в редакции: «толстый» и «тонкий». Образ «тонкого», постоянно завязывающего шнурки на сапогах, отсылает к самому Хармсу – щеголеватому автору, берущемуся описать мытарства старушки. Что касается образа «толстого», его прототип не может быть определен с точностью, но можно высказать гипотезу, что Хармс ввел в рассказ фигуру С. Маршака, что подтверждается вставным эпизодом, связанным с обсуждением детского рассказа, который написал толстый человек. Отрывок рассказа «о мальчике, который лягушку проглотил» [Там же, с. 23] не узнается напрямую из детской литературы, но стилистически и интонационно напоминает отрывок сказки Маршака «Усатый-полосатый». Сравним:
| В рассказе Хармса | В сказке Маршака |
| Пришел этот мальчик домой, отец его спрашивает, где ты был, а лягушка из живота отвечает: ква-ква! Или в школе: учитель спрашивает мальчика, как по-немецки «с добрым утром», а лягушка отвечает: ква-ква! Учитель ругается, а лягушка: ква-ква-ква! Вот какой смешной рассказ [Хармс, 1929, с. 23]. | Стала девочка учить котенка говорить: |
Несмотря на то, что Хармс изменяет героев и сказочный конфликт, он сохраняет лингвистическую игру, нарушенную коммуникацию с животным, говорящим на своем «языке». Сохраняется троекратное повторение голоса животного, причем в последнем случае «ответ» удлиняется. Фраза «Вот какой смешной рассказ» воспроизводит конструкцию лейтмотивной фразы сказки Маршака «Вот какой глупый котенок!». Сказка «Усатый-полосатый» была впервые опубликована в № 6 журнала «Ёж» за 1929 г. Можно предположить, что она обсуждалась в редакции и Хармс был свидетелем ее создания.
Биографический пласт рассказа «Как старушка чернила покупала» стимулирует игру с читателем на узнавание реалий современности и знакомых авторов. Рассказ превращается в метатекст: текст о процессе письма. С точки зрения читателя-ребенка, рассказ имеет счастливый финал: старушка обретает то, что ищет, и получает новых приятелей, близких ей по духу.
Однако если раскодировать символику пути старушки как движение от житейской неустроенности, неустойчивости положения в новом мире – к смерти и вознесению в верхний мир (с промежуточными знаками умирания и проводниками-медиаторами: дворники – продавец рыбы – мессия на осле – дверь как мост между мирами…), то картина хармсовского рассказа кажется, скорее, пессимистичной. Не случайно лифт описывается как «комната, совсем крохотная, не больше шкафа» (читай: гроб) [Хармс, 1929, с. 21], а подъем старушки в лифте подается как физическая смерть: «Старушка стоит, шевельнуться не смеет, а в груди у нее будто камень расти начал. Стоит она и дышать не может» [Там же]. В такой интерпретации писатели, встреченные старушкой наверху, являются жителями верхнего, духовного пространства, но не земной цивилизации и столь же нежизнеспособны, как и главная героиня. Любопытно, что примерно в то же время, когда был написан рассказ (начало 1929 г.), в записных книжках Хармса появляется «устав (“сустав”) дозорных на крыше Госиздата», предполагающий членство Хармса, Левина, Владимирова, которым вменяются в обязанности функции богов:
Нельзя город оставлять без призора.
А кто за городом смотреть будет, как не я? Если где беспорядок какой, так сейчас-же мы его и прекратим [Хармс, 2002, т. 2., с. 168].
Дозорный должен следить за порядком в городе как-то:
а) чтобы люди ходили не как попало, а так как им предписано самим Господом Богом [Там же, с. 169].
Рассказ «Как старушка чернила покупала» можно прочитывать как латентную молитву, мечту автора о спасении человека пишущего, о вознесении интеллигенции и обретении покоя и права на свободное слово в божественном высшем мире.
Детский рассказ выдает латентные страхи автора перед дисгармоничной реальностью и оказывается не столь «бессмысленным», как его увидела критика. Впрочем, запрет этого детского текста для массового чтения мог основываться совершенно не на легковесности и «юмористичности».
Список литературы
- Алексеев Д. Тайны православной кухни // Взгляд: Деловая газета. 2008. 16 апр.
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990. 544 с.
- Блюм А. В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 1917– 1991. Индекс советской цензуры с комментариями. СПб., 2003. Т. 1. 404 с.
- Губайдуллина А. Н. Символика трамвая в поэзии ХХ века для детей // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2012. Т. 70, вып. 6. С. 132–135.
- Заболоцкий Н. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1983. Т. 1: Столбцы и поэмы 1926–1933. 655 с.
- Лотман Ю. М. Чему учатся люди. Статьи и заметки. М., 2009. 416 с.
- Малыгина И. Ю. Человек и способы его изображения в поэзии Д. Хармса // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009. Т. 2, № 3. С. 83–85.
- Маршак С. Избранное: стихи, сказки, переводы. М., 2003. 701 с.
- Николаева М. Ф. Динамика образа врага в советском плакате (1918–1941) и модели идентификации советского человека // Диалог со временем. 2012. Вып. 39. С. 372–386.
- Островских И. Н. Рассказ А. П. Чехова «Человек в футляре»: мотив смерти как возвращение к пренатальному состоянию // Культура и текст. 2004. № 7. С. 260– 265.
- Сальникова А. А. «Детское письмо» и его специфика // Детство в научных, образовательных и художественных текстах: опыт прочтения и интерпретации: Сб.
- науч. ст. и сообщ. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2011. С. 116–123.
- Тахо-Годи А. Гермес // Мифы народов мира: Энцикл.: В 2 т. М., 1980.
- Топоров В. Н. Осел // Мифы народов мира: Энцикл.: В 2 т. М., 1980.
- Хармс Д. О том, как старушка чернила покупала. М.; Л.: Госиздат, 1929. 28 с.
- Хармс Д. Записные книжки. Дневник: В 2 кн. СПб., 2002. 480 с.
- Хейнонен Ю. Это и то в повести «Старуха» Даниила Хармса. Helsinki, 2003. 234 с.
References
- Alekseev D. Tayny pravoslavnoy kukhni [The secrets of Orthodox cuisine]. Vzglyad: Delo- vaya gazeta. 2008, 16 apr.
- Bakhtin M. M. Tvorchestvo Francois Rabelais i narodnaya kul’tura Srednevekov’ya i Re- nessansa [Creativity by Francois Rabelais and popular culture of the Middle Ages and the Renaissance]. Moscow, Khudozh. lit., 1990, 544 p.
- Blyum A. V. Zapreshchennye knigi russkikh pisateley i literaturovedov. 1917–1991. Indeks sovetskoy tsenzury s kommentariyami [Forbidden books of Russian writers and literary critics. 1917–1991. List of Soviet censorship with comments]. St. Petersburg, 2003, vol. 1, 404 p.
- Gubaydullina A. N. Simvolika tramvaya v poezii XX veka dlya detey [The symbolism of the tram in the twentieth century poetry for children]. Ivzestia of the Volgograd State Pedagogical University. 2012, vol. 70, no. 6, pp. 132–135.
- Heinonen J. Eto i to v povesti “Starukha” Daniila Kharmsa [This and that in the story “Old Woman” by Daniil Kharms]. Helsinki, Slavica Helsingiensia 22, 2003, 234 p.
- Kharms D. O tom, kak starushka chernila pokupala [About old woman who bought the ink]. Moscow, Leningrad, Gosizdat, 1929, 28 p.
- Kharms D. Zapisnye knizhki. Dnevnik: V 2 kn. [Notebooks. A diary: in 2 books]. St. Petersburg, 2002, 480 p.
- Lotman Yu. M. Chemu uchatsya lyudi. Stat’i i zametki [What people learn. Articles and notes]. Moscow, 2009, 416 p.
- Malygina I. Yu. Chelovek i sposoby ego izobrazheniya v poezii D. Kharmsa [Man and the ways of image in the poetry of Daniil Kharms]. Actual problems of the humanities and natural sciences. 2009, vol. 2, no. 3, pp. 1–7.
- Marshak S. Izbrannoe: stikhi, skazki, perevody [Favorites: poems, stories, translations]. Moscow, 2003, 701 p.
- Nikolaeva M. F. Dinamika obraza vraga v sovetskom plakate (1918–1941) i modeli identifikatsii sovetskogo cheloveka [Image of the enemy in its dynamic in Soviet poster (1918– 1941) and models of identification of the Soviet man]. Dialogue with Time. 2012, iss. 39, pp. 372–386.
- Ostrovskikh I. N. Rasskaz A. P. Chekhova “Chelovek v futlyare”: motiv smerti kak vozvra- shchenie k prenatal’nomu sostoyaniyu [The story of Anton Chekhov’s “The Man in a Case”: the motif of death as a return to the prenatal state]. Kul’tura i tekst [Culture and text]. 2004, no. 7, pp. 60–265.
- Sal’nikova A. A. “Detskoe pis’mo” i ego spetsifika [“Children’s Letter” and its specifics]. Detstvo v nauchnykh, obrazovatel’nykh i khudozhestvennykh tekstakh: opyt prochteniya i inter- pretatsii. Sbornic nauchnyh statey i soobshcheniy [Childhood in the scientific, educational and art texts: the experience of reading and interpretation. Collection of scientific articles and reports].
- Kazan, KFU Publ. House, 2011, pp. 116–123.
- Takho-Godi A. Germes [Hermes] Mify narodov mira: Entsikl.: V 2 t. [Myths of the peoples of the world. Encyclopedia: in 2 vols]. Moscow, 1980, 1392 p.
- Toporov V. N. Osel [Donkey] Mify narodov mira: Entsikl.: V 2 t. [Myths of the peoples of the world. Encyclopedia: in 2 vols]. Moscow, 1980, 1392 p.
- Zabolotskiy N. Sobranie sochineniy: V 3 t. [Complete Works: in 3 vols]. Moscow, 1983. Vol. 1: Stolbtsy i poemy 1926–1933 [Columns and poems 1926–1933], 655 p.
[1] По словам Ю. М. Лотмана, «презумпция кодированности входит в понятие текста» [Лотман, 2009, с. 310]. Под «двойным кодированием» мы понимаем в данном случае от- крытость текста в рамках рецептивной эстетики как для взрослого, так и для детского сознания, что подразумевает несколько слоев интерпретации.
Губайдуллина Анастасия Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы ХХ века филологического факультета Томского государственного университета (просп. Ленина, 36, Томск, 634050, Россия; gubgub@ngs.ru)
ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2017. № 1 © А. Н. Губайдуллина, 2017