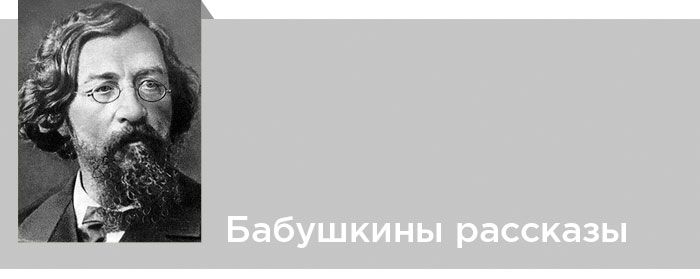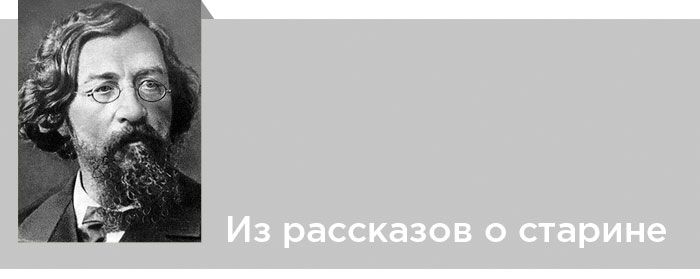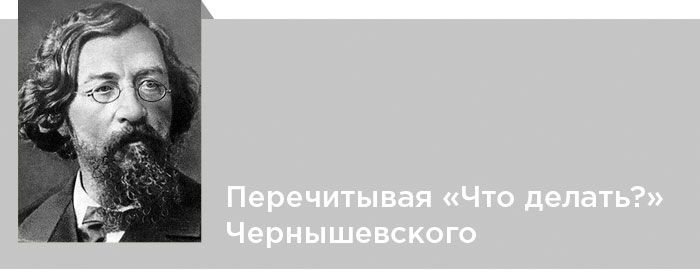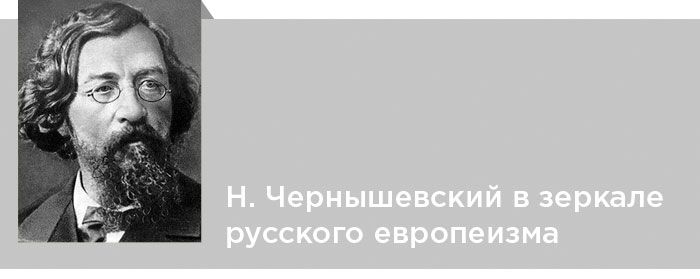Николай Чернышевский. Корнилов дом

Мы играли с бабушкою в шашки.
– Пелагея Ивановна, какой-то мужик велел вам сказать, что пришел Никита Панфилыч, – сказала служанка.
– Зови сюда, – сказала с радостью бабушка.
– Здравствуй, Полинька!
– Здравствуйте, Никита Панфилыч!– Они обнялись и поцеловались несколько раз.
Я смотрел с удивлением. Много неказистых родных было у нас, но такого я не видал еще ни одного. Коренастый, приземистый мужик в нагольном длинном полушубке, еще здоровенный мужик, хотя уж был по виду лет 60, а по разговору вышло потом за 70, облобызался с моею бабушкою, назвал ее милою племянницею. Шашечница была отодвинута в сторону, и Никита Панфилыч уселся на моем стуле, широко расставив колени, положил на полушубок между колен мерлушчатую высокую шапку весом фунтов в пять, вынул из шапки синий ситцевый платок, долго утирал им пот, – а бабушка в это время говорила:
– Лет двадцать не виделись, Никита Панфилыч, – что это вы не заходили столько лет?
Обтершись, Никита Панфилыч начал толковать, – но о Никите Панфилыче будет особая история, а теперь пока важно только то, что Никита Панфилыч сказал:
– А вот от тебя, Полинька, пойду к Корнилову, – тоже давно не виделись.
– Бабушка, Никита Панфилыч пойдет к Корнилову?– сказал я.
– А [это] твой внучек, что ли?– спросил Никита Панфилыч.
– Внучек Николя, вот с ним в шашки все играем, – сказала бабушка, погладила меня по голове и подвинула за руку вперед к Никите Панфилычу.
– Здравствуй, Николя, – сказал Никита Панфилыч, тоже гладя меня по голове.
– Да вот ему все хотелось, Никита Панфилыч, побывать в Корниловой доме, – сказала бабушка, – все заглядывается на него, как идем мимо.
– Что ж, Николя, пойдем со мною, я тебя сведу, – сказал Никита Панфилыч.
Вот каким манером я сподобился видеть внутри Корнилов дом, и вдобавок самого Степана Корнилыча с супругою.
Точно, нельзя было не пожелать побывать в Корниловом доме. Три-четыре казенные здания – корпус присутственных мест, дворянское собрание, семинария – были гораздо больше его, но из частных домов он был тогда самый большой в нашем городе, – в два этажа, 18 окон на нашу улицу и 7 окон на Московскую улицу. Угол дома был закруглен и поднят куполом, выкрашенным зеленою краскою, между тем как остальная тоже железная кровля была красная.
Мы с Никитою Панфилычем остановились в передней, по-нашему – прихожей. Он уселся на коник, – в нашем городе в прихожих тогда везде были коники – длинные ящики или сундуки во всю длину прихожей, заменяющие собою лавки. С четверть часа мы посидели, дожидаясь, пока кто заглянет в прихожую и увидит нас. Вошел слуга, из мелких приказчиков или "молодцов", и был послан Никитою Панфилычем к Степану Корнилычу с таким же докладом, какой получила моя бабушка: "скажи, что пришел Никита Панфилыч", – тоже Никита Панфилыч был немедленно поведен к Степану Корнилычу. Через три большие комнаты, показавшиеся мне тогда великолепными, а теперь припоминающиеся мне грязноватыми сараями почти без мебели, прошли в маленькую комнату с лежанкою. На лежанке сидел Степан Корнилыч, старик маленького роста, еще не дряхлый, но очень старый: волоса из седых стали уже желтыми. Лицо издали показалось мне румяным, но из близи я рассмотрел, что оно было покрыто кровавыми жилками. На старике были высокие валеные сапоги с кожаного обшивкою подошв, нанковый халат, засаленный до того, что только пониже колен можно было рассмотреть зеленые полоски по желтому полю, а с колен до самого ворота все слилось в густой изжелта-черный цвет от толстого лака жирной грязи.
– Здравствуй, Никита Панфилыч, давно не видались, садись.
Никита Панфилыч расселся точно так же, как у бабушки. Я стоял, опершись локтем на коленку Никиты Панфилыча.
Обменявшись с ним несколькими словами, хозяин спросил про меня:
– А это кто с тобою? внучек, что ли?
– Правнучек приходится, – Пелагеи Ивановны внучек, – сказал Никита Панфилыч, погладив меня по голове, и, взяв за руку повыше локтя, подле плеча, подвинул к лежанке,
Хотя мой нос подвинулся к Степану Корнилычу от нагольного полушубка, но все-таки услышал сильный прелый и жирный запах от одежи и рук Степана Корнилыча.
Степан Корнилыч тоже погладил меня по голове, Никита Панфилыч отодвинул назад к себе, я снова оперся на его коленку локтем и так простоял все время нашего посещения, часа три, я думаю, и, должно быть, не устал, не помню.
– Чайку надо с тобою выпить, Никита Панфилыч. Прасковья Петровна, вели чаю дать.
Никита Панфилыч начал свои рассказы, которые говорил и бабушке, Степан Корнилыч слушал. Молодец внес самовар, поставил прибор. Степан Корнилыч слез с лежанки, подсел к столу с чаем; стол был простой липовый, крашеный "мумиею" (кроваво-красная краска), как и стулья.
– Давай чай наливать, – таким чаем тебя никто не угостит, как я, – не умеют, надо знать, как с ним обходиться.
Он взял толстое, грязноватое полотенце, разостлал его по широко расставленным коленам по своему засаленному халату, так что концы висели с обеих сторон поровну, высморкал нос рукою, обтер руку о халат, взял полотенце обеими руками – на половину рука от руки – в горсть, так что середина полотенца свернулась и натянулась, этим натянутым свертком он два раза провел у себя под носом – утерся – и снова разложил его на коленях прежним развернутым порядком, ототкнул жестяную чайницу, взял в правую руку, подставил левую ладонь, высыпал на нее чаю, сколько было нужно по чайнику, заткнул чайницу, отставил к стороне, наложил правую руку на левую, на которой лежал чай, – а руки были весьма потные и грязные, какие даже у меня редко бывали после игры в бабки (по-нашему – в козны), – и начал растирать чай. Тер долго, начал так, что провел ладонь вдоль ладони, потом так вертел ладонь на ладони, потом снова вел вдоль, – сделал раза четыре такую смену дирекции, сказал: "теперь можно в чайник,– от этого вкус в нем: не растер – вкусу того не будет".
Когда он снял правую ладонь с левой, на левой ладони была куча мелкого порошка щепотки в три, порошок был весьма влажный от вошедшего в него пота, так что были в нем довольно большие комочки, слегка слипшиеся. Пока чайник стоял на самоваре, Степан Корнилыч раза два вытирал полотенцем пот с лица, наконец стал вытирать им чашки. В это время вошли в комнату двое,– эти, конечно, без всякого доклада, потому что были благородные; один из них – Андрей Васильич, о котором будет особая история, человек, знакомый со всем городом, другой – незнакомый ни мне, ни кому.
– Вот господин ученый, – сказал Андрей Васильич и назвал: "Петр Арсеньич такой-то (назвал фамилию ученого), коллежский советник приехал к нам (при слове "коллежский советник" Степан Корнилыч встал, поклонился и снова сел); обращается к вам, Степан Корнилыч, как здешнему старожилу, чтобы вы ему порассказали, что ему хочется узнать о нашей старине, – и старину вы помните, и о нынешних делах тоже, – а он хочет книгу писать об этом.
– Можно, – сказал Степан Корнилыч, – много помним, извольте, сударь Петр Арсеньич, спрашивать. Только вперед скажу, об нашем соляном праве не спрашивать: потому, мне нет выгоды об этом рассказывать, потому что всякое право – значит, и наше тоже – секретом держится. А об других обо всяких делах могу рассказывать.
Приезжий ученый стал расспрашивать, и видно [было], что он доволен ответами Степана Корнилыча. Степан Корнилыч отвечал в таком духе:
– А относительно старины вы, сударь, спрашиваете, лучше ли тогда было. Как можно, сударь? нет, сударь, хоть привольности, точно, больше было, зато и притеснения было не в пример больше, и порядку не было. Наше купеческое право возьмите: теперь почта из Москвы к нам два раза в неделю ходит, – тогда этого не было; по дорогам разбои были, по Волге разбои, – теперь этого нет. Меня в пример возьмите – 2-й гильдии купец, а грамоте не знаю; какое же купеческое право без грамоты?
Лет через пять мне случилось читать статью расспрашивавшего ученого о нашем городе, и я нашел там, что он с признательностью упоминает "о множестве интересных сведений, сообщенных ему почтенным и умным старожилом нашего губернского города, купцом Степаном Корнилычем Корниловым". И точно, похвала была не напрасна. Да возьмите уж то, что 85-летний старик, безграмотный, не испугался сообщить все, что знал (кроме своего соляного права), ученому, который все будет записывать и описывать, – это редкость. Часа полтора, я думаю, говорил он, и ученый все слушал со вниманием.
Промежду разговоров напились чаю, – хорошо, что ученый не видел его приготовления, – а я пил, ничего, хоть и видел. Закусили, – и Степам Корнилыч, угощая других, сам выпил только одну рюмку Ерофеича.
Но вот Андрей Васильич {Здесь и дальше Андрей Васильич именуется в рукописи В. М.– Ред.} подмигнул своему товарищу, – как я теперь вспоминаю, старик начинал повторяться, и Андрей Васильич знал, что больше уж нечего от него узнавать, – подмигнул товарищу и спросил:
– А сколько вам лет, Степан Корнилыч?
– Да 98, батюшка.
– Сколько было в Пугачи?
– 16 лет было.
– Это значит, теперь должно быть 86, – с Пугачей только 70 лет прошло.
– Ну, коли так, так в Пугачи было больше, – значит, под 30 было.
Но этот приступ Андрея Васильича еще не подействовал на ученого: вещь известная, что старики любят прихвастнуть годами.
– А вы бы рассказали, Степан Корнилыч, Петру Арсеньичу, как Петра Великого встречали.
– Как же батюшка, с почетом встречали, как следует великого царя, – в колокола звонили, хлеб-соль подносили в Старом соборе – на паперти в верхней-то церкви, на галдарее. И так милостиво говорил со всеми и шутить изволил, всем сказал привет, и мне: "ты, говорит, Степан, у меня соль-то с Елтона покупаешь али воруешь?" (Ведь я ратманом тогда был, так подле, значит, самого головы стоял.) – "Не ворую, говорю, ваше императорское величество, а покупаю".– "Ой, воруешь, говорит, меня не обманешь, брось воровать, – вишь палка-то у меня какая, – она воровские спины любит".– Пошутить, значит, изволил – шутник был, но грозный, как есть царь.
При этом рассказе теперь не только приезжий ученый – даже и я выпучил глаза: если б Степан Корнилыч был пьян, еще можно было бы понять такую гиль, – но нет, он выпил еще только одну рюмку, и по глазам было видно, что совершенно трезв.
– Да как же вы говорите, Степан Корнилыч, – продолжал Андрей Васильич, – что вы тогда ратманом были: ведь и по вашим словам вам 98 лет, а Петр Великий уже 115 лет как умер, – значит, тогда еще и отец-то ваш соску сосал, а может и не родился еще.
– Так что, я тебе врать что ли стану? –сердито сказал Степан Корнилыч.
Андрей Васильич завел другой разговор, продолжая закусывать. Степан Корнилыч выпил еще несколько рюмок. Тогда Андрей Васильич возобновил пробу.
– А что, Степан Корнилыч, ведь Логинов-то врет, англичанин правду пишет, что в наших местах море было? (После я узнал, как произошел такой вопрос: редактор "Губернских ведомостей" писал статьи, в которых доказывал, что Мурчисон ошибся в том, что юго-восточный край России был некогда дном моря; редактор "Ведомостей" понимал в геологии едва ли не меньше, чем я, и над его полемикою против Мурчисона много смеялись грамотные люди в городе.)
– Врет Логинов, море здесь было, точно.
– Да вы-то почему знаете, Степан Корнилыч?
– Чать, своими глазами видел – до самых Хвалынских гор было, я бывал на Хвалынских горах, смотрел на море. И, шумно плещет.
– Пойдемте, Андрей Васильич, – сказал приезжий. Гости ушли.
Я тогда совершенно растерялся от уверения Степана Корнилы-ча, что он видел море у Хвалынских гор. Но в это время он был уже навеселе. Но и теперь мне трудно понять рассказ Степана Корнилыча, еще трезвого, о том, как он встречал Петра Великого. 696
Конечно, ясно, как это образовалось в нем: привык кричать на домашних, не терпел противоречия никакой дикой своей выходке, в первый раз соврал, вероятно, навеселе и по упрямству продолжал утверждать то же самое и пьяный и трезвый. Но все-таки вещь неимоверная, и тем нелепее, что Андрей Васильич уже не один десяток раз подъезжал к нему при чужих людях с этим вопросом, чтобы выставить его дураком на посмеяние, – и он все-таки каждый раз повторял свой рассказ.
По уходе Андрея Васильича Степан Корнилыч с Никитою Панфилычем продолжали закусывать и выпивать. Никита Панфилыч, еще крепкий, оставался в своем уме, когда Степана Корнилыча уже совершенно разобрал хмель, и старик приложил руку к уху, загнув голову набекрень, и затянул какую-то скверную песню. Но не успел он пропеть двух-трех стихов, как влетела б комнату старуха и прямо на него, как ворона на падаль.
– Ах ты, старый чорт, пьяница, снова горланишь, буянишь!
Старуха взмахнула жгутом вроде того, каким бьют друг друга дети в своих играх, только скрученным из большого шейного бумажного платка, и весьма круто, так что удары жгута раздавались отчетливо и звонко, как от палочных ударов. Старуха держала Степана Корнилыча за шиворот и била жгутом, не разбирая места; удары сыпались по затылку, по темени, по вискам.
Почему для наказания служило такое необыкновенное орудие – крепкий, как палка, жгут из огромного платка? Дети таких жгутов, не делают, да едва ли были дети в доме. Откуда же взялся этот жгут? Неужели Прасковья Петровна сделала его и постоянно держала наготове именно для этого употребления? Иначе трудно объяснить, зачем такая замысловатость? Почему не просто кулак, не палка, не плетка, вещи готовые, а жгут? Но как ни непостижимо происхождение жгута, он работал над стариком страшно.
Никита Панфилыч испугался.
– Прасковья Петровна, вы его убьете так; уж если сердце взяло, лучше таскайте его за косы!
– Не убью! Здоров нахальник, выдержит!
А он едва барахтался под ее рукою и все твердил: "прости,. Параша, виноват, не буду". Наконец Прасковья Петровна подняла его пинками со стула и наполовину потащила, наполовину погнала пинками и ударами жгута.
Застучал засов, повалилось что-то, т.-е. старик, снопа стукнул, засов, и Прасковья Петровна воротилась к нам.
– Заперла в чулан разбойника, чтоб проспался.
– Больно уж вы без разбору бьете по голове, Прасковья Петровна, как можно так!– повторял Никита Панфилыч.
– Он 60 лет надо мною надругался. Это что? Никита Панфилыч, уж я тебе показывала.
Прасковья Петровна повернулась к Никите Папфилычу и ко мне, стоявшему опершись на его колено, одним ухом, потом другим:
– Смотри, где серьги-то!
В одном ухе серьга была вдета на половине, в другом выше половины, – и точно, ниже не было для них места: нижние половины ушей были в клочках, глубоко изорваны, чуть не [до] самого корня. Но ходить без серег зазорно женщине, и потому как муж вырывал серьги с клочком ушей, Прасковья Петровна отыскивала подальше ют отправной каймы и повыше новое место для этого необходимого украшения. На каждом ухе было десятка по полтора следов этих прежних положений. Прасковья Петровна, как услышал я из разговора ее с Никитою Панфилычем, была старше двумя годами, – в Пугачи ей было уже 18 лет, – но она сохранилась бодрее мужа, потому что смолоду вовсе не пила и теперь пила, по ее словам, с умом, без безобразия, днем только по рюмочкам, на ночь больше. Благодаря этому она уже несколько лет вымещала на Степане Корнилыче старые поругания и учила его разуму.
Посидев с нею полчаса, Никита Панфилыч простился и отвел меня домой.
И самого Никиту Панфилыча видел я один только этот раз, и стариков Корниловых тоже. О Степане Корнилыче мне уже и не случалось слышать ничего в следующее время, когда я был знаком с его внуком, но Прасковью Петровну, пережившую мужа несколькими годами, внук помнил.
Когда она получила перевес силы и трезвости над Степаном Корнилычем, она, разумеется, взяла в свои руки и доходы и сохраняла эту власть после него, до самой смерти. Доход они получали большими кушами: Степан Корнилыч в это время уже не торговал, – он употребил деньги на покупку и устройство большой крупчатой мельницы и уже давно не сам заведывал ею, а отдавал в аренду. За аренду платили ему 30 000 руб. (ассигнациями), сумма по тогдашнему (в 30-х годах) весьма большая, и это продолжалось лет по крайней мере пятнадцать. А он с Прасковьею Петровною жили весьма скупо и грязно, так что едва проживали по полторы тысячи в год. Следовало ожидать, что найдется после старухи большой наличный капитал, – он и действительно составился, старуха сама говорила об этом дочери. И дочь, и гости, при которых случалось, видели, как поступала Прасковья Петровна с деньгами, которые арендатор приносил три-четыре раза в год.
Деньги в то время были все серебряные и золотые, серебряные – больше всего испанские пиастры с двумя столбами, золотые – "лобанчики", луидоры с портретом Людовика XVIII, по высокому лбу которого они и были прозваны лобанчиками. Ассигнаций было разве на одну пятую долю против серебра и золота. Вот Прасковья Петровна сложит в фартук мешочки и свертки, составлявшие порядочный груз, с полпуда или и до пуда, и кряхтя потащит эту ношу, – идет за службы на задний двор, где баня и тоже амбары и разные клети. Калитку за собою запрет, а сама скрывается за службами, так что нельзя подсмотреть, где она зарывает в землю или в какой клетушке прячет деньги. Она и умерла, не успев сказать дочери, где спрятала, и деньги пропали.
От этого Корниловы, которые считались людьми богатыми при Степане Корнилыче и Прасковье Петровне, оказались не весьма богатыми по их смерти, а лет через десять стали вовсе небогаты, по бестолковости дочери-вдовы, которой досталось заведывать всем.
Дочь эту, Дарью Степановну, я видел много раз лет через пять и десять после того, как видел стариков. Женщина высокого роста, широкой кости, дородная, но и весьма толстая, она своею вялою фигурою и мямлящим порою голосом заставляла вас предполагать в ней идиотку, и чем дольше вы ее слушали, тем тверже оставались в этом мнении. Слова были так бессвязны, она, говоря медленно и вяло, делала, однако, после каждых десяти слов такие повороты от одного предмета к другому, не имеющему никакого отношения к прежнему, что никто не мог ее понимать, кроме очень близких знакомых, вперед знавших все, что она могла сказать. Вот, например, одна из ее речей:
– Саша у меня что-то жалуется, что в Москве засуха, мельница стала, воды мало, потому что Иван Игнатьич ворот не чинит, я и говорю: Фленочка, тебе надо в деревне жить.
Это означало пот что: сын, учившийся в московском университете, писал ей, жаловался на строгость экзаминаторов, – она забыла договорить, а вместо того заключила фразу сожалением, что арендатор мельницы не внес в срок денег, – но до этого она не успела договорить, забыла, успевши сказать только причину, которой тот оправдывался в неисправности, и уже заговорила о другой своей жалобе на сидельца Ивана Игнатьича, заведывающего домом; а Фленочка, ее двоюродная племянница, бедная чахоточная девушка. И она все эти четыре вещи спутала в одну, хотя между ними нет ни малейшего отношения, и ни об одной из них не сказала того, что хотела сказать. И еще если бы это говорилось бойко, скороговоркою, – тогда хоть речь ее была бы несколько бестолкова, но по крайней мере можно было бы думать, что хоть она сама понимает, что говорит, что идиотство только в ее словах, от прыганья языка, а ход мыслей у нее в голове все-таки имеет какой-то смысл. Но нет, она говорила эту бестолочь тихо, спокойно, систематически. Чистая идиотка.
Особенно знаменита была [она] в нашем детском кругу своею манерою молиться. Я, когда был еще ребенком, задолго до того, как стал видеть ее, уж знал два образца ее молитв по рассказам ее родственниц-девочек, наших знакомых, и особенно по рассказам этой Фленочки, которая была старше нас годами пятью и которую я помню уже только взрослой девочкой, почти невестою. Вот одна из ее многих таких молитв, переданных нам, маленьким, Фленочкой. Молитва относится к вечерней поре, читается перед отходом на сон грядущий.
Дарья Степановна становится перед кивотою, – она женщина усердная в вере, как и все, не бог знает какая богомолка, как и все, но в молитве усердна, и вздыхает, кланяясь в землю, и поплачет от умиления.
– Отче наш ...сех, да святится – Лиза (сноха), ты еще не ложишься спать?– имя твое, да при...– Нет еще, матушка.– Да будет воля твоя (поклон в землю), яко... на земли. Вот в углу-то таракан ползет... Хлеб наш...– Татьяна...– даждь нам днесь.
– Что угодно, Дарья Степановна?– Дарья Степановна теперь, встав с полу, поворачивает лицо к Татьяне:
– Снег на дворе еще ли идет или перестал?
– Идет еще, Дарья Степановна.
Дарья Степановна повертывается снова лицом к земле и продолжает: днесь и остави, и т. д.
И хоть бы думала-то или спрашивала о чем-нибудь по хозяйству что-нибудь с толком, а то вещи совершенно ненужные.
Но серьезнее всего доказывается ее крайняя глупость тем, что деньги, запрятанные матерью на заднем дворе, так и пропали. Ей говорили: "Сломайте всю дрянь, построенную на заднем дворе, разберите все по бревну, по доске; не найдете – перекопайте землю на аршин, – не могла же мать своими старыми руками закапывать бог знает как глубоко, – серебро и золото найдется все в целости, а если бумажки и нашлись бы уже сгнившими, то бумажек было не так много; почти весь капитал возвратите".– Но нет, не могли втолковать ей это. Она только жаловалась и охала, – да и охать начала уже лет через пять по получении наследства, когда дела ее стали плохи, а прежде думали, что мать сказала ей, где деньги. Ее родственники – наши знакомые – были люди небогатые и не могли ничего сделать против нее, напротив, должны были оказывать ей уважение. Через год после того, как она стала жаловаться к охать на безденежье, ловкий и богатый купец Сырников сделал смелый, но верный оборот: продал всю свою лавку, занял денег, подъехал к Дарье Степановне и купил у нее дом. После того тотчас он повел большую торговлю. Все говорили тогда: "Отыскал спрятанные деньги, – должно быть, так". Теперь он из немногих миллионеров нашего города, где купечества много, но особенно богатых купцов меньше, чем во многих других городах, далеко уступающих нашему общею суммою своих торговых оборотов.
Сырникова я никогда не видел и ничего не знаю о нем, кроме того, что он оборотливый купец. Мои воспоминания теряют всякую связь с домом Корнилова по переходе этого дома в его руки. Но мои воспоминания о семействе Корниловых получают гораздо больше определительности именно со времени продажи дома. Она показала обеднение Корниловых. Дарья Степановна раньше почти не бывала у своих небогатых родственников, наших знакомых, – теперь гордиться было уж нечем, она стала часто бывать у них, я тут видел ее, потом ее сына и сноху.
При такой хозяйке, разумеется, все пошло прахом, и когда он подрос и занялся делами – лет через пять после смерти бабушки – он вместо огромного куска земли с богатою мельницею нашел уцелевшими уж только 200 десятин.
Отчего так глупа была Дарья Степановна? Случайно ли попал [в] ее голову кусок такого коровьего мозга, или вдруг разразились в бедной голове следствия дикой пьяной жизни, одуряющей жизни трех-четырех предшествовавших поколений, или отец и мать как-нибудь при родственном наказании отшибли ей рассудок неосторожным ударом, или такого особого удара не было, а вообще они заколачивали ее в глупость постепенно? Не знаю.
И что же вы думаете! Женщина такой замечательной глупости все-таки сама могла много помочь выйти в несколько порядочные люди и приобрести кусок хлеба своему сыну, который вместе с нею остался бы бедняком по ее милости.
Как она была одна дочь у отца и матери, так и у нее был только один сын. Сама она была безграмотна, подобно своим родителям, но сына отдала в гимназию – почему? Бог ее знает, разобрать было нельзя. Иной раз она говорила: "хоть чтоб был благородный", в другой раз: "без ученья нельзя". Вернее всего, что она и эти объяснения повторяла понаслышке, как попугай, но тем замечательнее. Если говорить высоким слогом, то она, по всей вероятности, была "орудием времени" – и верным орудием: отец и мать ее, люди, далеко бывшие все-таки не ей четой по уму и характеру, говорили ей, что это ненужно,– она не слушалась; они велели взять сына из гимназии, – не слушалась. Сын был мальчик хороший, но не бойких способностей, не переходил из класса в класс и ленился, да и не хотелось, – она не жалела денег на взятки учителям и все-таки дотащила его к 20 годам до седьмого класса, из седьмого класса не могла вытащить, – сама отправилась с ним в Казань и поместила в университет на юридический факультет. Слов "университет", "факультет" она никогда не могла выучиться произносить, но ездила в Казань каждую весну во время экзаменов, хлопотала, тратила деньги и все-таки добыла сыну аттестат действительного студента, привезла назад и определила на службу. Ученик и студент он был плохой, но чиновник вышел хороший, – недалекий, не бойкий делец, но работящий, все-таки был образованнее других, – тогда, лет 30, 20 назад, в провинции было весьма мало университетских между чиновниками,– и шел себе по службе, года через два был столоначальником в гражданской палате, – по небогатому столу, но все-таки мог кормить себя и жену, потому вздумал жениться. Или нет: поэтому только мог бы жениться, и мать стала говорить: "пора жениться", а вздумал жениться потому, что влюбился – однако это слово не годится в таких рассказах, и оно в той жизни, в какой я вырос, вовсе неизвестно. В тех кругах тогда говорили: "понравилась ему девушка", – это в хорошем смысле, а в дурном говорили: "хочет любовницей иметь" или "хочет связь завести".