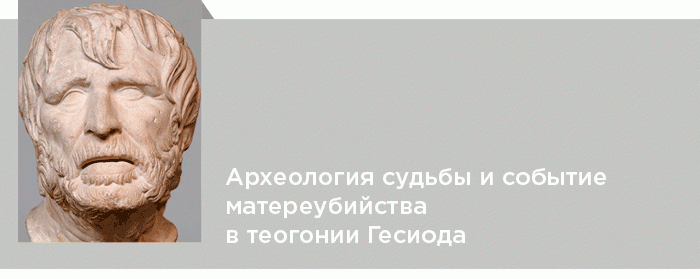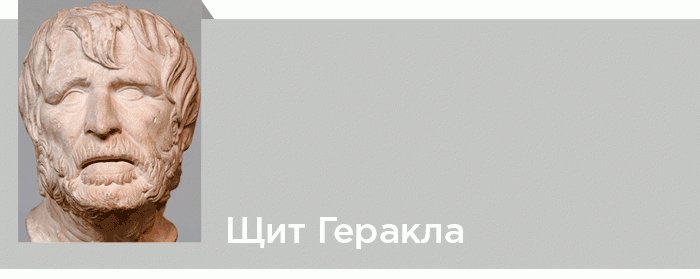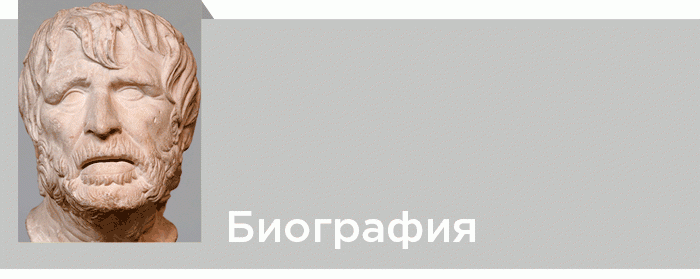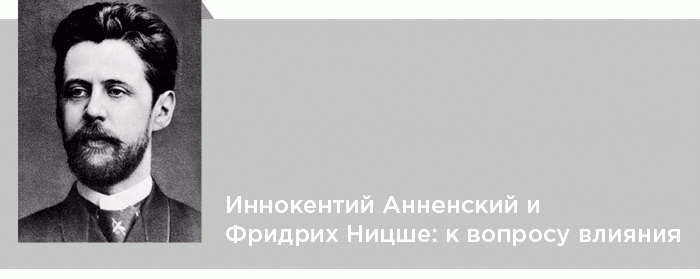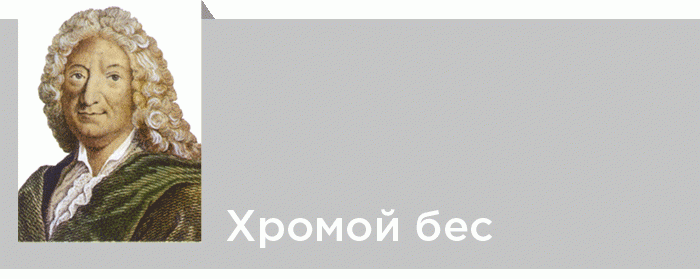Одиночество как экзистенциал античной философии (от Гесиода до Аристотеля)

УДК 1(091)
Анатолий Станиславович Гагарин
доктор философских наук, доцент,
ведущий научный сотрудник отдела философии
Института философии и права УрО РАН,
г. Екатеринбург.
В статье исследованы античные корни Homo Solus, Человека Одинокого. Античный Homo Solus проявлялся, во-первых, в форме негативного одиночества, изоляции человека, ощущающего одиночество как ущербность собственной самости, не позволяющая ему находиться внутри жизни полиса. Этот человек либо «дурной человек», маргинал, вытесняемый за пределы социума, либо, как царь Эдип, мужественно-пассивный трагический персонаж, одиночка, вступающий на опасный путь саморефлексии. Во-вторых, это одиночество возвышенно-позитивное, уединение: это Homo Solus – мудрец, стремящийся к достижению идентичности с высшими силами (божествами, Благом), беседующий с сущностным инобытием внутри самого Я. Опираясь на принцип «золотой середины», «меры во всем» древнегреческие мудрецы не помещали себя в центр мироздания, не идентифицировали себя (Я) с богом, сущностью. Интенция к «золотой середине» обозначает закрепление в феноменологической топике философского идеала созерцательно-бесстрастной духовной идентификации с идеальной сущностью. Специфика и очарование античной модели одиночества в том, что независимо от мнений толпы человек, устремленный к мудрости, находится в силу этой философской интенции, ориентированной на «меру во всем», в середине всего, в центре мироздания, космоса (но при этом как бы помимо субъективной воли философа, без его желания, без страсти). Мудрец – человек, устремленный к одиночеству и одновременно уклоняющийся от одиночества. Становясь интенциальным пунктом самосознания, человек заглядывал как в зеркало в собственную душу, в ее божественную часть, в которой заключено достоинство души – мудрость.
Ключевые слова: одиночество, феноменологическая топика, экзистенциалы человеческого бытия,дружба,мудрость, мудрец. античная философия, Гесиод, Эдип, Демокрит, Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель, Ницше.
Anatoly S. Gagarin,
octor of Philosophy, associate professor, leading researcher,
Institute of Philosophy and Law,
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. Ekaterinburg.
LONELINESS AS EXISTENTIALE OF ANCIENT PHILOSOPHY (From Hesiod to Aristotle)
Abstract: The article examines the ancient roots of Homo Solus, a lonely man. First, antique Homo Solus manifested himself in the form of negative loneliness, the isolation of a person who feels lonely being flawed from his own self, which did not allow him to be inside the life of the policy. Such person was either a "bad man", the marginal excluded from the society, or, as king Oedipus, was manly passive antique tragic figure, a loner entering a dangerous path of selfreflection. The second was sublimely positive loneliness, the solitude: it was Homo Solus as the sage, aspiring to achieve identity with higher powers (deities, the goodness), chatting with the essential otherness inside the self. Based on the principle of the "golden mean" and "the measure of everything", ancient Greek sage did not put himself in the center of the universe. He did not identify himself (the I) with the divine, the essence. The intention toward the "golden mean" refers to the consolidation in the phenomenological philosophical topic the ideal of contemplative spiritual dispassionate identification with a perfect entity. The specificity and charm of antique model of the loneliness lies in the following fact: regardless of the opinion of the crowd, a man looking for wisdom is (by virtue of this philosophical intention) oriented toward the "measure of everything". He is located in the middle of everything, in the center of the universe and space (but as in spite of the subjective will of the philosopher, without desire, without passion). The sage is a man who strives toward loneliness and, at the same time, deviates from loneliness. A person becoming an intentional point of self-consciousness has looked into his soul as in a mirror, especially in its divine part, which contains the wisdom as the dignity of the soul.
Keywords: loneliness, phenomenological topic, existential of human being, friendship, wisdom, sage, Ancient philosophy, Hesiod, Oedipus, Democritus, Heraclitus, Socrates, Plato, Aristotle, Nietzsche.
Проводя анализ феномена одиночества в античной философии и культуре, мы исходим из представления об одиночестве как экзистенциале, концентрирующем смысложизненную проблематику в едином топосе (месте) – в «точке» Я, окруженной личностными границами. Условиями проявления этого экзистенциала является: 1) дистанцирование личности – свободное (уединение), закрепляющее и утверждающее автономность личности; 2) вынужденное одиночество (изоляция). Одиночество позволяет в регистре переживания произвести самоидентификацию с аутентичным Я и выявить сущностные характеристики самости [8, с. 12-40].
Внимательное исследование отношения античной философии (и ментальности в целом) к проблеме одиночества дает все основания сделать вывод о преимущественно негативной характеристике одиночества как «последнего слова философии» (Лев Шестов). Однако следует заметить, во-первых, преимущественно, во-вторых, именно в античности отыскиваются генеалогические корни Homo Solus, Человека Одинокого. Эллинское сознание, по известному определению Г.В.Ф. Гегеля, «счастливое сознание», принципиально исходило из ценностного приоритета космического универсума, содержащего в качестве конститутивных элементов мира (атрибутов) – безличностные стихии.
Психологическим пространством, необходимым для осмысления человеком собственной самости в модусах экзистенциалов в качестве так называемых «отрицательных» (одиночества, страха, смерти) и «положительных» (веры, надежды, любви), выступает феноменологическая топика. Попытки осмыслить «внутреннее пространство» наблюдаются в философии одновременно с появлением саморефлексивных интенций. Попытки описать, «схватить» ощущения, представления как результаты самопостижения собственной феноменологической топики в терминах, парадигмах науки (например в геометрических терминах) прослеживаются уже у древних греков (Евклида). Категориями феноменолого-топографического описания у древнегреческих мыслителей становятся «предел», «марго», «граница», «центр» и «периферия». Иное, Другое в греческой философии «получает прописку» исключительно внутри-предела (в границах космоса), а в философии последующих культур и эпох уже за-пределом наличного бытия.
Формирование феноменологической топики как экзистенциального пространства античного человека характеризовалось целостным динамически равновесным синкретическим миро- и самоощущением, лежавшим в основе цикличной модели мира, ориентированной исключительно на прошлое (как на свершенное событие), прочувствованное и осознанное, а впоследствии и на культ этого прошлого, на культ предков. Константами архаичного сознания и бытия выступали целостность, постоянство, повторяемость, равновесие. Логически связанное с целостностью и цикличностью представление о пространственно-временной замкнутости мира («ноль-время» и «ноль-пространство») сочеталось в архаичном сознании со стремлением к уподоблению и отождествлению явлений, изоморфичности макро- и микромира [7, с. 18].
В гомеровской Греции – Элладе (начало 3 тыс. до н.э.) после дорийского завоевания синкретическом мифологическом мировоззрении в центре эпоса оказываются люди, приносящие жертвы богам, зависящие от произвола богов и нередко вступающие с ними в борьбу, а также герои, смертные полубоги-полулюди (заметим, что первоначально слово «герой» использовалось для обозначения умершего в надгробных надписях).
Боги не являются творцами мироздания, они лишь – сверхъестественные двойники естественных процессов и явлений. Скрытыми вершителями событий являются деантропоморфизированная Судьба, предстающая в образах, возникших от слов, олицетворяющих оттенки, нюансы судьбы, и активно влияющих не только на людей, героев, но и на самих богов.
Эволюция мифологем судьбы («мойры», «морос», «ананке»), оказывающей влияние на человека, проявилась в том, что в до-эпической культуре доминировала мифологема слепой случайности – тюхе (Τύχη – судьба, стечение обстоятельств, случайность, беда, удача). В солоновский период укрепления полиса мифологема судьбы приобретает социальные краски и связана не только и не столько с ананке (подневольное насилие), сколько с Дике (Δίκη, «право, справедливость, правда»), богиней правды, олицетворяющей справедливость и законность в полисе и предстающей не как слепой неразумный рок, а какединый закон мироустройства, осмысленный и воспринятый самим человеком. Аттическое Дике этимологически выражало идею возмездия за убийство. У Гомера это слово используется аналогично как «наказание по приговору», а у Гераклита Дике настигала лжецов и лжесвидетелей. В полисном мировоззрении рациональная обоснованность судьбы индивида предстает как справедливость, в виде справедливого воздаяния за деяния. Такими системообразующими деяниями оказывается, как мы увидим ниже, преступления, совершенные знаковыми, символическими фигурами.
Одинокими героями нельзя назвать ни героев Гомера, руководствующихся добродетелью – мужеством (хитростью – Одиссей), ни людей у Гесиода – случайных и побочных продуктов теогонии, хотя гомеровские герои действуют подчас как бы «в одиночку», под влиянием импульса, а гесиодовские боги-отцеборцы, совершающие восхождение от Хаоса к Зевсу, действуют самостоятельно, без оглядки. Но все-таки это – боги, а не люди, а богам людское одиночество неведомо. Неведомо одиночество и первому «золотому» поколению людей, созданному вечными богами, про которое сказано у Гесиода «жили те люди как боги … А умирали, как будто объятые сном» [9, с. 55].
Следы Homo Solus можно отыскать, пожалуй, только в пятом, «железном», современном поколении людей, обреченных богами на «заботы тяжкие». Согласно Гесиоду, «Не будет / Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя, / И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им». Это заставляет Гесиода воскликнуть: «Если бы мог я не жить с поколением пятого века! / Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться» [9, с. 56]. Именно у Гесиода наблюдается непосредственно-рефлексивное «очерчивание» собственно человеческого бытийного пространства, «ощупывание» границ нравственного сознания. Человек противопоставляется животным, поскольку только человек «ведает правду» высочайшего блага – «он знает, что такое добро и что такое зло». Таким образом, для Гесиода Homo Solus – это или гордец, или изгой, или сирота, и он достоин порицания или жалости. Вместе с тем необходимо отметить особенность бытия героев Гомера и Гесиода – это аристократический культурный человек, ведущий родословную от богов, воспитанный в процессе «пайдейи» (παιδεία, буквально «формирование ребенка») – гармоничного телесного и духовного (культурного) формирования человека, которое предполагает владение искусством-ремеслом, отстаивание в состязании, «агоне» (ἀγών) – военном, гражданском, интеллектуальном, эстетическом – собственной чести, и достижение, обретение славы.
Интеллектуализм, эстетизм, сплав свободы и фатализма в сознании и деяниях античного аристократа, ставшие позднее чертами европейского Homo Solus, произрастали из онтологического единения эллина с чувственноматериальным природно-социальным космосом, из космо-полис-логосности античного человека периода классики. А поскольку, по А.Ф. Лосеву, «никакой личности античный космос не знает» [14, с. 29], онтологическая обжитость космоса/полиса античным человеком исключала возможности дистанцирования от космоса/полиса и аналитического рефлексирования, человек еще не соотносится с оппозиционным рядом «центр-оппозиция». Аристотель, определяя критерии счастья, указывает одиночество в ряду других негативных факторов, противопоказанных счастливому человеку: «…едва ли счастлив безобразный с виду, дурного происхождения, одинокий и бездетный; и должно быть, еще меньше (можно быть счастливым), если дети и друзья отвратительны или если были хорошие, да умерли» [4, с. 68]. Аристократия периода античной классики представляет собой некий прототип, который должен быть разрушен, чтобы впоследствии из осколков-смальт сложился мозаичный портрет европейского Homo Solus, завороживший всю европейскую культуру.
Более отчетливо прописанного Homo Solus в древнегреческой культуре мы увидим в хрестоматийном образе человека, брошенного в пограничную ситуацию – царя Эдипа. Печать грядущего несчастья лежит на Эдипе задолго до рождения, его жизнь обречена изначально на рождение в проклятии, убийство отца, прелюбодеяние с матерью. В пограничной ситуации Эдип совершает путешествие в глубь подсознания для того, чтобы разыскать истоки своего несчастья и несчастья рода. Эдип способен на это, потому что именно он сумел найти ответ на вопрос сфинкса, «обнаружив, что разгадка лежит в универсальном сознании человека, выходящем из пределов и за пределы животного сознания» [15, с. 58].
Однако мудрость не помогла Эдипу раскрыть истоки собственной судьбы и предугадать ее трагические повороты, поскольку Эдип олицетворяет языческий/античный духа – непосредственный, еще не достигшего глубин «абсолютной» духовности (в платоновском понимании), он символизирует собой рефлексивный циркулярный характер мышления. Один из персонажей драмы говорит гневливому Эдипу: «Что ты все о других, а в себя не заглядываешь?» И Эдип начинает кольцевое познание собственной судьбической тайны с самого себя и заканчивает эти поиски на себе. Бесстрашно (до «прозрения») испытывая судьбу (точнее, следуя ее воле) – убивая возничего и отца, двигаясь по пути смертоносного познания по дороге преступлений, Эдип, как полагает Б. Миюскович, «пал жертвой собственного порока – безжалостности, обращая зло на себя и обрекая на полное одиночество, символизируемое слепотой, тьмой, самоизгнанием и самозабвением». Томас Вулф был убежден, что суть данной трагедии заключается не в конфликте между людьми, а в борьбе человека с одиночеством [15, с. 59]. Шеллинг отметил, что самого Эдипа настигает величайшее несчастье из всех возможных: для него, как для трагического лица, судьба исполняется неведомым для него путем – он необходимо оказывается виновным без действительной вины по воле стечения обстоятельств [23, с. 402]. Гегель усилил этот тезис: герои античной трагедии отвечают за деяния всей своей индивидуальностью, вне зависимости от осознанной вины, и вообще судьба вины и поступка переходила по наследству [10, с. 198].
Соответственно, если мы проследим судьбу всего рода Эдипа, то увидим, что цепь преступлений в нем следует начинать с его отца Лая, совершившего первое злодеяние – попытку убийства сына. Одно преступление рождает другое. Но именно Эдип – без вины виноватый, обреченный на убийство отцом, и убивший отца в неведении – оказывается героем трагедии, а не Лай, наказанный за преступление. Последовавшее за нравственным прозрением Эдипа «многоступенчатое» наказание за все преступления рода растягивается во времени, и неумолимый рок кладет свою печать на судьбы всех, кто оказался возле Эдипа – эпицентра бед и несчастий («Эдип-царь», «Эдип в Колоне», «Антигона» и др.).
Мифолог и поэт Роберт Грейвс, исследовавший мифы Греции, приводит интересное свидетельство – описание древнего обычая, в котором связываются и ценностное представление об одиночестве, и судьба мифических героев: в Истме, где правил Ясон, царствующего фармака (ψαρμαχοϛ
Не следует удивляться совмещению противоположных (внешне) ипостасей – «жертвы» и «царя». Для акта жертвоприношения (sacrificium, лат. – буквально «делающего священным») необходимыми условиями являются сакрализирующее разрушение/освящение жертвы как обреченного на смерть посредника-медиатора между сакральным и профанным мирами, и участие сакральной особы psychopomp (проводника) – священника или царя, который мог быть жертвенно умерщвлен, т.е. ритуально соединен с родственным ему сакральным миром. Уникальность фигуры Эдипа и популярность этого образа объясняется тем, что он соединяет в себе противоположные ипостаси, в хронологической последовательности: подкидыш, странник, мудрец, преступник-царь (убийца, инцестуоз), фармак, psychopomp, изгой, мученик, одинокий скиталец, обреченный на бесславную смерть. Эдип находится в особом «разреженном» смысловом и моральном пространстве, где и оказывается возможным совмещение всех этих ипостасей. Оппозиционные пары «Царь – фармак(жертва)», «господин(судья) – раб(жертва-преступник)» есть еще более экзистенциально напряженная «неразрешимость».
Эдип по праву является родоначальником/отправной точкой для традиции европейских культурных образов Homo Solus – мужественнопассивный античный трагический персонаж, вступающий на опасный путь саморефлексии, в отличие от Прометея, мужественно-деятельного герояодиночки, стоящего у истоков другой – бесспорно героической традиции. Между тем, как замечает Ф. Ницше, говоря о Прометее, «при героическом порыве отдельного ко всеобщности, при попытке шагнуть за гpани индивидуации и самому стать единым существом мира, этот отдельный на себе испытывает скрытое в вещах изначальное противоречие. Он вступает на путь преступлений и страданий» [16, с. 401]. По мнению Ницше, у Эсхилла в образе Прометея, поднявшегося до титанического, проявляется неизмеримое страдание смелого «одиночника», с одной стороны, и понуждающая к примирению, к союзу «нужда богов», предчувствующих свои сумерки.
Эдип, также идя по пути преступлений, закольцовывает непосредственную рефлексию на самом себе. Эдип не просто герой-пессимист, он – мудрец, отгадавший загадки сфинкса о сущности человека. Но это мудрец умозрительный, не сумевший постичь тайну рока (то есть – не философ по античным критериям). В. Гельдерлин в стихотворении «В нежной сини цветет…» предполагает: «У царя Эдипа, наверно, есть лишний глаз». М. Хайдеггер утверждает, что в этом сверх-зрении Эдипа выявляется основная страсть греческой сиюбытности – страсть разоблачения бытия, то есть борьбы за само бытие [23, с. 92]. Более того, по Ф. Ницше, через пример Эдипа миф преподносит «страшные положения»: «Острие мудрости обращается против мудреца; мудрость преступное действие по отношению к природе». Поэтому, согласно концепции Ницше, аполлоновское начало, возвышаясь над дионисийским, нарушает антиномию разума чувств. Ницше подкрепляет эту мысль ссылкой на древнее иранское поверие: мудрый маг может родиться только от кровосмешения. Для Ф. Ницше, «сталкивающего» аполлоническое и дионисийское начала, Прометей у Эсхила воплощает дивную «творческую силу» великого гения, за которую недорого было заплатить даже и вечным страданием, суровую гордость художника, между тем как Софокл в своем Эдипе, «прелюдируя, запевает победную песнь святого» [16, с. 115].
Можно сказать, что Эдип – не только мудрец-преступник-судьяпалач-священная жертва, но и потенциальный святой. Его балансирование на гранях ролей-ипостасей, латентная амбивалентность (точнее, поливалентность) дополняется промежуточным состоянием образа Эдипа между дионисическим мироощущением и аполлоновским миропониманием. По мнению Ф. Ницше, Софокл, заложив основы психологического анализа, приступил к разрушению дионисического начала, ищущего радостность жизни «не в явлениях, а за явлением» – все, что возникает, должно быть готово к страданиям и гибели. Думается, этим объясняется уникальная «растяжимость» образа Эдипа, его «шагреневая» гиперэластичность для трактовок и толкований. Эдип не становится полноправным субъектом. По замечанию А.Ф. Лосева, «субъект уже не есть просто объект. Но такой объект, который дошел до соотнесения себя самого с самим же собой», или, говоря кратко, «субъект есть то, что сознает само себя» [14, с. 90-91]. В Эдипе лишь «проклевывается» одинокий герой Homo Solus. Эдип «априорно», уже до рождения «виновен», но именно эта наследственная неличная вина собственно виной-то во всей полноте христианского понимания вины, как подметили еще С. Кьеркегор и Ф.Т. Фишер, не может именоваться. Судьба является для Эдипа абсолютной неопределенностью, «Ничто» страха в язычестве, внешнее индивиду отрицание – вплоть до полного уничтожения человека. Неотвратимость судьбы лишает индивида самой возможности своеволия (свободы воли, впавшей в греховный соблазн), а значит и нет, собственно, самого понятия вины и греха.
Это важный нюанс, связанный с пониманием экзистенциала одиночества в античности. Так, С. Кьеркегор считал, что в язычестве нет понятий вины и греха, появившихся только в христианстве [13, с. 192]. Фишер назвал это «невольной изначальной виной» (Urschuld) – человек оказывался виновным по отношению к основе жизни, но эта виновность не была увязана с собственной волей человека. Эта вина еще не являлась «подлинной виной», выступающей осуществлением начальной вины – следствием свободы единичного субъекта, предполагающей рефлексивный субъективный элемент, противостоящий целому. Вызревание, оформление Homo Solus в античной ментальности и соответствующая философская рефлексия были возможны только в результате разрушения древнегреческого полиса (позднее – и Римской империи). Полисные принципы мироздания основывались, по определении А.Ф. Лосева, на внеличностно взаимодополняющем «объединении потенции/инициативы/идеального/формобразующей идеи/рабовладельца как не-цельного человека (не-личности) – интеллекта». С другой стороны, это были принципы «реальности/материи/действующей не по своей воле вещи/раба как тоже не-цельного человека (неличности) – орудия [14, с. 15].
Это соединение и есть феноменологическая и физическая топика античного космоса как предельно большой, идеальной-реальной идеи-вещи. Этот античный чувственно-материальный космос, «уже сам по себе полон жизни, души, мысли, не в нем нет ничего личностного, нет волящего и намеренно действующего субъекта» [14, с. 15], а есть судьба, то есть внеличностный принцип объяснения всего целесообразного и всего нецелесообразного в космосе. Субъект, углубляющийся сам в себя и вступающий в напряженные, подчас антагонистические отношения с действительностью, появился в толще эллинистических военных монархий и оформлялся философски в трех главных школах эллинизма – стоицизме, эпикуреизме, скептицизме (от раннего эллинизма IV–I вв. до н.э. – до позднего эллинизма I–VI вв. н.э.).
Прежняя гуманитарная практика античной «пайдейи», культуры воспитания полисных человеческих добродетелей (умеренности, справедливости) уходит с авансцены, уступая место еще неразвитой технологии экзистенциального бытования субъекта, пунктирного очерчивания внешних границ субъективного, феноменологического пространства. Эта новая практика «лепки» феноменологической топики субъекта, философического созидания первичной топологии была продуктивна при условии дистанцирования субъекта от непосредственной полисной деятельности, причем обоюдного дистанцирования – полис отторгал философов, а философия «огораживала», защищала мудрствующего субъекта от негативного социального воздействия с помощью соответствующих терминов и концепций античного умудренного дистанцирования, приобретающего очертания одиночества-уединения.
Для того чтобы стать Homo Solus, необходимо иметь особые, экстраординарные причины, способные выдвинуть/выбросить человека за границы обыденного, социума. Это – мудрость (σοφία), эзотерическая тайна, преступление, трагическая «изначальная вина» изгоя. При этом мудрец – человек именно не умный, благоразумный (ψρονιμοϛ), а мудрый (σοψοϛ), первоначально – и хитрый, а позднее – игнорирующий собственную выгоду, и обращенный к человечески-ценностным основаниям (первоначалам, и к тому, что происходит из первоначал, и на что направлено знание). Аристотель подчеркивал, что философы (такие как Фалес и Анаксагор) признаются «мудрыми, а рассудительными нет, так как видно, что своя собственная польза им неведома, и признают, что знают они [предметы] совершенные, достойные удивления, сложные и божественные, однако бесполезные, потому что человеческое благо они не исследуют» [5, с. 334].
В той же «Политике» Аристотель приводит многозначительный пример с первым философом природы Фалесом Милетским (по Аристотелю, Фалес является первым ионийским философом и вообще первым древнегреческим философом). Фалес, рассчитав по звездам богатый урожай маслин, провел удачную финансовую операцию аренды маслодавилен и доказал, что «философы при желании легко могут разбогатеть, да только это не то, о чем они заботятся» [5, с. 397]. Но точности ради следует отметить, что этот пример скорее подтверждает способность Фалеса к рассудительности, природной, практической мудрости «фронесис» (φρόνησης), и позволяет назвать его рассудительным, житейски-мудрым, принимающим верные решения в связи с благом и собственной пользой, и в целом «для хорошей жизни». Ксенократ вообще разделял практическую и теоретическую «фронесис» (второй вид совпадает с «софией» у Аристотеля, полагавшего софию – первой философией, мудростью, которая занимается самым ценным) [21, с. 106].
Вообще философ-мудрец лишь по мнению толпы оказывается вне социума, за границами «подлинного бытия» (по трактовке толпы). Скорее, он оказывается в некоем непостижимом для толпы «мудропервоначальном» центре, в котором сходятся, стягиваются смыслопространственно-временные потоки. Фалес велел похоронить себя после смерти в захудалом месте милетской хоры, предсказав, что некогда оно станет агорой милетцев [22, с. 106]. Фалес, будучи также и военным инженером на службе у царя Лидии Креза, сумел повернуть течение реки Галис, чтобы войска Креза смогли переправиться.
Таким образом, античный мудрец в состоянии пре-формировать физическую и феноменологическую топику в пространственных и временных, смысловых границах, делая это в соответствии с идеалом античного человека, равно искусного в мудрости и в бою. Однако осознание права на исключительность, на индивидуальность, на личностные свойства, выделяющие – возвышающие/выбрасывающие человека из социума, приходило в полисное сознание довольно медленно и сопровождалось жестким осуждением на одиночество-изгнание. В диалоге «Государство» Платона говорится: «…толпе не присуще быть философом. – И значит те, кто занимается философией, неизбежно будут вызывать ее порицание» [18, с. 273].
Так, Гераклит проклинал эфессцев, считая их заслуживающими смертной казни за то, что они изгнали верховного правителя Гермодора [22, с. 247]. Как справедливо замечает итальянский исследователь Энрике Берти, Афины (в особенности демократические Афины) были единственным городом в античной Греции, который преследовал философов и привлекал их к суду за «нечестивость», вплоть до осуждения на смертную казнь или изгнание, либо философам отказывалось в праве свободно изъявлять и выражать свое мнение. Список философов, осужденных в Афинах на изгнание или смерть, довольно внушителен: Анаксагор, Протагор, Диагор, Сократ, Аристотель, Феофраст, Стильпон из Мегар, Феодор Киренский [6, с. 324-325]. Нечестивыми в демократических Афинах считались действия человека, который позволял себе нападки на религию или действовал против культа, следовательно, по мнению афинян, против государства, а значит, был предателем. Понятно, что наказанию подвергалась пропаганда подобных взглядов, а не сами убеждения. Афинское преследование философов достигло кульминации в 306 г., когда некий афинский гражданин Софокл представил на рассмотрение эдикт, запрещающий философам содержать и основывать школы в пределах города.
Следует пояснить, что репрессивные законы, осуждающие «нечестие» философов-«дистанционеров», имели саму возможность появиться в силу того, что философы были все-таки гражданами Афин – единственного города, в котором имели возможность жить философы (в Спарте, как и в других городах, философы не имели права жить). Э. Берти косвенно подтверждает высказанное нами выше утверждение об особом фармачестве философов, олицетворенном в образе Эдипа – царя-мудрецафармака, «стихийного философа», разгадавшего загадку сфинкса. «… тот факт, что философы были жертвами, а не защитниками ограничений свободы слова, подтверждает связь между отстаиваемым ими типом философии и свободой слова» [6, с. 326].
Подчеркнем, в сознании древних греков человек (и даже мудрец), добровольно избравший жизнь уединенную, дистанцированную от толпы, воспринимался как дерзкий, низменный, странный или безумный. Гераклит Эфесский, прозванный Темным, отказался от царского сана и жил в уединении. На приглашение афинян посетить их город и поспорить со здешними философами, он ответил отказом. Ф. Ницше, в соответствии с основными интенциями собственной оригинальной концепции (и «прогрессирующим» интересом к проблеме одиночества), особо отмечает своеобразие гордого одиночества Гераклита, воспринимающего себя «единственно счастливым женихом истины». В отличие от Пифагора и Эмпедокла, которые тоже мерили себя сверхчеловеческой мерой, но в сострадании, соединенном с убеждением в переселении душ и единстве всего живого, возвращались обратно к людям для их исцеления и спасения, Гераклит был «звездой без атмосферы», существом в железной маске, не испытывающим по отношению к людям желания помочь, исцелить, спасти. «В удаленном святилище, среди изображений богов, в рамке холодной, спокойно-величавой архитектуры – такое существо было бы понятнее» [16, с. 216-217]. В интерпретации Ф. Ницше Гераклит трактует дельфийский девиз «Познай самого себя» именно как «Я искал и вопрошал себя самого». Постепенно, усилиями философов в античном сознании закрепляется образ одинокого мудреца. Гераклит противопоставлял мудреца толпе: «один мне – тьма, если он наилучший» [17, с. 98, 245]. Бездомный Демокрит призывал следовать девизу «проживи незаметно» и называл только мудреца (и, понятно, самого себя) «мерой всех вещей», корректируя утверждение софиста Протагора – «Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и не существующих, что они не существуют» [2, с. 320]. Киник Антисфен полагал, что мудрец живет по законам добродетели, а не по законам государства, ибо «для мудреца нет ничего чуждого или невыполнимого» [3, с. 56-57].
Сократ, превративший девиз «Познай самого себя», написанный на колонне дельфийского храма Аполлона, в формулу мудрости, центральную для собственного учения, пришел к выводу о том, что стремление к познанию, главное для философа, осуществимо только при обращенности пытливого взора мудреца внутрь «Я», при вечном поиске самого себя, пусть даже и достигающем знания о своем незнании («я знаю, что ничего не знаю»). Поэтому Сократ, ссылаясь на этот онто-гносеологический критерий, утверждал, что после смерти в род богов не позволено перейти никому, кто не был философом и не очистился до конца – никому, кто не стремился к познанию.
Дальнейшее развитие метафизических и мировоззренческих оснований европейского Homo Solus мы обнаруживаем у Платона – ученика Сократа. Согласно учению Платона, душа философа, презирая тело, стремится убежать от него и остаться наедине с собою, не боясь даже смерти (отделения души от тела), так как философия – есть подготовка к смерти и одновременно – любовь к одиночеству. Необходимо пояснить, что «один» (μόνος)означает у Платона – «вне толпы», но при этом непременно в обществе, для общества, потому что именно общественная, добродетельная жизнь – «приятная и счастливая». Уточним, трактуя Платона, что положение «вне толпы» для мудреца-философа это отнюдь не «вне игры», а по сути, «над толпой», возможность увидеть больше и дальше. В социальнополитической концепции Платона философы-правители, оказавшиеся наверху социальной пирамиды в процессе эволюции аристократического идеала классики – в силу собственной «золотоносной» природы и собственной мудрости («толпе не присуще быть философом» – вышедшими из «темной пещеры», из тусклой реальности «серебряных» и «медных» людей, в теории и на практике являлись существами либо одинокими, то есть социально дистанцированными (добровольно уединенными или насильственно изгнанными), либо сугубо умозрительными химерами, «симулякрами», живущими только в воображении.
Это подтверждает исторический факт: предпринятые Платоном поиски воплощенного идеала философа-правителя в реальности обернулись тремя безрезультатными поездками философа к сиракузским тиранам Дионисиям, сопровождаемыми заточениями философа и бегством из плена. Платон с упорством, достойным уважения, силился связать воедино в идеале философа-правителя (и целого сословия мудрецов) и воплотить в жизни то, что обращено к вечному, и то, что обращено к преходящему – мудрость и политику («свет» и «тьму»).
Позднее Аристотель ставил мудрость («философию») выше практичности и восхвалял созерцательную жизнь философа-мудреца, достигающего истинного блаженства и становящегося подобным богу, который и сам теперь выступает созерцающим философом. И философ, и бог есть созерцающие в одиночестве мудрецы. Аристотель считал, что политика – важнейшая из практических наук, но высшее благо все-таки дано не политику, а мудрецу-философу, который владеет искусством управлять государством, и законы обеспечивают благо государства, когда их применяет мудрец.
В этом контексте сама цель, к которой устремляются античные философы-мудрецы может и должна быть рассмотрена в связи с феноменологической топикой. Таковою целью является, согласно Демокриту, эвтюмия («хороший дух») – пребывание души в спокойствии, равновесии, бесстрастии, бесстрашии (эвтюмия есть атамбия – свобода от страха), симметрии. Средством достижения эвтюмии является принцип «золотой середины», «меры во всем».
Этот тезис был развит в этике Аристотеля, где этические добродетели – это «середина двух пороков». «Мера – наилучшее!» – утверждал один из семи греческих мудрецов – Клеобул, который, кстати, был правителем (тираном) родосского города Линдоса (таким образом, идеал мудреца для Платона имел вполне конкретные прообразы). Изречение «meden agan» (Μηδέν άγαν) – «ничего сверх меры» (или «мера во всем») было высечено на колонне при входе в храм Аполлона в Дельфах и приписывалось одному из семи греческих мудрецов – Солону (по другим источникам, другому мудрецу из «семерки» – Хилону). Но сами греки в жизни редко следовали этому правилу: сказывались агональность характера, честолюбие и жажда славы. Софист Гиппий определил назначение человека как достижение αυταρχεια (автаркии) – самостоятельности, независимости от чужого и умения довольствоваться всем своим. Таким образом, счастье самого человека зависело прежде всего от состояния души, особого душевного склада, постоянно пестуемого самим человеком (Гекатей из Абдер, Демокрит, Аристотель).
Стоики утверждали, что идеальное состояние души истинного мудреца – бесстрастие, не-страстие, апатия (απαυεια), укрощение страстей. Содержание самодостаточной (автаркичной) добродетели, согласно стоикам, является благоразумие, умеренность, справедливость, мужество. Состояние внутренней свободы у стоиков связано с признанием относительной ценности или не-ценности внешнего мира. Однако это не означает полное безразличие к внешнему. Эпикурейцы настаивали, что лучшее построение и постижение идеальной сущности возможно при погружении в полное отсутствие волнений, безмятежную умеренность и усмиренность страстей (атараксия).
Но древнегреческие мудрецы (в силу указанной выше протоличностности античной философии) не помещали себя в центр мироздания, не идентифицировали себя (Я) с богом, сущностью, обозначая только саму интенциальность философского само-бытия и процессуальность постижения сущего. Так, Пифагор впервые назвавший философию (любомудрие) именно термином – ψιλοσοψια, а не мудростью, а себя философом, «любовно устремленным к мудрости», а не мудрецом. Он упрекал «Семерых мудрецов», говоря, что никто не мудр, кроме бога, ибо человек по своей природе слаб и должен стремиться к образу мыслей и жизни мудрого существа.
По сути означенная интенция к «золотой середине» обозначает закрепление в феноменологической топике философского идеала созерцательно-бесстрастной духовной идентификации (достижимой в далекой перспективе) с идеальной сущностью. Этот идеал, безусловно, есть мировоззренческий парафраз мифологического «золотого пупа». Достижение гармонической бесстрастности, покоя под сенью безличного абсолюта чаще всего оставалось для древнего грека декларируемым идеалом, доступным лишь редким мудрецам, обладающим огромной силой духа и не убоявшимся одиночества, остракизма и невзгод, подстерегающих на пути к единению с безличной истиной/космическим порядком.
Однако в этом и заключалась специфика и очарование античной модели одиночества: независимо от мнений толпы человеческое существо, устремленное к мудрости, находится – в силу этой философской интенции, ориентированной на «меру во всем», «ничего сверх меры» – в середине всего, в центре мироздания, космоса (но при этом как бы помимо субъективной воли философа, без его желания, без страсти). Существа, устремленного к одиночеству, и одновременно уклоняющегося от одиночества.
В этом контексте следует понимать утверждение Демокрита: если даже ты наедине с собой, не говори и не делай ничего дурного. Стыд самого себя, стыдливость перед самим собой, предпочтительнее стыда перед другими. Стыд выступает экзистенциально организующим фактором-процессом самобытия одинокого мудреца.
Универсально-жизненным средством античного человека уклонения от одиночества, преодоления негативного одиночества, в представлениях философов стала дружба. Эволюция древнегреческого идеала дружбы свидетельствует о нарастающей персонализации индивида. Эмпедокл считал, что природа сложных тел образуется из четырех «корней», вечных и неизменяемых элементов – земли, воды, воздуха и огня. Дружба («филия», ψιλια) выступала универсальной космической силой, сближающей и соединяющей разнородные элементы, а человеческая дружеская связка являлась частным случаем всеобщего принципа. Слово «филос», ψιλοϛ, переводимое обычно как друг, приятель (иногда – любовник) является прилагательным, означающим обладание и применяется как к людям, так и к вещам, частям тела. Таким образом, слово «дружба» первоначально имело смысл практического действия, это – отношение, союз, связка, которые могут не сопровождаться собственно дружескими чувствами – дружба-по-героизму (братство по оружию, описанное у Гомера), ритуализированная суровая верность, государственная дружба, дружба-родство, дружба мыслителей.
В период классики соперничающий, агональный грек ощущал отрыв внутреннего, интимного мира от внешней, поведенческой реальности. Он испытывал чувство одиночества, которое ему было необходимо разделить с родственной душой, восстановить утраченную целостность, снять угрозу одиночества, стать цельным как прежде, как когда-то (пусть даже это было доступно только далеким предкам). Поэтому Платон определял любовь и дружбу как жажду целостности и стремление к ней [19, с. 101]. Дружба прекрасно соответствовала и дополняла известную греческую традицию – сохранение славного имени как непреходящей ценности, ибо это есть высший духовный способ достижения бессмертия. Вся деятельность Платона посвящена увековечиванию памяти Сократа – друга, духовного пастыря.
Аристотель подчеркивал созидательную процессуальность дружбы, отмечая, что чувство дружеской привязанности сходно с творчеством. Друга любят как свое творение, но поскольку дружба – это общение душ, то существование друга (его добродетели) человек чувствует в самом себе (в душе) как «второе Я», не тождественное с «Я» («друг— это «второе я», когда дело касается очень близкого друга» [4, с. 372]. Более того, дружба увеличивает область собственной самости. Это важное положение, конституирующее принципы феноменологической топики, необходимо рассматривать в соответствии с античными представлениями о пространстве души и ее структуре. Эллинистический субъект, познавая себя, стремился отыскать внутреннюю опору, стержень, центр, структурирующий внутреннее пространство. Концепция душевной топики интересно увязывается Аристотелем в учении о дружбе. Мыслящая часть души составляет самость каждого человека и служит основанием для конструирования добродетелей в человеке и соответственно – условием дружбы.
Важным положением является мысль Аристотеля о том, что признаки дружбы происходят из отношения к самому себе. Добродетельный человек находится в согласии с самим собой, он желает проводить время сам с собой, делить горе и удовольствие с самим собой. Порочный же человек избегает общения с собой, в нем нет ничего достойного дружбы, в его душе разлад, колесница души разрывается на части. Друг – это «иной (Я сам)» и к другу относятся как к самому себе, ибо друзья живут «душа в душу». И в душе живут «чувство собственного бытия» («Я») и «чувство бытия друга» («Другой как Я», «Друг – Я»), деятельное проявление (энергия) этого чувства возникает именно в дружбе как «жизни сообща». Гармоничный человек интенцирован на средоточие добродетелей, в котором соприсутствуют воедино, в идеале – неразрывно, два внутреннего «друга» – «Я как Я сам» (как мой образ меня), и Друг как «иной Я сам».
Одиночество допускается Аристотелем даже не для праведника, ибо он нуждается в людях, относительно которых и вместе с которыми он станет поступать справедливо, а только для мудреца.Только он может предаться созерцанию в уединении, и чем мудрее он будет, тем лучше. Аристотель, признавая ценность бытия отдельного человека, обосновывает первичность дружбы, питаемой к самому себе («себялюбие»), представляющей собой угождение уму и достижение нравственной красоты и высшего счастья (в отличие от порочного «себялюбия» – угождающего неразумной части души). Совершая прекрасные поступки, добродетельный человек достигнет пользы сам и оказывает услуги другим. Но поскольку Аристотель понимает человека как общественное существо, которому прирождена «жизнь сообща», блаженный человек не может быть одиночкой. Античный человек первоначально вглядывался в божество, пользуясь, как говорил Сократ, «этим прекраснейшим зеркалом» [25, с. 263] для определения человеческих качеств в соответствии с добродетелью души, то есть для видения и познания самого себя.
Становясь «очагом», интенциальным пунктом самосознания, человек заглядывал в собственную душу, как в зеркало, прежде всего в божественную часть, в которой заключено достоинство души – мудрость. Как заметил Сократ, из всех внутренних зеркал познание и разумение являются самым чистым зеркалом души. В этом зеркале мудрец видит и друга (Другое Я), равноправного, но не тождественного субъекта.
Совместное общение друзей, а также взаимное называние (окликание) друга по имени предстает как уклонение от возможного одиночества (уединения или изоляции), преодоление боязни лишить себя приватных связей, интимного смысла собственного бытия, немыслимого без Другого. Взаимное называние (окликание) имени друга есть обозначение, определение, ощупывание внутренних/внешних границ феноменологической топики, и таким образом – очерчивание личных областей самости Я, о-пределение важнейшего одновременно возвышенного и интимного фрагмента сущности. Имя является неотъемлемым атрибутом человека, соединяющим в себе интимно-личностное и божественный отпечаток, определяющий предназначение человека. Поэтому впоследствии Псевдо-Дионисий Ареопагит озаглавил свой трактат «Божественные Имена», обосновывая «всеименность Бога», согласно принципам катафатической теологии, чтобы последовательно провозгласить «безымянность» Бога как объекта апофатического богословия.
Дружба, таким образом, выступает деятельностью взаимного творческого добродетельного преобразования друзей через средоточие экзистенциальных состояний – через души. Хотя Аристотель описывает лишь одну сторону этого взаимного дружеского воздействия – душу одного человека, но можно логически дополнить это положения выводом о том, что не только Другое – Я («чувство бытия друга») пестуется в душе как собственное творение, но и в обратном направлении – Я друга, также существующее (присутствующее) в душе человека, оказывает творческое воздействие на Я, увеличивая самость Я. Справедливо и утверждение о зеркальном отражении Я в душе друга (друзья «живут душа в душу»). Позднее по аналогии с платоновской концепцией андрогина – «половина души моей», взаимопроникновение, родство душ друзей было отражено в характеристике друга как «Второго Я», данного Августином Аврелием, который цитирует Горация, называвшего своего друга Вергилия «дорогой половиной души своей» [1, Кн. 4. VI, 11, с. 516].
Вспомним о доминирующем неприятии отшельничества (судьбу того же Гераклита и ее оценку Диогеном Лаэртским, приведенную выше) и сделаем вывод об идеале мудреца: мудрец должен пребывать в интеллектуальном одиночестве в социуме, независимо от того, согласен ли с этим реальный, конкретный социум (община, род, народ), «толпа», разделяет ли социальное окружение взгляды самого мудреца.
Сделаем предварительные выводы. Человеческий идеал античной философии – мудрец представал человеком, устремленным к полной или частичной прижизненной идентификации с высшими силами (божествами, Благом, категориями). Мудрец представал человеком, окруженным друзьями, общественными (полисными) структурами, то есть так или иначе включенным в социально-политические процессы. При этом внимание было обращено именно на самого мудреца, как «партнера» Бога, а не на самого Бога, с признанием божественного происхождения мудрости. Античный Homo Solus проявлялся в двух ипостасях.
Во-первых, в форме негативного одиночества, изоляции человека, ощущающего одиночество как ущербность собственной самости, как изъян, не позволяющий ему находиться внутри жизни полиса, и стремящийся найти друга и стать другом, иметь дружеские связи, удерживающие от падения в одиночество. Этот человек есть либо «дурной человек», достойный участи изгоя, смертника, раба, то есть маргинал, либо в трагическом варианте – обреченный неумолимым роком, как царь Эдип, на «кармическую» плату за преступления рода, как человек, мучительно постигающий мудрость ценой потерь и невзгод.
Во-вторых, это было одиночество возвышенно-позитивное, уединение: Homo Solus – мудрец, стремящийся к достижению идентичности с высшими силами (божествами, Благом, категориями), беседующий с «самим собой», с Другом, с сущностным инобытием внутри самого Я.
В последующем мы исследуем развитие экзистенциала одиночества в античной философии – от Эпикура до Плотина.
Библиографический список
- Августин Аврелий. Исповедь // Блаженный Августин. Творения : в 4 т. СПб. : Алетейя ; Киев : УЦИММ-Пресс, 2000. Т. 1. Об истинной религии. 742 с.
- Антология мировой философии. Т. 1. Ч. 1. М., 1969. 576 с.
- Антология кинизма. Фрагменты сочинений кинических философов. М. : Наука, 1984. 398 с.
- Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения : в 4 т. М. : Мысль, 1983. Т. 4. С. 53-294.
- Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения : в 4 т. М. : Мысль, 1983. Т. 4. С. 375-644.
- Берти Э. Древнегреческая диалектика как выражение свободы мысли слова // Историко-философский ежегодник. М., 1990. С. 321-344.
- Гагарин А.С. Феноменологическая топика: смысложизненное пространство экзистециалов человеческого бытия // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук. 2009. № 9. С. 7-26.
- Гагарин А.С. Экзистенциалы человеческого бытия: одиночество, смерть, страх (от античности до Нового времени). Екатеринбург, 2001. 372 с.
- Гесиод. Труды и дни // Гесиод. Полн. собр. текстов. М. : Лабиринт, 2001. С. 51-75.
- Гегель Г.В.Ф. Эстетика. В 4 т. М. : Искусство, 1968. Т. 1. 330 с.
- Грейвс Р. Мифы древней Греции. М. : Прогресс, 1992. 620 с.
- Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М. : Мысль, 1986. 571 с.
- Кьеркегор С. Понятие страха // С. Кьеркегор. Страх и трепет. М. : Республика, 1993.С. 115-248.
- Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. М. : Мысль, 1989. 205 с.
- Миюскович Б. Одиночество: междисциплинарный подход // Лабиринты одиночества. М. : Прогресс, 1989. С. 52-87.
- Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ф. Ницше. Сочинения : в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 47-157.
- Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху Греции // Ф. Ницше. Избр. произведения : в 3 т. М. : REFL-book, 1994. Т. 3: Философия в трагическую эпоху. С. 192-253.
- Платон. Государство // Платон. Собрание соч. : в 4 т. М. : Мысль, 1990. Т. 3. С. 79-240.
- Платон. Пир // Платон. Собрание соч. : в 4 т. М. : Мысль, 1990.Т. 2. С. 81-134.
- Платон. Алкивиад 1 // Платон. Собрание соч. : в 4 т. М. : Мысль, 1990. Т. 1. С. 220-267.
- Плутарх. Солон и Попликола // Плутарх. Сравнительные жизнеописания : в 3 т. М., Наука, 1961. Т. 1. С. 102-110.
- Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М. : Наука, 1989. 576 с.
- Хайдеггер М. Введение в метафизику. СПб. : ВРФШ, 1998. 304 с.
- Шеллинг Ф.В.Й. Философия искусства. М. : Мысль, 1966. 496 с.
- Эпиктет. В чем наше благо? // Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М. : Республика, 1995. С. 277-322.
Материал поступил в редколлегию 28.06.2013 г.
Anatoly S. Gagarin, Doctor of Philosophy, associate professor, leading researcher,
Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. Ekaterinburg.
LONELINESS AS EXISTENTIALE OF ANCIENT PHILOSOPHY (From Hesiod to Aristotle)
Abstract: The article examines the ancient roots of Homo Solus, a lonely man. First, antique Homo Solus manifested himself in the form of negative loneliness, the isolation of a person who feels lonely being flawed from his own self, which did not allow him to be inside the life of the policy. Such person was either a "bad man", the marginal excluded from the society, or, as king Oedipus, was manly passive antique tragic figure, a loner entering a dangerous path of selfreflection. The second was sublimely positive loneliness, the solitude: it was Homo Solus as the sage, aspiring to achieve identity with higher powers (deities, the goodness), chatting with the essential otherness inside the self. Based on the principle of the "golden mean" and "the measure of everything", ancient Greek sage did not put himself in the center of the universe. He did not identify himself (the I) with the divine, the essence. The intention toward the "golden mean" refers to the consolidation in the phenomenological philosophical topic the ideal of contemplative spiritual dispassionate identification with a perfect entity. The specificity and charm of antique model of the loneliness lies in the following fact: regardless of the opinion of the crowd, a man looking for wisdom is (by virtue of this philosophical intention) oriented toward the "measure of everything". He is located in the middle of everything, in the center of the universe and space (but as in spite of the subjective will of the philosopher, without desire, without passion). The sage is a man who strives toward loneliness and, at the same time, deviates from loneliness. A person becoming an intentional point of self-consciousness has looked into his soul as in a mirror, especially in its divine part, which contains the wisdom as the dignity of the soul.
Keywords: loneliness, phenomenological topic, existential of human being, friendship, wisdom, sage, Ancient philosophy, Hesiod, Oedipus, Democritus, Heraclitus, Socrates, Plato, Aristotle, Nietzsche.
The transliteration of the list of literature (from the cirillic to the latin symbols) is submitted below
Bibliograficheskij spisok
- Avgustin Avrelij. Ispoved' // Blazhennyj Avgustin. Tvorenija : v 4 t. SPb. : Aletejja ; Kiev : UCIMM-Press, 2000. T. 1. Ob istinnoj religii. 742 s.
- Antologija mirovoj filosofii. T. 1. Ch. 1. M., 1969. 576 s.
- Antologija kinizma. Fragmenty sochinenij kinicheskih filosofov. M. : Nauka, 1984. 398 s.
- Aristotel'. Nikomahova jetika // Aristotel'. Sochinenija : v 4 t. M. : Mysl', 1983. T. 4. S. 53-294.
- Aristotel'. Politika // Aristotel'. Sochinenija : v 4 t. M. : Mysl', 1983. Т. 4. S. 375-644.
- Berti Je. Drevnegrecheskaja dialektika kak vyrazhenie svobody mysli slova // Istorikofilosofskij ezhegodnik. M., 1990. S. 321-344.
- Gagarin A.S. Fenomenologicheskaja topika: smyslozhiznennoe prostranstvo jekzistecialov chelovecheskogo bytija // Nauch. ezhegodnik In-ta filosofii i prava Ural. otd-nija Ros. akad. nauk. 2009. № 9. S. 7-26.
- Gagarin A.S. Jekzistencialy chelovecheskogo bytija: odinochestvo, smert', strah (ot antichnosti do Novogo vremeni). Ekaterinburg, 2001. 372 s.
- Gesiod. Trudy i dni // Gesiod. Poln. sobr. tekstov. M. : Labirint. 2001. S. 51-75.
- Gegel' G.V.F. Jestetika. V 4 t. M. : Iskusstvo, 1968–1973. T. 1. 330 s.
- Grejvs R. Mify drevnej Grecii. M. : Progress, 1992. 620 s.
- Diogen Lajertskij. O zhizni, uchenijah i izrechenijah znamenityh filosofov. M. : Mysl', 1986. 571 s.
- K'erkegor S. Ponjatie straha // S. K'erkegor. Strah i trepet. M. : Respublika, 1993. S. 115-248.
- Losev A.F. Istorija antichnoj filosofii v konspektivnom izlozhenii. M. : Mysl', 1989. 205 s.
- Mijuskovich B. Odinochestvo: mezhdisciplinarnyj podhod // Labirinty odinochestva. M. : Progress, 1989. S. 52-87.
- Nicshe F. Rozhdenie tragedii iz duha muzyki // F. Nicshe. Sochinenija : v 2 t. M., 1990. T. 1. S. 47-157.
- Nicshe F. Filosofija v tragicheskuju jepohu Grecii // F. Nicshe. Izbr. proizvedenija : v 3 t. M. : REFL-book, 1994. T. 3: Filosofija v tragicheskuju jepohu. S. 192-253.
- Platon. Gosudarstvo // Platon. Sobranie soch. : v 4 t. M. : Mysl', 1990. T. 3. S. 79-240.
- Platon. Pir // Platon. Sobranie soch. : v 4 t. M. : Mysl', 1990. T. 2. S. 81-134.Platon. Alkiviad 1 // Platon. Sobranie soch. : v 4 t. M. : Mysl', 1990. T. 1. S. 220-267.
- Plutarh. Solon i Poplikola // Plutarh. Sravnitel'nye zhizneopisanija : v 3 t. M., Nauka, 1961. T. 1. S. 102-110.
- Fragmenty rannih grecheskih filosofov. Ch. 1. M. : Nauka, 1989. 576 s.
- Hajdegger M. Vvedenie v metafiziku. SPb. : VRFSh, 1998. 304 s.
- Shelling F.V.J. Filosofija iskusstva. M. : Mysl', 1966. 496 s.
- Jepiktet. V chem nashe blago? // Rimskie stoiki: Seneka, Jepiktet, Mark Avrelij. M. : Respublika, 1995. S. 277-322.