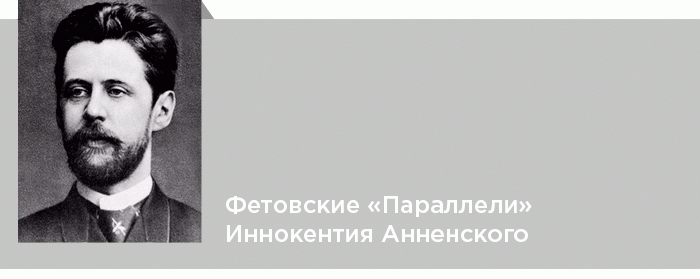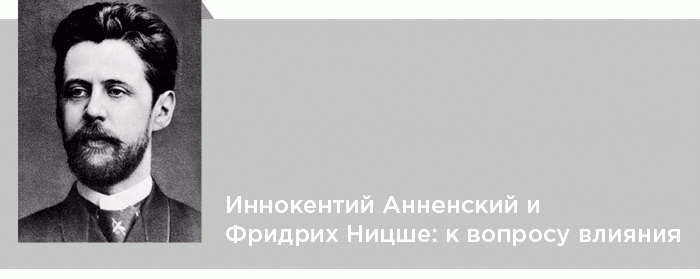Флорентийские ассоциации Иннокентия Анненского
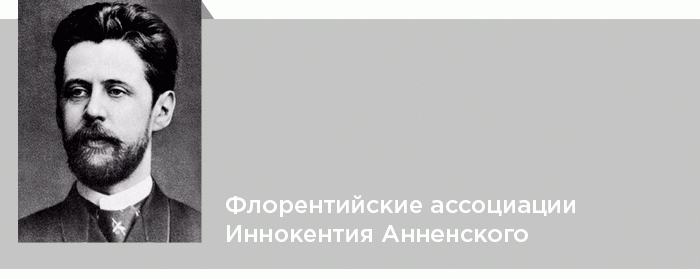
М.П. Гребнева
Алтайский государственный университет
Иннокентий Анненский побывал во Флоренции летом 1890 года. Сложность внутреннего мира путешественника оказалась родственной духу этого города. Он не без иронии воспринял бытовую составляющую Флоренции. Взгляд живописца отличает Анненского в письме к жене от 4 июля 1890 года. Его внимание привлекают жандармы: «в своих фраках с серебряными пуговицами, башмаках и треуголках, ремень от которых держится на подбородке, ходят, кажется, больше для красоты, чем для порядка» [Кара-Мурза, 2001, с. 252]; молодые девушки: «Из-под белой или бледно-палевой шляпки выглядывают глаза, на которые где-нибудь на Морской стали бы смотреть как на диковинку. Газ на шляпе, иногда простой цветок, тоненькая талия, загорелая ручка в митеньке или голая, черный веер и эти чудные завитки волос на лбу и на стройной шейке…» [Кара-Мурза, 2001, с. 252]; военные: «Еще выделяется из толпы итальянский офицер. В своем широком пиджаке, в оттянутых серых с красными лампасами рейтузах, в маленькой кепи, бритый, с щегольскими усами и той особенно красивой и изящной вежливостью, которая дается одним итальянцам…» [Кара-Мурза, 2001, с. 252]. Поражает красота определенных Анненским типов людей. Причем, это касается не только людей, но и самой Флоренции.
Заметим, что все, увиденное путешественником, происходит на улице, среди множества людей, в толпе. В связи с этим Флоренция поражает своей первозданностью: ее улицы вымощены, как тротуар, поэтому толпа ходит по ним, а не по тротуарам, тяжелые омнибусы почему-то не загромождают их.
На улицах присутствуют домашние животные, которые иронично сравниваются Анненским с людьми: «Вот на мосту слышится какой-то дикий крик – сначала он меня очень удивлял: это ослик в красной уздечке или с торбой под мордой заупрямился, а не то испугался» [Кара-Мурза, 2001, с. 251].
Как выясняется, «еще диче, кажется, кричат разносчики разной дрянью: специальным продуктом здешним – восковыми спичками, с водой, со свежими газетами» [Кара-Мурза, 2001, с. 251]. Ослик сравнивается не только с разносчиками всякой дряни, но и с людьми, которые распространяют программки: «Вот среди улицы торжественно движется коляска: на подножках стоят какие-то болваны в красных (как у ослов – М.Г.) фесках и раздают направо и налево программы сегодняшнего вечера в кафешантане» [Кара-Мурза, 2001, с. 251]. Коляска движется торжественно, а располагаются на ней болваны, да еще в головных уборах красного цвета.
Флоренция предстает городом обычных, но многочисленных развлечений: «Заезжий цирк выставил афиши, которые можно прочесть за версту. Оперетка высылает свои афиши на длинных лучинах – их носят мальчишки среди улицы» [Кара-Мурза, 2001, с. 251-252].
Анненский набросал и психологический портрет обыкновенного флорентийца: «Несмотря на живость итальянцев, толпа на улице чрезвычайно сдержанная. Я никогда еще не увидал ни одного скандала, хотя шатался Бог знает по каким закоулкам, я не встретил даже ни одного пьяного» [Кара-Мурза, 2001, с. 252].
Да и сам автор стремился достаточно органично вписаться в бытовую жизнь Флоренции: «Деньги идут у меня ужасно. Здесь так заманчивы фотографии, мозаики, разные мелочи, что я просто боюсь теперь смотреть в окна магазинчиков… Здесь очень хорошая мужская мода. Пиджаки у многих без жилетов, а так как вообще итальянцы большие франты, то они заменяют жилет большим кушаком с ремнями…» [Кара-Мурза, 2001, с. 114-115]; «В ½ 4-го обед – pranzo по-здешнему. На первое кушанье я сегодня, например, взял risotto con piseli, т.е. большая тарелка чего-то вроде плова, очень жирного, с сыром и заправленного горошком. Сытно так, что второго кушанья я уже и не спрашивал» [Кара-Мурза, 2001, с. 115].
Однако приятие бытовой стороны жизни, хоть и не без иронии, соседствует у Анненского с ощущением всегдашней внутренней дисгармонии. В письме от 1 июля 1890 года к жене он, в частности, замечал: «Все, что предполагалось, мы видели. Монументы, церкви, картины – все это обогащает ум. Я чувствую, что стал сознательнее относиться к искусству, ценить то, чего прежде не понимал. Но я не чувствую полноты жизни. В этой суете нет счастья» [Памятники культуры, 1983, с. 113]; «… ты не обижаешься на меня. Я тебя уверяю, что лучше тех мгновений, которые ты мне дала своей лаской и любовью, у меня не было, и все-таки ты знаешь, что я всегда и везде томлюсь…» [Памятники культуры, 1983, с. 113].
Как оказалось впоследствии, это были мгновения счастья, связанные с поисками цветка мечты, скорее всего, обретенного именно в «городе цветов»: «Как несчастный, осужденный искать голубого цветка, я, вероятно, нигде и никогда не найду того мгновения, которому бы можно сказать: “остановись – ты прекрасно”» [Памятники культуры, 1983, с. 113].
Сын поэта задавался вопросом: «Нашла ли сложная и обреченная душа отца, хотя к концу его дней, свой «голубой цветок»?» [Памятники культуры, 1983, с. 113]. И отвечал себе: «Не знаю. Едва ли. По крайней мере стихи его – одни из самых ярких по своей напряженной субъективности в русской лирике, иногда доходящие до жуткости “лирических документов”, предположения такого не подтверждают…» [Памятники культуры, 1983, с. 113].
Заметим, однако, что в лирике Анненского есть ряд стихотворений, объединенных образом лилии, белой лилии, которая традиционно считается символом Флоренции. Е.А. Некрасова полагает, что у Анненского – это символ, который «лишен четкой конкретности» [Некрасова, 1991, с. 58], который «связывается с мучительными и одновременно возвышенными чувствами лирического героя» [Некрасова, 1991, с. 58]. Думается, что доля конкретики, именно флорентийской конкретики, в этом символе все-таки есть.
Так, первое стихотворение цикла «Лилии» (1901) называется «Второй мучительный сонет». Флоренция для его автора запечатлелась в красоте цветка:
С тех пор в отраве аромата
Живут, таинственно слиты,
Обетованье и утрата
Неразделимой красоты…
[Анненский, 1990, с. 74]
Она заключена в невозможности ее забыть:
Живут любовью без забвенья
Незаполнимые мгновенья…
[Там же, с. 74]
Она таится в ночном сне-сказке аллей:
И если чуткий сон аллей
Встревожит месяц сребролукий,
Всю ночь потом уста лилей
Там дышат ладаном разлуки
[Там же, с. 74].
Второе стихотворение цикла «Зимние лилии» сближается с первым за счет мотива ночи:
Зимней ночи путь так долог,
Зимней ночью мне не спится…
[Там же, с. 74]
Правда, мотив сна в предыдущем произведении соседствует с мотивом бессонницы в этом. Хотя герой не спит, но воздух все-таки источает сон:
Серебристые фиалы
Опрокинув в воздух сонный,
Льют лилеи небывалый
Мне напиток благовонный…
[Там же, с. 74]
Бессонница героя необходима автору, она ведет его по дороге в прошлое:
В белой чаше тают звенья
Из цепей воспоминанья,
И от яду на мгновенье
Знаньем кажется незнанье…
[Там же, с. 75]
«Мгновенье» закрепилось, остановилось, флорентийское прекрасное мгновенье, равносильное воздействию яда на человека. Заметим, что мотивы мгновенья и яда позволяют сблизить два первых стихотворения цикла:
Живут любовью без забвенья
Незаполнимые мгновенья…
[Там же, с. 74]
И от яду на мгновенье
Знаньем кажется незнанье.
[Там же, с. 75]
С тех пор в отраве аромата
Живут, таинственно слиты…
[Там же, с. 74]
Рад я сладостной отраве
Напряженья мозгового…
[Там же, с. 74]
Мотив воспоминаний возникает и в третьем стихотворении цикла – «Падение лилий»:
За тенью исчезает тень,
А сердцу снится тень иная,
И сердце плачет, вспоминая.
[Там же, с. 75]
Тени-воспоминания сгорают в огне камина, но на миг они оживают вновь:
Падут минутные строенья:
С могил далеких и полей
И из серебряных аллей
Услышу мрака дуновенье…
[Там же, с. 75]
Эти воспоминания складываются в чудный сон, в сказку о Флоренции в первом и в третьем стихотворении цикла:
И если чуткий сон аллей
Встревожит месяц сребролукий…
[Там же, с. 74]
За тенью исчезает тень,
А сердцу снится тень иная…
[Там же, с. 75]
Дорогие сердцу воспоминания забываются, они сгорают, вянут, как лилии:
А ты, волшебница, налей
Мне капель чуткого забвенья,
Чтоб ночью вянущих лилей
Мне ярче слышать со стеблей
Сухой и странный звук паденья.
[Там же, с. 75]
Представление о цветке сменяется представлением о чаше-цветке, куполе собора Санта Мария дель Фьоре, как думается, в стихотворении «Тоска возврата» из книги «Тишина» (1904):
Уже лазурь златить устала
Цветные вырезки стекла,
Уж буря светлая хорала
Под темным сводом замерла…
[Там же, с. 76]
В. Розанов писал о том, что «как “Duomo” ярок, цветист, радостен снаружи, так внутри он меня поразил бедностью, сухостью, темнотою. Небольшие окна, то круглые, розеткою, то длинные, почти лентою, унизаны синими, пунцовыми, реже желтыми, вообще темно-цветными стеклышками, почти не пропускающими света» [Кара-Мурза, 2001, с. 275].
О внутреннем убранстве собора размышлял И. Гревс: «Нельзя сказать, что сразу делается хорошо на сердце, когда впервые станешь под монументальными сводами. Неприятно действует прежде всего недостаток света, слабо проникающего сквозь узкие стрельчатые окна, которыми редко прорезаны широчайшие простенки» [Кара-Мурза, 2001, с. 278].
Немые тени (прихожан? священников?) противопоставляются в этом стихотворении ангелам:
Но ангел Ночи бледнолицый
Еще кафизмы не читал…
[Там же, с. 76]
Томится День пережитой,
Как серафим у Боттичелли…
[Там же, с. 77]
Остается только догадываться, о каком ангеле Боттичелли, прославленного флорентийского живописца, идет здесь речь. Нам представляется, что, скорее всего, об одном из изображенных на тондо «Мадонна Магнификат».
Дж. Вазари в жизнеописании Боттичелли, в частности, писал: «В церкви Сан Франческо, что за воротами Сан Миньято, есть тондо с Мадонной и несколькими ангелами в человеческий рост, выполненное рукой Сандро и почитавшееся произведением прекраснейшим» [Вазари,1993, с. 665]. Вазари ведет речь о находящейся теперь в Уффици «Мадонне Магнификат» [Вазари, 1993, с. 673].
Магнификат, как отмечается во Всеобщей истории искусств, – это «наименование церковного песнопения» [Всеобщая история искусств, 1962, с. 121].
Очень важным в стихотворении оказывается именно звуковой, песенный, церковнопесенный ряд:
Уж буря светлая хорала
Под темным сводом замерла…
[Там же, с. 76]
Но ангел Ночи бледнолицый
Еще кафизмы не читал…
[Там же, с.76]
В луче прощальном, запыленном
Своим грехом неотмоленным
Томится День пережитой,
Как серафим у Боттичелли,
Рассыпав локон золотой…
На гриф умолкшей виолончели.
[Там же, с. 77]
В произведении явно соотносятся между собой замершие звуки хорала и звуки умолкшей виолончели, запыленный луч с золотым локоном ангела.
Умирающему Дню и ангелу уподобляет себя Анненский в стихотворении «Еще лилии» (опубликовано в 1923 году):
Когда под черными крылами
Склонюсь усталой головой
И молча смерть погасит пламя
В моей лампаде золотой…
[Там же, с. 173]
Томится День пережитой,
Как серафим у Боттичелли,
Рассыпав локон золотой…
На гриф умолкшей виолончели.
[Там же, с. 77]
Усталого человека можно уподобить томящемуся Дню, золотую лампаду – звучащей виолончели, задутую лампаду – умолкшей виолончели, задутую золотую лампаду – рассыпавшемуся золотому локону.
В этом стихотворении также возникает образ лилий, но не увядших и не сгоревших, а обреченных на бессмертие:
Цветов мечты моей мятежной
Забыв минутную красу,
Одной лилеи белоснежной
Я в лучший мир перенесу
И аромат и абрис нежный.
[Там же, с. 174]
Лилия оказывается символом всего лучшего, что было в жизни лирического героя:
Я не возьму воспоминаний,
Утех любви пережитых,
Ни глаз жены, ни сказок няни,
Ни снов поэзии златых…
[Там же, с. 174]
Впечатлениями о Флоренции, возможно, навеян очерк под названием «Сентиментальное воспоминание» (1908). Вообще, как и всегда, речь у Анненского идет не об одном воспоминании, а об их цепи. Автор пишет о чем-то неопределенном, но похожем на радугу, о радуге-цветке: «Это было давно, очень давно, и она была еще радугой; сначала тонкая и бледная, радуга эта мало-помалу расцвела, распустилась, стала такая яркая, такая несомненная, потом расширилась – разбухшая, бледная, потом стала делаться все бледнее, все сумрачнее, незаметнее, и, наконец, отцвела совсем» [Там же, с. 215].
Прошлое настигло героя в России, в летнем саду после дождя: «Я стоял тогда в потемневшем и освеженном саду. Был тихий летний вечер, такой тихий, что он казался праздничным, почти торжественным. Такие вечера бывают только у нас, на севере, недалеко от больших и пыльных городов и среди жидкого шелеста берез» [Там же, с. 215].
Однако российский пейзаж напомнил ему о южной природе, вызвал еще одно воспоминание: «Они не кипарисы, конечно, эти белые, эти грешные березы – они не умеют молиться, жизнь их слишком коротка для этого…» [Там же, с. 215]. Как тут не вспомнить, что, описывая церковные дворики Флоренции, Анненский замечал: «…Посередине растет трава, кипарис, розовый куст, а по коридору шныряют жирные монахи с острыми глазами и тонзурой во всю голову…» [Кара-Мурза, 2001, с. 115].
Речь идет не просто о юге, речь идет об Италии, возможно, о Флоренции: «Я не докончил тогда моих стихов о радуге – где-то близко не то запела, не то заныла старая итальянская шарманка…» [Там же, с. 216]. Звук этой шарманки вызвал размышления о прежних инструментах: «Те, давние шарманки – отчего больше их не делают? Новые, когда они охрипнут, ведь это же одна тоска, одна одурь, один надрыв. А те, давние? Самым хрипом своим – они лгали как-то восторженно и самозабвенно» [Там же, с. 216].
В прежнем героя запечатлелось счастье, полнота человеческой жизни, отсутствующая в настоящем: «Господи, что она играла тогда, эта коробка со стеклом, сквозь которое я так любил таинственную красную занавеску, символ тайны между жизнью и музыкой…» [Там же, с. 216].
Италией, творчеством флорентийских художников навеяна интерпретация Анненским гоголевского «Портрета» в статье «Проблема гоголевского юмора» (1905). Причем, когда автор говорит о Гоголе, он явно подразумевает и самого себя: свои человеческие качества, свою творческую манеру.
Интерес Анненского к живописи в связи с этим не случаен, так как она помогает сохранять жизнь. И даже шире, речь идет не только о живописи, но об искусстве вообще, искусстве, способном внести свет в жизнь человека: «Просветленность – это как бы символ победы духа над миром и я над не-я, и созерцающий произведение искусства, участвуя в торжестве художника, минутно живет его радостью» [Анненский, 1987, с. 187].
Судьба создателя портрета ростовщика уподобляется не только судьбе прославленного флорентийца Фра Беато Анджелико, не только судьбе Гоголя, но и судьбе художника Анненского: «Бывший богомаз становится монахом, подвижником и умирает примиренным, создав-таки под конец жизни, как тот строгий флорентиец, которого назвали «блаженно-ангельским братом», свою «Мадонну Звезды» [Анненский, 1987, с. 190]; «Написал ли Гоголь свою “Мадонну Звезды”?.. Может быть, и написал, но не здесь, а в другой, более светлой обители… если мы не захотим допустить, что он оставил ее и здесь, только в лазурных красках невозможного, которое не перестает быть желанным» [Анненский, 1987, с. 191].
С Гоголем Анненского сближает то чувство тоски, которое ни на мгновение не оставляло его даже во Флоренции: «Чем долее выписывал Гоголь в портрете России эти бездонные и безмерно населенные глаза его, тем тяжелей и безотраднее должно было казаться ему собственное существование» [Анненский, 1987, с. 193].
Сюжет гоголевского «Портрета» удивительно созвучен не только сюжету прославленной флорентийской картины Леонардо «Мона Лиза», о которой упоминает Анненский, но и «сюжету» жизни самого автора статьи. Центр всех сюжетов – глаза, живые глаза героев: «…может быть, Гоголь нашел прототип своих страшных глаз где-нибудь во время странствий по Италии, классической стране портретов, изображающих людей с сильными страстями» [Анненский, 1987, с. 193]. Сын Анненского вспоминал об отце: «Но была в его наружности черта, о которой хотелось бы сказать несколько слов особо. Это глаза» [Памятники культуры, 1983, с. 112]; «И была в них (в глазах – М.Г.) еще черта, о которой хотелось бы упомянуть. Это – свойство как-то сразу и незаметно менять свое выражение» [Памятники культуры, 1983, с. 113].
Живопись интересует Анненского не сама по себе, а в связи с поэзией, в связи с возможностями живописи реально воспроизводить поэзию. Возможности же эти, по мысли автора статьи, ограничены: «Поэт не создает образов, но он бросает веками проблемы. Между дантовской Беатриче и “Мадонной Звезды” Фра Беато, несмотря на родственность концепций, лежит целая пропасть» [Анненский, 1987, с. 428]; «Задумывались ли вы когда-нибудь над безнадежностью иллюстраций поэзии? Конечно, карандашные рисунки Боттичелли безмерно интереснее банальной роскоши Доре и его вечного грозового фона. Но даже в усиленно строгих штрихах нежного кватрочентиста мы видим не столько Данте, сколько любовь Боттичелли к Данте» [Анненский, 1987, с. 428].
В стихах и прозе И. Анненский запечатлел Флоренцию – бытовую, шумную, яркую, с одной стороны, и чудесную, неземную, поэтическую, с другой стороны.
Символами этого города можно считать белые лилии и живописные работы Фра Беато Анджелико.
Литература
- Анненский И.Ф. Избранное. М., 1987.
- Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л., 1990.
- Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: В 5-ти т. М., 1993. Т. 2.
- Всеобщая история искусств. Искусство эпохи Возрождения. М., 1962. Т. 3.
- Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Флоренции. М., 2001.
- Некрасова Е.А. А. Фет, И. Анненский. Типологический аспект описания. М., 1991.
- Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник’1981. Л., 1983.