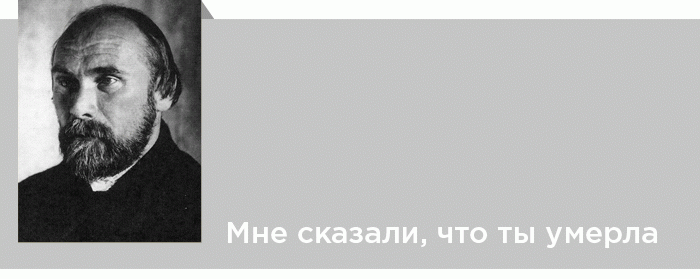Эволюция лирического «я» в поэзии Н. Клюева

Т.А. Пономарева
В статье анализируется эволюция лирического «я» в поэзии Н. Клюева. Лирический субъект ранних сборников 1910-х сменяется эпическим повествователем «Песнослова» (1919). В лирике 1920-х годов появляется образ лирического героя как личности, не только стоящей за текстом, но и непосредственно выявленной в тексте, с ее психологическими и биографическими особенностями.
Лирик, лирический субъект, повествователь, лирический герой, лирическое «я», художественная картина мира.
The article presents the analysis of evolution of lyric “I” in Kluiev’s poetry. In early collections of 1910th a lyric subject is replaced by the epic narrator in “Pesnoslov” (1919). In lyric of 1920th the image of a lyric hero as a personality appeared not only following the text butidentified in the text, with its psychological and biographical features.
Lyric poet, lyric subject, narrator, lyric hero, lyric “I”, artistic picture of the world.
Николай Алексеевич Клюев – самобытный русский поэт первой трети ХХ века, «посвященный от народа» – родоначальник и «идеолог» новокрестьянской литературы, в которой «избяная Русь» заговорила своим собственным голосом. Сегодня Николай Клюев рассматривается как один из крупных национальных поэтов ХХ столетия. В последние десятилетия к творчеству Николая Клюева активно обращаются не только отечественные ученые из Москвы, Санкт-Петебурга, Петрозаводска, Томска, Вологды и других городов, но и слависты из Украины, Латвии, Польши, Америки. На родине поэта в городе Вытегре вот уже в течение почти тридцати лет проходят ежегодные клюевские чтения, имеющие международный характер. Научные конференции, посвященные Клюеву, проводятся также в Томске и Петрозаводске. Благодаря совместным усилиям ученых воссоздана творческая и личная биография поэта, представлена художественная картина его мира, в которой отразились искания русского духа, «рублевская» Русь, крестьянское бытие. Клюевский «избяной космос» раскрывается перед читателем с помощью необычайного, сгущеннометафорического языка, «вития словес».
И вместе тем многие проблемы поэзии Николая Клюева не исследованы, в частности особенности выражения и формы авторского сознания в его лирике. Существуют книги В.Г. Базанова [1] и А.М. Михайлова [9] о его поэтическом мире, статьи Л.А. Киселевой [4] и Я. П. Изотовой [3] о стихотворных циклах Клюева. Немало сказано об эпическом начале в поэзии олонецкого художника, считавшего себя «посвященным от народа», Е.И. Марковой [7] и Э.Б. Мекшом [8], но эволюция образа «я» в его поэзии лишь намечена.
Носителя авторского сознания в первых сборниках Клюева традиционно называют «поэтом», иногда «лирическим субъектом» [9, с. 25]. В книгах «Сосен перезвон» (1911), «Братские песни» (1912) образ «я» условен, не имеет устойчивых биографических, психологических и сюжетных особенностей, а именно эти признаки лирического «я» позволяют, по мнению Л.Я. Гинзбург, говорить о лирическом герое как единстве внутренней жизни личности, не только стоящей за текстом, но и непосредственно выявленной в тексте [2, с. 145 – 150].
Широко употребляемый термин «лирический герой», как известно, был впервые введен Ю. Тыняновым. Это особая форма авторского сознания, в которой лирическое «я» является не только субъектом, но и объектом повествования, то есть он не только автор текста, но и объект авторского анализа. Это «„я“ сотворенное», по выражению М. Пришвина. Лирический герой связан не только с мировидением автора и его переживаниями, но и с духовно-биографическим опытом, психологией, речевой манерой. Лирический герой «автопсихологичен» [10, с. 313 – 314].
В первых сборниках Клюева лирическое «я» не сводится к единой личности. Оно многолико. Многоликость была творческим кредо поэта:
В художнике, как в лицемере,
Гнездятся тысячи личин... [5, с. 752].
Эти «личины» не были масками поэта, а были ипостасями его многомерной личности. В первых сборниках лирический субъект предстает в облике крестьянского певца «в лаптях и сермяге серой», романтического пилигрима, «пловца» с противоречивой душой («Наружный я и зол и грешен, неосязаемый – пречист» [5, с. 115]), разочарованного в «житейской суете», не принимающего людской «содомской злобы», тоскующего по «украшенному чертогу», «райским кринам» и «берегам иной земли», а также в образе художника-теурга, преображающего «пустыню жизни», утоляющего «вином певучим жажду душ из чаши сердца» [5]. А такие стихи, как «Я был прекрасен и крылат», «Я говорил тебе о Боге», «Поэт», раскрывают уже не символистскую концепцию поэта, творящего «сладостную легенду», но народное сознание и сектантские представления о мужичьем чаемом граде. Это и герой-борец. Скорбные песни «бедного пахаря» сменяются у Клюева «новыми молитвами», становятся революционными песнями:
Но не стоном отцов
Моя песнь прозвучит,
А раскатом громов
Над землей пролетит.
(«Безответным рабом...») [5, с. 79].
Ключевой образ героя первой книги – борца за свободу – отождествляется с образом Христа, первохристианских мучеников («рук пробитых гвозди», «князей синедрион»), а также жертв революции, «угасших в сырых казематах» и идущих на казнь («Мученик», «Завещание», «На пороге жизни», «Под вечер»), и одновременно с героем-повествователем, сидевшим в военной тюрьме («Прогулка», «Есть на свете край обширный»). Биографическое начало обнаруживается не в психологическом, личностном аспекте (воссоздание психологии реальной личности автора), а на уровне отдельных мотивов (тюрьмы, служения народу).
Даже своеобразный любовный роман героя («Вот и лето прошло, пуст заброшенный куст», «Любви начало было летом», «В златотканные дни сентября») и образ «девушки-голубки, в которой угадываются собирательные образы сестер Добролюбовых – Марии («сестра, погибшая в бою») и Елены («Ты все келейнее и строже», «Предчувствия»), не столько соотносятся с конкретными переживаниями биографического автора, сколько навеяны ранней блоковской лирикой и образом Прекрасной Дамы («по чувству сестра и подруга»).
Таким образом, в ранних стихах Клюева отражается не художественно трансформированное сознание индивидуума, а типы неиндивидуализированного, родового сознания – народнического, символистского, христианско-сектантского. Поэт говорит не от себя, а от лица «мы». Индивидуально-лирическое переживание проявляется лишь в отдельных стихотворениях, в частности, «Весна отсияла», в котором ставится проблема выбора пути.
Благодаря родовой эпической основе, которая выявляется в первых двух сборниках, в книге «Лесные были» (1913) естественно возникает «избяной космос». В «Лесных былях» Клюев отказывается от лирической субъективности, а лирическое «я» практически исчезает. Объектом изображения становится народная Россия. Клюев создает стилизованные под фольклор народные песни, в которых раскрывается русская душа («Посадская», «Бабья песня»», «Свадебная», «Кабацкая», «Острожная»). «Природы радостный причастник», он романтически идеализирует мир деревни, сакрализует «вещь».
Названия всех сборников Клюева ориентированы на эпическое, а не на лирическое сознание: «Сосен перезвон», «Братские песни», «Лесные были», «Мирские думы». Эпика торжествует в «красных» стихах сборника «Медный Кит» (1918), в описании «крестьянской вселенной» «Песнослова» (1919). Об этом свидетельствует и характер изображения мировой войны, революции 1917 года, которые рисуются не в индивидуализированных образах, а как в поэзии Маяковского и пролетарских поэтов, – в «общем разрезе», «панорамным планом».
Главным объектом повествования в «Песнослове», который стал итогом художественных исканий Клюева 1910-х годов, является не внутренняя жизнь человека, а изображение «крестьянского космоса», центром которого является изба. В стихотворении «Рожество избы» строительство дома, описанное с помощью профессионализмов, предстает как акт творения мира:
Крепкогруд строитель-тайновиде
Перед ним щепа, как письмена,
Запоет резная пава с крылец,
Брызнет ярь с наличника окна [5, с. 281].
«Изба-богатырица» одухотворена: «Душа избы старухой-теткой дремля, сидит у комелька» [5, с. 213]. Клюев любовно воссоздает крестьянский уклад, подробно описывает хозяйственные заботы («отжинки»; обмолот; «зазимки»; обработка льна; изготовление лаптей, пряжи, полотна; плетение из бересты), рисует миры, которые возникают вокруг «золотобревного отчего дома»: лес, поле, пашню. Избяной рай Клюева олицетворяет Святую Русь, судьба которой раскрывается в мистическом и историческом аспектах. Образ Руси воссоздается взглядом всевидящего повествователя, хотя и не беспристрастного автора «чистой» эпики, а поэта, «посвященного от народа», который видит в ней «белую Индию», преисполненную «тайн и чудес», идеальную страну духовного могущества и духовной культуры. Установка на эпически-объективированное повествование, хотя и субъективно идеализированное, несомненна.
Индивидуализация лирического переживания, стремление в субъекте повествования отразить не только «жизнь на русских путях», странствия «по русским дорогам-трактам» [6, с. 31, 38], но и личную судьбу автора начинают ощущаться в сборнике «Львиный хлеб» (1922) и усиливаются в последующих стихотворениях, лишь отчасти дошедших до современного ему читателя. «Львиный хлеб» – это книга трагических метаний героя, разочарований, разрывов, утрат и обретений крепости духа, надежд и отчаяния: «Родина, я грешен, грешен»; «Родина, я умираю», «Меня хоронят, хоронят». В них воплощены переживания биографического автора, связанные с кризисом веры в революционное Преображение, предчувствия своей трагической судьбы. Они получают воплощение в мотивах смерти, образах распятия, отрубленной головы, бесов, которые повторяются во многих стихотворениях Клюева, преследуют его в снах, становятся повторяющимися, сюжетообразующими и в художественной форме отражают индивидуально-личностное, собственно лирическое восприятие мира.
Эпический повествователь сменяется лирическим героем, столь не похожим на условный образ поэта в его ранней поэзии. Появляются устойчивые биографические и сюжетные реалии, которые передают душевный опыт автора. «Львиный хлеб» полон тревожными раздумьями. Нередки вопросительные конструкции, которые также говорят о лирической субъективации: «Где же свобода в венке из барбариса и равенство – королевич прекрасный?» Лирический герой осознает конфликт революции с крестьянской Русью, частью которой он себя чувствует: «Мы верим в братьев многоочитых, а Ленин в железо и красный ум». «Мы» в стихах этого периода призвано подчеркнуть единство судьбы героя и народа и нетождественно безликому «мы» пролетарской поэзии.
«Лик коммуны и русской судьбы» раскрывается в антитетичных образах света/тьмы, рождения/смерти, созидания/разрушения, радости/страдания, которые свидетельствуют о душевном смятении автора и трагическом разладе с ходом социально-исторической жизни: «Россия плачет пожарами» – «Россия смеется зарницами»; «Россия плачет распутицей – Россия сеется бурями». Поэт отмечает изменения в избяном мире. Страна Белой Индии превращается в «глухомань северного бревенчатого городишка», «Новая твердь над красной землей» становится «неприкаянной Россией», «невеста-Россия» – «обольщенной Русью». Красно-желтыми красками рисуется не «огненное восхищение», а «желто-грязный зимний закат», «листопадный предзимний звон», гибнущая страна:
Мы очнемся в Красном Содоме,
Где из струн и песен шатры,
Где русалкою Саломия
За любовь исходит в плясне...
Обезглавленная Россия
Предстает, как поэма, мне
(«Вороньи песни») [6, с. 445].
«Мы» уже не поглощают «я», а «я» отражает мирочувствование близких по духу людей, характерное и для «я».
Вторая половина 1920-х – начало 1930-х годов характеризуется равенством лирического и эпического в творчестве Клюева. Он создает и лирические стихи, в которых отразилась «золотая русская боль», выраженная в сугубо индивидуализированных переживаниях, и лирические циклы «Разруха» (1933 – 1934), «О чем шумят седые кедры» (1933), и трагический эпос об «отлетающей Руси» – поэмы «Деревня», «Заозерье» (1927), «Соловки» (1926 – 1928), «Погорельщина» (1928), «Песнь о Великой матери» (1931), «Плач о Сергее Есенине» (1926).
Главным содержанием незаконченной и сохранившейся лишь в отрывках поэмы «Каин», над которой поэт работал после «Погорельщины», становится тема личной вины за революционные «грехи» и ответственности лирического героя за поругание Святой Руси, о чем свидетельствует и вариант заглавия – «Я», ориентированный на лирическую субъективацию чувств. Об этом говорят и воспоминания о детстве в заключительной части поэмы:
И была колыбель моя
Под штофным пологом с орлами.
Их чудотворными шелками
Родная вышила любя.
Основным содержанием эпоса и лирики Клюева последних лет является воскресение облика уходящей Руси-Китежа силой слова и оплакивание «родины-вдовицы»: «Плачь, русская земля, на свете злосчастей нет твоих сынов» («Есть демоны чумы, проказы и холеры»). Клюев отказывается воспевать революцию («Мне революция не мать...», «Меня октябрь настиг плечистым», «Нерушимая стена»). В его лирике преобладают мотивы плача по утраченному раю («Наша русская правда погибла», «Не буду писать от сердца»), одиночества, нищеты («Стариком, в лохмотья одетым», «Есть дружба песья и воронья»), поиск опоры в мире «рогатых хозяев жизни», духовной дружбы («Милый друг, из Святогорья...», «С тобою плыть в морское устье», «Вспоминаю тебя и не помню», «Мне революция не мать») и предчувствия собственной гибели:
И теперь, когда головы наши
Подарила судьба палачу,
Перед страшной кровавою чашей
Я сладимую теплю свечу
(«Вспоминаю тебя и не помню», 1929) [6, с. 545].
Чувства и переживания лирического героя Клюева совпадают с мировосприятием биографического автора, с фактами его внешней биографии (изменение внешнего облика и превращение не достигшего еще пятидесяти лет мужчины в старца, постоянная нужда, изгойство).
Трагическая участь поэта осмыслена в контексте общей судьбы России:
Где же ты, малиновый, желанный,
Русский лебедь в чаше зоревой?!
Старикам донашивать кафтаны,
Нам же рай смертельный и желанный,
Где проказа пляшет со змеей.
(«Старикам донашивать кафтаны») [6, с. 550].
Цикл «Разруха» имеет лирический характер, более того, это образец высокой реалистической лирики. Вещая песня Гамаюна становится горькой и пророческой вестью лирического героя о гибели родной земли: «что зыбь Арала в мертвой тине, что редки аисты на Украине, моздокские не звонки ковыли», «что Волга синяя мелеет», «что нивы суздальские, тлея, родят лишайник да комли». Настоящее предстает «памятником великой боли», отражено в личностных переживаниях народных страданий в эпоху коллективизации, строительства Беломорско-Балтийского канала:
То Беломорский смерть-канал,
Его Акимушка копал,
С Ветлуги Пров, да тетка Фекла,
Великороссия промокла
Под страшным ливнем до костей
И слезы скрыла от людей,
От глаз чужих в глухие топи [6, с. 626].
Но и в самых горьких произведениях последнего периода присутствует вера в духовный идеал, которую герой, как и биографический автор, черпает в христианских заветах, в подвижничестве афонских и отпинских старцев. В финале «Деревни», после горестных признаний «мы расстались с саровским звоном», «мы тонули в крови до пуза», после трагических строк:
Ты, Рассея, Рассея-теща,
Насолила ты лихо во щи,
Намаслила кровушкой кашу –
Насытишь утробу нашу! –
неожиданно появляется утверждение-заклинание лирического героя: «Только будут, будут стократы на Дону вишневые хаты, По Сибири лодки из кедра, Олончане песнями щедры» [6, с. 667]. А изображение русской катастрофы в «Погорельщине» сменяется мечтой о Лидде – городе белых цветов. Разочарование в действительности сочетается у Клюева с верой в духовный идеал, который и придает лирическую окраску его эпическим произведениям конца 1920-х годов.
Лирическая субъективность в творчестве Клюева последних десятилетий проявляется не только в лирических стихах, но и в его поэмах, хотя их жанровая природа и соотношение эпического и лирического требует обстоятельного изучения и анализа конкретных текстов.
Последнее известное нам стихотворение Клюева «Есть две страны – одна больница» передает ощущение «последнего срока» биографического автора и, как выяснили томские краеведы, воссоздает топографические реалии последнего места ссылки поэта. Кладбище Томска соседствовало с больницей, а чтобы пройти к некрополю вечером, нужно было постучаться в окно кладбищенской сторожки.
Путь Н. Клюева в общих чертах совпадает с эстетическими исканиями многих художников 1920-х годов – В. Маяковского, О. Мандельштама, в поэзии которых к концу жизни усиливается лирическое начало. Очевидно, трагизм времени требовал личностного его осмысления.
Литература
- Базанов, В.Г. С родного берега: О поэзии Николая Клюева / В.Г. Базанов. – Л., 1990.
- Гинзбург, Л.Я. О лирике / Л.Я. Гинзбург. – М., 1997.
- Изотова, Я.П. Мотивы «Избяных песен» Н. Клюева / Я.П. Изотова // Николай Клюев: образ мира и судьба. – Томск, 2005. – Вып. 2. – С. 175 – 189.
- Киселева, Л.А. Цикл «Избяные песни» Н.А.Клюева в творческой биографии Сергея Есенина (к постановке вопроса) / Л.А. Киселева // О, Русь, взмахни крылами: Есенинский сб. – М., 1994. – Вып. 1. – С. 95 – 103.
- Клюев, Н.А. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы / Н.А. Клюев. – СПб., 1999.
- Клюев, Н.А. Cловесное древо. Проза / Н.А. Клюев. – СПб., 2003.
- Маркова, Е.И. Творчество Николая Клюева в контексте северно-русского словесного искусства / Е.И. Маркова. – Петрозаводск, 1997.
- Мекш, Э.Б. Образ Великой Матери (Религиозно-мифологические традиции в эпическом творчестве Николая Клюева) / Э.Б. Мекш. – Даугавпилс, 1995.
- Михайлов, А.И. Пути развития новокрестьянской поэзии / А.И. Михайлов. – Л., 1990.
- Хализев, В.Я. Теория литературы / В.Я. Хализев. – М., 1999.