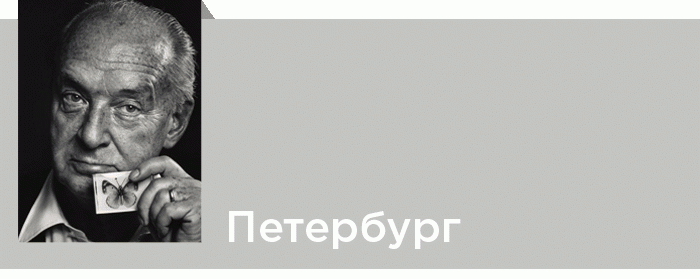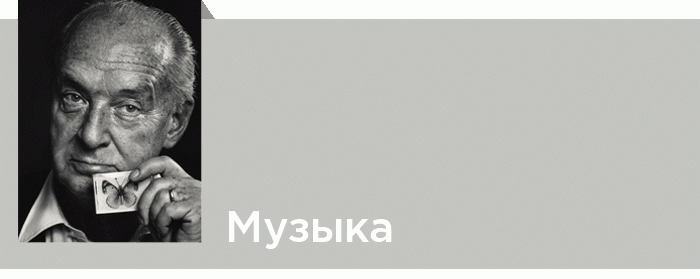Жанровая структура романа В. Набокова «Дар»

В.Б. Зусева
Роман В. Набокова «Дар» неоднократно становился объектом исследования, причем анализу подвергались не только отдельные элементы его структуры (как, например, система литературных аллюзий и отсылок1 или образ того или иного персонажа2), но и жанровая природа романа в целом. Среди наиболее авторитетных работ такого рода следует назвать главу из книги М. Липовецкого о русском постмодернизме3 и исследование Ю. Левина «О “Даре”»4. И авторы названных работ, и большинство других исследователей называют «Дар» метароманом. Так, Липовецкий говорит об этом романе как о «самом ярком образце русской метапрозы не только в творчестве Набокова, но и во всей русской литературе XX века»: «Это роман не только о становлении таланта писателя Федора Годунова-Чердынцева, одновременно это и ряд его, героя, художественных текстов, каждый из которых сопровождается авторской рефлексией и оказывается одной из ступеней, подводящих к главной книге Федора Константиновича - собственно роману “Дар”»5. Таким образом, проблему жанровой принадлежности набоковского романа в настоящее время можно считать убедительно решенной, в отличие от вопроса о его типологической разновидности. Мы попытаемся проанализировать жанровую структуру «Дара» как определенную форму реализации инварианта метаромана. Анализ жанровой структуры предполагает исследование как субъектной, так и объектной организации произведения, или, иначе говоря, как повествования, так и изображенного мира.
Субъектную структуру «Дара» характеризует несколько основных особенностей:
- субъектный неосинкретизм, то есть постоянная и внешне немотивированная смена повествовательных форм от 1-го и 3-го лица, нестационарность этих состояний, их нерасчленимость и единораздельность;
- при смене композиционных форм речи точка зрения остается единой: весь материал романа замкнут на сознании главного героя. И даже в тех случаях, когда точка зрения якобы принадлежит иному лицу (критику, поэту Кончееву, Александру Яковлевичу Чернышевскому и др.), она оказывается вписанной в сознание протагониста. Это связано со следующими особенностями субъектной структуры романа:
- наличие вставных текстов, в том числе тех, которые не оформлены как вставные, хотя по сути являются таковыми (например, письмо к матери во второй главе или предсмертный монолог Александра Яковлевича);
- способность главного героя к «раздвоению»6, уловлению «внутреннего прозрачного движения другого человека» (с. 33), которая осмысляется Набоковым (наряду с даром видения и слышания7) как составляющая творческого дара;
- двойственность повествовательного статуса героя, основанная на том, что Федор Годунов-Чердынцев - и персонаж романа, который мы читаем, и - в перспективе, обусловленной нелинейной структурой романа8, - его автор9 ;
- наличие верховной авторской инстанции, чьи полномочия превышают те, что даны Федору-персонажу.
Первая глава открывается повествованием от 1-го лица: «Тут же перед домом (в котором я сам буду жить), явно выйдя навстречу своей мебели (а у меня в чемодане больше черновиков, чем белья), стояли две особы» (с. 5). Впрочем, уже на следующей странице повествовательная ситуация меняется: сначала появляется безличная форма («подумалось мельком с беспечной иронией»), которая оказывается переходом к повествованию от 3-го лица («кто-то внутри него, за него, помимо него, все это уже принял, записал и припрятал»). Тем не менее, точка зрения героя сохраняется. Это маркирует, например, несобственно-прямая речь: «...Кажется, ничего такого не намечалось» (с. 6). Появляется даже такой повествовательный субъект, как «мы» («как делывали мы когда-то», с. 8), причем сначала неизвестно, кто, кроме рассказчика, это «мы» составляет. Таким образом, происходит постоянная смена субъектов речи, их неразличение; обращает на себя внимание тот факт, что рассказ от 1-го лица возникает в тех местах текста, где намечается тема воспоминаний или творчества, например: «Да, всю жизнь я буду кое-что добирать натурой в тайное возмещение постоянных переплат за товар, навязываемый мне» (с. 7), - говорит герой о наблюдениях, которые станут потом органической частью его искусства.
Стержнем первой главы являются стихи героя, которые становятся поводом для первоапрельского розыгрыша: Александр Яковлевич Чернышевский сообщает Федору, что на его сборник якобы вышла критическая статья. В радостном ожидании герой как бы воображает эту рецензию. Но, во-первых, границы воображаемой рецензии никак не маркируются (читатель даже не сразу осознает, что перед ним именно это явление), а во- вторых, герой не удерживается на чужой точке зрения, и тогда повествование начинает вестись от 1-го лица. Иногда точка зрения Федора совмещается с точкой зрения воображаемого рецензента, иногда пародирует ее (в зависимости от того, как меняется лицо рецензента - от «фамильярно-фальшивого» до идеального читателя). «Перед нами небольшая книжка, озаглавленная “Стихи” <...>. При набожном их сочинении, автор с одной стороны, стремился обобщить воспоминания <...>» (с. 10) и т. д. - это речь и точка зрения рецензента, которому подражает в своей фантазии Федор. Но следующее предложение, хотя и от лица рецензента, уже несомненно являет собой фразеологическую точку зрения Федора: «Стратегия вдохновения и тактика ума, плоть поэзии и призрак прозрачной прозы, - вот определения, кажущиеся нам достаточно верными для характеристики творчества молодого поэта» (с. 10). Следующая фраза от 3-го лица возвращает нас в реальность: «Так, запершись на ключ и достав свою книгу, он упал с ней на диван, - надо было перечесть ее тотчас <...>, дабы предугадать все подробности высокой оценки, им данной умным, милым, еще неизвестным судьей». Далее следует повествование от 1-го лица: Федор сличает содержание своих стихов с навеявшими их воспоминаниями детства. Затем опять неожиданно продолжается рецензия, но в ней появляются нотки пародии: «Мальчик еще до поступления в школу перечел немало книг из библиотеки отца. В своих интересных записках такой-то вспоминает, как маленький Федя с сестрой, старше его на два года, увлекались детским театром…» (с. 13). Тут вступает Федор, мысленно споря с воображаемым рецензентом (этот прием воображаемого разговора еще не раз повторится в романе): «Любезный мой, это ложь. Я всегда был равнодушен к театру». Так продолжается еще несколько страниц: переход от воспоминаний к сочинению воображаемой рецензии, затем к ее пародированию и отрицанию («Опять что-то испортилось, и доносится фамильярно-фальшивый голосок рецензента», с. 15).
Когда Федор «выжимает последнюю каплю сладости» (с. 27) из своих стихов и возвращается к повседневности, повествование начинает вестись от 3-го лица. При этом оно насыщено несобственно-прямой речью (например: «Да, осень!»), а все восприятие замкнуто на сознании Федора. Тем не менее, изредка появляются и вкрапления речи рассказчика. Так, в обувном магазине Федор видит на рентгеноскопе суставы своей стопы: «Вот этим я и ступлю на брег с парома Харона» (с. 59). Аллюзии на эту фразу и поэтическое ее развертывание появляются в конце главы, во время разговора Федора Константиновича с поэтом Кончеевым. Читатель не догадывается, что этот разговор Федор ведет не с реальным Кончеевым, а с самим собой (это один из моментов уже упоминавшегося раздвоения и перевоплощения героя, при котором тот «почти физически» чувствует, как «у него меняется цвет глаз, и цвет заглазный, и вкус во рту», с. 58), пока Кончеев не чувствует боль от новых ботинок Федора. Федор: «Отмечаю, что у него [Лескова] латинское чувство синевы: lividus. Лев Толстой, тот был больше насчет лилового, - и какое блаженство пройтись с грачами по пашне босиком! Я, конечно, не должен был их покупать». Кончеев: «Вы правы, жмут нестерпимо» (с. 66). А через три страницы именно Кончеев начинает сочинять стихи о «пароме Харона»: «Посмотрим, как это получается: вот этим с черного парома сквозь (вечно?) тихо падающий снег (во тьме в незамерзающую воду отвесно падающий снег) (в обычную?) летейскую погоду вот этим я ступлю на брег» (с. 69). И они вдвоем сочиняют стихи о смерти и паромщике Хароне. И лишь в самом конце мы точно узнаем, что разговор - воображаемый. Кончеев: «Да, жалко, что никто не подслушал блестящей беседы, которую мне хотелось бы с вами вести». Федор: «Ничего, не пропадет. Я даже рад, что так вышло. Кому какое дело, что мы расстались на первом же углу, и что я веду сам с собою вымышленный диалог по самоучителю вдохновения» (с. 69). Таким образом, здесь происходит апология фантазии, вымысла и способность к ним связывается с вдохновением, творчеством. Это очень важный мотив романа в целом.
Вторая глава «Дара» строится вокруг нового произведения Федора - биографии отца. Федор представляет себя в семейной усадьбе Лешино (читатель опять же не сразу понимает, где и с кем происходит действие). При этом повествование ведется от 3-го лица, что придает фантазии субстанциальность, реальность, плотность настоящей жизни (можно это понять как гимн вымыслу, как уверенность в том, что фантазия иногда реальнее самой реальности): «... Вскоре аллейка расширилась, ударило солнце, и он вышел на площадку сада, где, на мягком красном песке, можно было различить пометки летнего дня: отпечатки собачьих лап, бисерный след трясогузки, данлоповую полосу от Таниного велосипеда…» (с. 76-77). Настоящее мешается с прошлым, а воображение - с реальностью. В биографии отца Федор описывает не только то, что сам видел, но и то, как он представляет себе странствия отца. Сначала эта позиция повествователя выражена прямо, например: «Особенно ясно я себе представляю - среди всей этой прозрачной и переменчивой обстановки, - главное и постоянное занятие моего отца, занятие, ради которого он только и предпринимал эти огромные путешествия» (с. 106). Но по мере продвижения рассказа герой как бы пускается в воображаемое путешествие вместе с отцом; повествование тогда начинает вестись от 1-го лица множественного числа: «Наш караван направился на восток...» (с. 108); «Весна ждала нас в горах Нань-Шаня» (с. 109); «Мы пересекли множество раз хребет по перевалам». Постепенно фантазия крепнет, и появляется новый субъект, придающий ей весомость и плотность: «Поднимаясь бывало по Желтой реке и ее притокам <...>, я с ним ловил кавалера Эльвеза - черное чудо...» (с. 110). А затем уже идет повествование только от 1-го лица: «В Чанге, во время пожара я видел...» (с. 111). Но вскоре Федор теряет уверенность: он чувствует, что это воображаемое путешествие вместе с отцом есть самоублажение, оскверняющее фантазиями чистоту отцовской науки и отцовское мужество.
Примерно это пишет Федор в своем письме к матери, в котором сообщает об отказе от дальнейшей работы над биографией отца и которое тоже представляет собой очень интересную форму с точки зрения субъектной организации. Нельзя точно установить, где оно начинается. В него незаметно переходят догадки Федора о гибели (или о спасении) отца. Нет формального начала письма, оно никак не отделено от предшествующего текста, и его содержание логично вытекает из него, продолжая мысль. То, что это вообще письмо к матери (она не названа, есть только обращения на «ты»), мы узнаем лишь из ее ответа: «Что ж, понимаю и сочувствую, - отвечала мать» (с. 125). Таким образом, субъектная структура этого «письма» Федора говорит о том, что это еще и внутренний монолог героя, поток его сознания и размышление о путях творчества. Неназванность адресата и оформление его не как вставного текста (таково ответное письмо матери), а как плавного продолжения предыдущей мысли делают это впечатление очень ярким. Затем мы узнаем, что Федор переезжает с Танненбергской улицы, где он до этого жил, на Агамемнонштрассе. В конце главы появляется первое (всего их два) обращение к читателю, подчеркивающее метарефлективную природу романа: «Случалось ли тебе, читатель, испытывать тонкую грусть расставания с нелюбимой обителью?» (с. 130). Последний абзац этой главы написан от лица повествователя, как и начало третьей.
Повествование от 1-го лица вторгается тогда, когда герой обращается к теме воспоминаний и стихов: «Мой отец мало интересовался стихами, делая исключение только для Пушкина <...> поэзию же новейшую он считал вздором, - и я при нем не очень распространялся о моих увлечениях в этой области» (с. 133). Далее продолжается повествование рассказчика, но в тексте появляется еще один субъект, которого читатель сначала не может идентифицировать: «Она была неумна, малообразованна, банальна, то есть полной твоей противоположностью... нет, нет, я вовсе не хочу сказать, что я ее любил больше тебя, или что ее свидания были счастливее наших вечерних встреч с тобой» (с. 134). Здесь как бы ведется разговор с неизвестным лицом, причем разговор без ответов собеседницы, мысленная беседа. Далее повествование опять перескакивает на стихи - «стихотворную болезнь» Федора, и субъектом речи остается рассказчик. Затем мы наблюдаем нарастание безличных форм, несобственно-прямой речи («Но как было мучительно трудно все это сломать, рассыпать, забыть!», с. 138), после чего вступает повествователь: «Федор Константинович сомневался в первом и допускал второе» (с. 138).
Вдруг среди прозы появляется стихотворение, сочиняемое Федором : «Люби лишь то, что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смердами казнимо; как родине, будь вымыслу верна. Наш час настал. Собаки и калеки одни не спят. Ночь летняя легка. Автомобиль, проехавший, навеки последнего увез ростовщика. Близ фонаря, с оттенком маскарада, лист жилками зелеными сквозит. У тех ворот - кривая тень Багдада, а та звезда над Пулковом висит. О, поклянись, что...» (с. 140). Звон телефона прерывает течение стиха, написанного от лица рассказчика и обращенного… к кому? Пока непонятно. Важно отметить тот факт, что стихи не выделены как вставные тексты (как это было в первой главе). На следующей странице читатель узнает, кто та женщина, к которой обращены стихи Федора, - Зина Мерц. Ее имя вновь вызывает к жизни стихи, притворяющиеся прозой. Во всех них постоянно повторяются два мотива - любви к вымыслу и звезды. В этой же главе Федор заходит в русскую книжную лавку, где ему на глаза попадается статья о Н.Г. Чернышевском в советском шахматном журнале. Федор решает составить художественное жизнеописание Чернышевского, которое и является четвертой главой «Дара».
На субъектную организацию собственно жизнеописания Чернышевского накладывается субъектная структура романа «Дар» в целом. Примером такого взаимоналожения, порождающего гибридные повествовательные конструкции, может служить следующая фраза: «Сними шляпу, Николя» (с. 191). Говорит ли это изображенный отец Чернышевского, или автор Федор говорит это своему герою, чтобы читатель лучше его рассмотрел? Видимо, оба эти предположения уместны: здесь тоже заключается особого рода синкретизм.
В романе о Чернышевском присутствует разветвленная метаповествовательная рефлексия, перекликающаяся, кстати, с излюбленным приемом Андре Жида «mise en abyme» (повторение внутри герба в качестве одного из его элементов точно такого же герба в сильно уменьшенном виде). Так, в приписываемый Федору роман «Дар» с обилием метарефлективных вторжений включен роман Федора о Чернышевском, где тоже имеются как вставные тексты (цитаты из различных авторов, в том числе выдуманных Федором, например, не существующий в реальности «биограф Чернышевского» Страннолюбский), так и метарефлективные обороты, в том числе такие, которые отсылают к обрамляющему тексту. В частности, Федор пишет о том, что «Чернышевский не отличал плуга от сохи; путал пиво с мадерой; не мог назвать ни одного лесного цветка, кроме дикой розы…» (с. 219). Здесь сразу две отсылки к обрамляющему тексту: во-первых, к первой главе, где говорится о полной банальностей поэзии Яши Чернышевского, в которой «архаизмы, прозаизмы или просто обедневшие некогда слова вроде “роза” <...> как бы делали еще один полукруг, снова закатываясь, снова являя всю свою ветхую нищету...» (с. 36). Во-вторых, приведенная фраза отсылает к пятой главе романа, где говорится о «святой ненаблюдательности (а отсюда - полной неосведомленности об окружающем мире - и полной неспособности что-либо именовать»), свойственной «русскому литератору-середняку» (с. 282).
Метаповествовательная рефлексия Федора Константиновича дана как в 3-м, так и в 1-м лице. Повествование от 3-го лица: «Тут автор заметил, что в некоторых, уже сочиненных строках продолжается, помимо него, брожение, рост, набухание горошинки, - или, определеннее: в той или иной точке намечается дальнейший путь данной темы» (с. 192-193). Гибридная конструкция: «У меня продолжают расти (сказал автор) без моего позволения и ведома, идеи, темы, - иные довольно криво, - и я знаю, что мешает...» (с. 194). Повествование от 1-го лица: «И тут мы снова оказались окружены голосами его эстетики, - ибо мотивы жизни Чернышевского теперь мне послушны, - темы я приручил, они привыкли к моему перу; с улыбкой даю им удаляться: развиваясь, они лишь описывают круг, как бумеранг или сокол, чтобы затем снова вернуться к моей руке; и даже если иная уносится далеко, за горизонт моей страницы, я спокоен: она прилетит назад, как вот эта прилетела» (с. 212). В последнем из приведенных примеров возникает основной для «Дара» мотив круга, к которому мы обратимся дальше.
Пятая глава романа открывается рецензиями на «Жизнь Чернышевского» (тоже круг: после воображаемых рецензий в первой главе - реальные в последней). После них следуют такие слова: «Но был один человек, мнение которого Федор Константинович узнать не мог. Александр Яковлевич Чернышевский умер незадолго до выхода книги» (с. 276). Далее «цитируется» выдуманный Набоковым французский мыслитель Делаланд, а затем идет повествование от 1-го лица: «Я знаю, что смерть сама по себе никак не связана с внежизненной областью, ибо дверь есть лишь выход из дома, а не часть его окрестности» (с. 277). Но кто это говорит? Нам сначала кажется, что это речь рассказчика Федора (больше никому в романе не даются такие повествовательные полномочия), но оказывается, что это мысли умирающего Александра Яковлевича: «У меня высокая температура четвертый день, и я уже не могу читать. Странно, мне раньше казалось, что Яша всегда около меня, что я научился общению с призраками, а теперь, когда я, может быть, умираю…» (с. 277-278). Тем не менее, если считать, что «Дар» есть произведение Годунова-Чердынцева, то все же оказывается, что приведенные слова принадлежат Федору. Мы согласны с М. Липовецким, который приписывает приведенный фрагмент Федору, ссылаясь на «степень диалогического проникновения, достигнутую героем»10. К ней он идет на протяжении всего романа через стихи, предельно насыщенные уникальным опытом личности, биографию отца (по определению Липовецкого, это «попытка диалога с другим, хотя и очень родным сознанием»11) и роман о Чернышевском, который становится «опытом диалогического взаимодействия героя не только с другим, но и с откровенно чуждым сознанием»12.
Важная для эволюции Федора как писателя сцена происходит в Груневальде, где герой переживает состояние полной гармонии, достигая новой степени авторского видения, или, говоря словами М.М. Бахтина - «позиции вненаходимости»: «Тощий, зябкий, зимний Федор Годунов-Чердынцев был теперь от меня так же отдален, как если бы я сослал его в Якутскую область. Тот был бледным снимком с меня, а этот, летний, был его бронзовым, преувеличенным подобием. Собственное же мое я, то, которое писало книги, любило слова, цвета, игру мысли, Россию, шоколад, Зину, - как-то разошлось и растворилось, силой света сначала опрозрачненное, затем приобщенное ко всему мрению летнего леса...» (с. 299). Характерный для композиции романа «круг» замыкается вторым обращением к читателю («Дай руку, дорогой читатель, и войдем со мной в лес», с. 297) и вторым воображаемым разговором с Кончеевым, за которого Федор принимает какого-то молодого немца. Далее опять идет повествование от 3-го лица, но точка зрения героя всегда сохраняется.
Затем следует второе письмо к матери, введенное столь же неожиданно, как первое: «Он прикрыл раму, но через минуту ночь <...> подступила опять. Мне было так забавно узнать, что у Тани родилась девочка, и я страшно рад за нее, за тебя» (с. 314). Помимо прочего, в этом «письме» Федор говорит о том, что собирается «написать классический роман, с типами, с любовью, с судьбой, с разговорами» (с. 314). Письмо прерывается приходом Зины, но затем возобновляется, хотя оно уже закавычивается и становится вставным текстом, а не родом внутреннего монолога, как это было до вынужденной паузы. Подтверждением расцвета творческого дара становится сон Федора о возвращении отца, причем у героя возникает ощущение радости и покоя, которое упорно не давалось ему во второй главе13: «…Отец уверенно-радостно открыл объятия. Федор шагнул к нему…» (с. 319).
Следующие несколько страниц повествование ведется от 3-го лица, и голос Федора прорывается лишь изредка. Так продолжается до самого финала «Дара», незадолго до которого Федор вновь говорит о задуманном
романе, упоминая о судьбоносной встрече с Зиной: «Разве это не линия для замечательного романа? Какая тема! Но обстроить, завесить, окружить чащей жизни - моей жизни, с моими писательскими страстями, заботами» (с. 328). Читатель сразу понимает, что роман, о котором говорит герой, - двойник «Дара». Как пишет А.В. Леденев, «являясь метаописанием структуры “Дара”, эти слова Федора могут служить внешне убедительным доказательством его, Федора, итогового авторства. Однако до последнего печатного символа текста - до его заключительной точки - Федор остается персонажем романа»14. О «неабсолютной внутритекстовой компетентности»15 свидетельствует «иллюзорная надежда Федора на то, что наконец-то им с Зиной удастся остаться наедине в оставленной ее матерью и отчимом квартире. Федор не знает, что принадлежащая Зине связка ключей забыта ее матерью в запертой квартире...»16. На этом основании Борис Маслов отказывает Федору в итоговом авторстве «Дара»: «В последнем разговоре между главными героями прозвучало предостережение: ”Смотри, - сказала Зина, - на эту критику она [судьба] может теперь обидеться - и отомстить“. Чердынцев это ее замечание проигнорировал. Двусмысленную концовку романа, ставящую под сомнение его авторский статус, можно помыслить как месть судьбы, оскорбившейся на попытку самонадеянно поставить точку в ее авторской “работе”»17. Под «двусмысленной концовкой» имеется в виду «роковой просчет» с ключами, который «вновь ставит его [Федора] в положение персонажа, идущего к дому в блаженном неведении о том, что он в него не сможет войти»18. Мы категорически не согласны с такой трактовкой. Авторство Федора подтверждается не только и не столько принадлежащим герою метаописанием структуры «Дара» в пятой главе романа, сколько всей мотивной организацией произведения.
В последнем абзаце (перед лирической кодой) стремительно перебирается не только «местоименный инвентарь романа: “он“ - промежуточная безличная конструкция (“было”, “нарастало”) константные мотивы: «Когда я иду так с тобой, медленно-медленно, и держу тебя за плечо, все немного качается, шум в голове, и хочется волочить ноги, соскальзывает с пятки левая туфля, тащимся, тянемся, туманимся, - вот-вот истаем совсем... И все это мы когда-нибудь вспомним, - и липы, и тень на стене, и чьего-то пуделя, стучащего неподстриженными когтями по плитам ночи. И звезду, звезду. А вот площадь и темная кирка с желтыми часами. А вот, на углу - дом» (с. 329-330). Убедительным доказательством авторства Федора является тот факт, что он уже в первой главе знает об ужине с Зиной, описанном в главе пятой и последней, причем перечисляются те же мотивы ночи, звезды, «тени ствола» и темной кирки: «...Он шел по этим темно-блестящим улицам, и погасшие дома уходили, не глядя, кто пятясь, кто боком, в бурое небо берлинской ночи, где все-таки были там и сям топкие места, тающие под взглядом, который таким образом выручал несколько звезд. Вот, наконец, сквер, где мы ужинали, высокая кирпичная кирка и еще совсем прозрачный тополь, похожий на нервную систему великана...» (с. 49). Более того, сразу после этого абзаца в первой главе возникает тема отсутствующих ключей, столь значимая для финала романа: «Отыскав свой подъезд (видоизмененный темнотой), он достал ключи. Ни один из них двери не отпер.
”Что такое...“ - сердито пробормотал он, глядя на бородку <…>. Он опять было нагнулся к замку, - и вдруг его осенило: это были, конечно, ключи пансионские, которые при сегодняшнем переезде он с собой нечаянно в макинтоше увез, а новые остались должно быть в комнате, в которую ему хотелось попасть гораздо сильнее, чем только что» (с. 49). В итоге его впускает в дом «скуластая немолодая дама» (с. 51), которую он видит в самом начале романа, когда та вместе с мужем наблюдает за выгрузкой мебели. Характерно, что ту же даму - фрау Лоренц - Федор встречает в конце пятой главы, гуляя с Зиной: «За Потсдамской площадью, при приближении к каналу, пожилая скуластая дама (где я ее видел?) <...> рванулась к выходу… » (с. 325). Более того, именно эта дама, по первоначальному замыслу судьбы, должна была познакомить Федора с Зиной: «Идея была грубая: через жену Лоренца познакомить меня с тобой, - а для ускорения был взят Романов, позвавший меня на вечеринку к ним» (с. 327). Таким образом, структура «Дара» представляет собой концентрическую систему: мотив круга повторяется на разных ее уровнях, организовывая как сюжет романа, так и его словесную ткань.
Неоднократно обращалось внимание на тот факт, что жизнеописание Чернышевского представляет собой «кольцо, замыкающееся апокрифическим сонетом»20, так что получается «не столько форма книги, которая своей конечностью противна кругообразной природе всего сущего, сколько одна фраза, следующая по ободу, то есть бесконечная...» (с. 184). Б. Бойд отмечает, что «свой поэтический сборник Федор открыл стихотворением о «Потерянном мяче» и завершил стихами «О мяче найденном»21, а замаскированная онегинская строфа в конце «Дара» содержит «приглашение вернуться» и перечитать роман уже как произведение Федора22. Но, помимо этих фундаментальных кольцевых структур, в романе рассыпано множество их более частных подобий (о некоторых из них было сказано выше).
Так, в начале первой главы герой замечает, что «из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкап, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленном природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад» (с. 7-8). В пятой главе этот мотив повторяется; при этом от читателя требуется большое внимание, чтобы уловить это повторение и воспринять его как таковое: «...Пальцы ловят стебель травы (но он, лишь качнувшись, остался блестеть на солнце... где это уже раз так было - что качнулось...)» (с. 309). Более того, есть и еще один повтор такого рода: «…На поперечных проволоках висело по млечно-белому фонарю; под ближайшим из них колебался от ветра призрачный круг на сыром асфальте. И это колебание, которое как будто не имело ровно никакого отношения к Федору Константиновичу, оно-то однако, со звенящим тамбуринным звуком, что-то столкнуло с края души, где это что-то покоилось и уже не прежним отдаленным призывом, а полным близким рокотом прокатилось “Благодарю тебя, отчизна…”» (с. 50); сочиняемая Федором строфа, как ему кажется, «качается за несколько саженей». Здесь мотив колебания предмета прямо связывается с творческим импульсом, что имплицитно присутствует и в двух других случаях23.
Иногда круг замыкается на расстоянии не глав, но абзацев. Вот пример из первой главы: «Он купил пирожков (один с мясом, другой с капустой, третий с сагой, четвертый с рисом, пятый... на пятый не хватило…)» (с. 28) и «Этот был добросовестен, но бездарен; тот - бесчестен, а даровит; третий писал только о прозе; четвертый - только о друзьях; пятый... и воображению Федора Константиновича представился этот пятый…» (с. 28). Несмотря на различие в самом предмете размышлений (пирожки и писатели), перед нами явный параллелизм синтаксических конструкций, поддержанный совпадением чисел. Кстати, прием повторяется в третьей главе: «“Почему же?” - спросил он [Федор], когда они сели.
“По пяти причинам, сказала она [Зина]. - Во-первых, потому, что я не немка, во-вторых, потому что только в прошлую среду я разошлась с женихом, в-третьих, потому что это было бы - так, ни к чему, в-четвертых, потому что вы меня совершенно не знаете, в-пятых...” - она замолчала, и Федор Константинович осторожно поцеловал ее в горячие, тающие, горестные губы. “Вот потому-то”, - сказала она, перебирая и сильно сжимая его пальцы» (с. 165).
Рассказывая о смерти Яши Чернышевского, Федор упоминает архитектора Фердинанда Штокшмайсера, который во время описанных событий играл со своей собакой в Груневальде. В пятой главе этот персонаж вновь мимолетно появляется в том же месте, причем опять упоминается в связи с чужой смертью (на этот раз речь идет об «удалой смерти под соснами» авиатора с дамой): «…Архитектор Штокшмайсер с собакой объяснял няне с ребенком, что произошло…» (с. 297). Не о таких ли повторах и совпадениях, уподобляя действительность искусству, Федор говорил в третьей главе: «Это было одно из тех повторений, один из тех голосов, которыми, по всем правилам гармонии, судьба обогащает жизнь приметливого человека»? (с. 179).
«Приметливый» читатель обнаружит еще немало примеров такого рода. Так, две точки на «окружности» романа представляют собой упоминания о социал-демократе Беленьком, причем в обоих случаях его имя гротескно называется рядом с именем Чернышевского, в первом случае - Николая Гавриловича, во втором - Александра Яковлевича (что бросает свет на систему зеркал в романе). В первой главе Горяинов говорит Федору: «А шутник вы, доложу я вам, голубчик. Недавно скончался социал-демократ Беленький, - вечный, так сказать, эмигрант: его выслали и царь и пролетариат, так что, когда он, бывало, предавался реминисценциям, то начинал так: У нас в Женеве… Может быть, о нем вы тоже напишете?» (с. 179). В пятой главе писатель Ширин упоминает, что из «ревизионной комиссии» «выбыли Беленький и Чернышевский», причем Федор Константинович «мельком полюбовался ширинским определением смерти» (с. 284-285). Кольцевые конструкции такого рода метафорически описывает следующее замечание Федора: «Потянулся по виадуку поезд: зевок дамы, начавшийся в освещенном окне головного вагона, был закончен другою - в последнем» (с. 291).
Дважды - в первой и третьей главах - появляются отрывки из произведений Германа Ивановича Буша; в первом случае - из «философской трагедии» в символистском духе24, во втором - из философского же романа о человеке, нашедшем абсолют-формулу» (с. 189). Как отмечает А.В. Млечко, «в писаниях Буша неузнаваемо мутируют его собственные [Годунова-Чердынцева] ключевые темы - тема судьбы в первом случае и тема возможности разгадать “узоры жизни”, проникнуть в ее тайну - во втором»25. Мутная метафизика и «предательские ляпсусы» (с. 61), а также склонность Буша-писателя к «идиотской символике» (с. 62) оттеняют стройность и художественное совершенство самого «Дара», в котором те же темы предстают в неузнаваемо ином виде. Интересно, что обе встречи с Бушем маркируют другие кольцевые конструкции. В первой главе круг открывается первым разговором с Кончеевым (второй из них состоится в последней главе романа), вместе с которым Федор уходит после чтения бушевской пьесы. В третьей главе замыкается иной круг, который условно можно было бы назвать «кругом розыгрыша и воплощения». Так, при второй встрече Буш предлагает Федору опубликовать его роман о Чернышевском у своего издателя, что в итоге и случается. Вот как Федор сообщает об этом Зине: «”Ну что?“ - спросила она, быстро войдя.
”Нет, не берет“, - сказал Федор Константинович, внимательно, с наслаждением, следя за угасанием ее лица, играя своей властью над ним, предвкушая восхитительный свет, который он сейчас вызовет» (с. 190). Этот розыгрыш зеркально отражает тот, жертвой которого стал в первой главе сам Годунов-Чердынцев, когда Александр Яковлевич Чернышевский сообщил о рецензии на его стихи (которой на самом деле не было). Такая конструкция отражает структуру романа в целом - по формулировке Б. Бойда, «неожиданный переход от неудовлетворенности жизнью к восторгу перед ее щедростью»26. Вышеприведенные соображения показывают, что одним из вариантов главного конструктивного принципа «Дара» являются цепляющиеся друг за друга, подобно звеньям цепи, кольца мотивов.
Еще более интересна замаскированная кольцевая конструкция, начинающаяся в первой главе описанием одной из картин художника Романова: «Еще сквозила некоторая карикатурность в его ранних вещах - в этой его «Coïncidence», например, где, на рекламном столбе, в ярких, удивительно между собой согласованных красках афиш, можно было прочесть среди астральных названий кинематографов и прочей прозрачной пестроты объявление о пропаже (с вознаграждением нашедшему) алмазного ожерелья, которое тут же на панели, у самого подножья столба, и лежало, сверкая невинным огнем» (с. 53). Ситуация, выраженная на полотне, в точности совпадает с ситуацией в жизни самого Федора Константиновича: он, не зная того, находится рядом с Зиной Мерц, которая вскоре станет его возлюбленной и с которой судьба пытается устроить ему встречу через этого самого художника Романова. Он приглашает Федора на вечеринку к Лоренцам, где должна быть и Зина (причем даже называет ее имя), но Годунов-Чердынцев отказывается прийти. «Карикатурность», сквозящая в картине Романова, отзывается «аляповатостью» попытки судьбы свести героев («Идея была грубая», - говорит Федор в пятой главе, разглядев «узоры судьбы» и вернувшись к этой ситуации). Набоков дает еще одну подсказку, что картину Романова следует рассматривать как аллюзию на жизненную ситуацию Федора, упоминая о внутреннем родстве искусства обоих героев: «Меня неопределенно волновала эта странная, прекрасная, а все же ядовитая живопись, я чувствовал в ней некое предупреждение, в обоих смыслах слова: далеко опередив мое собственное искусство, оно освещало ему и опасности пути27» (с. 54). Таким образом, мы имеем дело с замаскированной кольцевой конструкцией, начинающейся в первой главе и замыкающейся в пятой.
Мотиву круга с характерными для него зеркальными отражениями событий и ситуаций в высшей степени соответствует мотив двойничества. Оставив в стороне многочисленных двойников второго, третьего и десятого рядов (от двух Протопоповых из «Жизнеописания Чернышевского»28, Горяинова и «одного старого, несчастного журналиста»29 до отца Федора Константиновича и Пушкина30), сосредоточимся на главном герое романа и его отражениях. Как уже отмечалось выше, Федор Константинович наделен талантом «раздваиваться», ощущая в себе «внутреннее прозрачное движение другого человека» (с. 33). Таким образом, на определенный момент времени он становится двойником как условно реальных субъектов, существующих в пространстве романа как автономные личности (Александр Яковлевич, мать, отец, Кончеев), так и субъектов полностью вымышленных (рецензент из первой главы романа). Двойничество трактуется здесь как обращение к «другому», приобщение к иной ценностной позиции и, в конечном счете, - свидетельство творческой одаренности, а не как утрата личностью цельности или разрушительное противостояние «оригинала» и «копии». Рудименты этой «классической» трактовки сохраняются применительно к второстепенным и вызывающим у Федора отторжение персонажам, как, например, Горяинов или Щеголев31.
Федор Константинович не только способен воплотиться на мгновение в другого человека - в нем самом естественно живут две сущности: «собственное мое я, то, которое писало книги, любило слова, цвета, игру мысли, Россию, шоколад, Зину» (с. 299) и то я, которое является субъектом творческого процесса: «Он сам с собою говорил, шагая по несуществующей панели; ногами управляло местное сознание, а главный, и в сущности единственно важный, Федор Константинович уже заглядывал во вторую качавшуюся, за несколько саженей, строфу, которая должна была разрешиться еще не известной, но вместе с тем в точности обещанной гармонией» (с. 50). На уровне «романа романа» Федор является двойником Автора; об этом, в частности, свидетельствуют в принципе невозможные для обычного героя романа прозрения и прорывы в «будущее».
О важнейшем из них - знании Федора в первой главе об ужине с Зиной, который состоится в пятой - уже говорилось выше, но есть и другие. Так, в первой главе, сочиняя воображаемую рецензию на собственную книгу стихов, Федор говорит о том, что составит самую суть его книги о Чернышевском, замысла которой пока еще даже не существует: «Я еще когда-нибудь поговорю об этом возмездии, которое как раз там находит слабое место для ударов, где, казалось, весь смысл и сила поражаемого существа» (с. 14). Жизнь Годунова-Чердынцева последовательно движется от первой главы романа к последней, но пределы этого движения уже известны или, говоря словами Федора, «в точности обещаны», и время от времени при вторжении метасознания «концы и начала» смыкаются. Таким образом, если в «романе героев» Федор становится двойником тех или иных персонажей, то в «романе романа» - двойником Автора.
Кстати, как показывают наблюдения, мотив двойничества в разных своих вариациях вообще характерен для метаромана как жанра на протяжении всей его истории, и это не удивительно, ведь метароман - это всегда «зеркало» романа, роман-двойник. Речь идет не только о двойниках «автора-творца»32, но и о двойниковых парах персонажей. На одном конце временной шкалы, то есть у истоков жанра таковыми являются, например, Дон Кихот и Санчо Панса у Сервантеса (оруженосец выступает отрицательным близнецом, чье положение по отношению к рыцарю соответствует положению мифологического трикстера по отношению к культурному герою). На другом - Алина Берже и Орланда из романа Жаклин Арпман «Орланда» 1996 г. (в романе пародийно воспроизводится мифологическая ситуация «раздвоения на серьезного культурного героя и его демонически-комический отрицательный вариант»33). Впрочем, проблема типологического родства таких явлений, как герои-двойники и жанр метаромана, требует гораздо более пристальной и серьезной разработки.
Возвратившись к «Дару», перейдем к анализу хронотопа. Действие романа происходит в Берлине в 1920-х гг. в течение чуть более трех лет: в конце «Дара» Федор вспоминает о первой попытке судьбы познакомить его с Зиной, т.е. о переезде на Танненбергскую улицу, «три года с лишним тому назад» (с. 327). Как нередко указывают исследователи34, опираясь на слова самого Набокова в предисловии к английскому изданию рассказа «Круг», действие «Дара» развивается с 1 апреля 1926 г. до 29 июня 1929 г. Однако, как нам представляется, это уточнение не только необязательно, но и прямо противоречит замыслу автора, который демонстративно отказывается сообщить читателю год, когда начинается действие, при этом необычайно тщательно выписывая все детали происходящего: «Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192... года (иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы - в силу оригинальной честности нашей литературы - не договаривают единиц), у дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина, остановился мебельный фургон…» (с. 5). Отказ от точной датировки становится здесь знаком, пусть отчасти ироническим, принадлежности к традиции русского классического романа. В то же время эта фраза задает важнейшую характеристику структуры «Дара», которую можно определить как игру границами жизни и романа о ней.
Отчетливый оттенок игры придает первой фразе «Дара» еще и упоминание о том, что действие начинается первого апреля , и первоапрельская шутка не заставляет себя ждать: Александр Яковлевич Чернышевский сообщает Федору о восторженной рецензии на его стихи, которой, увы, не существует (напомним, однако, что рецензии на «Жизнь Чернышевского» в пятой главе щедро отплачивают Федору за разочарование в первой). По мнению Б. Бойда, начало романа заключает в себе еще одну шутку - автора с читателем: «Будь “Дар” по старинке написанной «штукой» <…> столь дотошное описание мужчины и женщины, которые наблюдают за разгрузкой мебели, означало бы, что им будет отведена в повествовании важная роль. На самом деле Федор так никогда с ними и не познакомится, а его переезд ни к чему не приведет: начало романа - это первоапрельская шутка, которую автор сыграл с читателями»36. Таким образом, в первых же фразах романа имплицитно заданы еще две его важнейшие черты: кругообразная структура и мотив «узоров судьбы».
Условно реальный хронотоп Берлина 1920-х гг. дробится на более частные, причем пространственные перемещения Федора значимы не только в рамках «романа героев», но и «романа романа». Так, переезд Федора с Танненбергской улицы на Агамемнонштрассе сопровождается следующим замечанием: «Расстояние от старого до нового жилья было примерно такое, как, где-нибудь в России, от Пушкинской - до улицы Гоголя» (с. 131). Эта фраза отмечает не только факт переезда героя37, но и его творческую эволюцию - путь от жизнеописания отца, проникнутого «чистейшим звуком пушкинского камертона» (с. 87), к роману о Чернышевском с обилием гоголевских аллюзий. Пространство, в котором существует Федор, нередко характеризуется через литературные аллюзии: так, обычная берлинская улица «шла с едва заметным наклоном, начинаясь почтамтом и кончаясь церковью, как эпистолярный роман» (с. 6).
Помимо условно реального хронотопа Берлина 1920-х гг., в «Даре» есть и другие типы времени и пространства; важнейшие из них - это хронотопы сна, воспоминаний и творчества. Границы между ними размыты и чрезвычайно подвижны (впрочем, проницаемость любых границ вообще характерна для «Дара» - границ между субъектами, между миром героев и миром творческого процесса, жизнью и смертью, поэзией и прозой, прошлым, настоящим и будущим). В пятой главе герою снится сон о возвращении отца, но его начальная граница не проведена с достаточной четкостью: «Вдруг, среди сгущающейся мглы, у последней заставы разума, серебром ударил телефонный звонок, и Федор Константинович перевалился ничком, падая. Звон остался в пальцах, как если бы он острекался. В прихожей, уже опустив трубку обратно в черный футляр, стояла Зина, - она казалась испуганной. ”Это звонили тебе“, - сказала она вполголоса» (с. 317). Как мы узнаем позднее, телефонный звонок действительно был, но он не имел ни малейшего отношения к Федору. При первом чтении события сна героя воспринимаются как условно реальные. Сомнения в реальности происходящего возникают в тот момент, когда появляются предметы, которых быть как бы не должно: «Какие-то ночные рабочие разворотили мостовую на углу, и нужно было пролезть через узкие бревенчатые коридоры, причем у входа всякому давалось по фонарику, которые оставлялись у выхода на крюках, вбитых в столб, или просто на панели, рядом с бутылками из-под молока. Оставив и свою бутылку, он побежал дальше по матовым улицам…» (с. 317). Откуда у Федора с собой бутылка? А когда упоминается плед, украденный днем в Груневальде, призрачность происходящего становится очевидной: «Было трудно дышать от бега, свернутый плед оттягивал руку…» (с. 318).
Точно так же отсутствуют границы между условно реальным хронотопом и хронотопом воспоминаний. Например, во второй главе настоящее и прошлое совмещены в рамках одного предложения: «...Перейдя площадь и свернув на боковую улицу, он пошел к трамвайной остановке сквозь маленькую на первый взгляд чащу елок, собранных тут для продажи по случаю приближавшегося Рождества; между ними образовалась как бы аллейка; размахивая на ходу рукой, он кончиком пальцев задевал мокрую хвою; но вскоре аллейка расширилась, ударило солнце, и он вышел на площадку сада, где, на мягком красном песке, можно было различить пометки летнего дня: отпечатки собачьих лап, бисерный след трясогузки, данлоповую полосу от Таниного велосипеда...» (с. 76-77). Годунов-Чердынцев здесь как бы перешагивает из одного времени и пространства в другое. Как справедливо пишет В.Е. Александров, «подобного рода невыделенные переходы от событий реальной жизни к событиям воображаемым или снящимся важны в том плане, что они еще больше стирают различие между воображением и действительностью. Сополагая то и другое в тексте, представляя фантазию в тех же деталях, что и реально происходящие события, Федор придает статус действительности вымыслу, который настаивает на своих правах даже после того, как разоблачен»38.
Творческий хронотоп постоянно пересекается с хронотопами «реальности» и воспоминаний. В этом смысле не случайно, что стихи третьей главы и «онегинская строфа» в пятой не отделены от прозаического окружения, как и отрывки из биографии отца - от мира непосредственного действия: «Ожидание ее прихода. Она всегда опаздывала - и всегда приходила другой дорогой, чем он. Вот и получилось, что даже Берлин может быть таинственным. Под липовым цветением мигает фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень прохожего по тумбе пробегает, как соболь пробегает через пень. За пустырем, как персик, небо тает: вода в огнях, Венеция сквозит, - а улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит» (с. 159). Пространственные рамки романа раздвигаются здесь в бесконечность: «Ночные наши, бедные владения, - забор, фонарь, асфальтовую гладь - поставим на туза воображения, чтоб целый мир у ночи отыграть!» (с. 141).
Творческий хронотоп в различных своих аспектах предстает как 1) локальный хронотоп действия того или иного произведения Федора (в стихах - от усадьбы Лешино до Петербурга, в биографии отца - от Лешино до гор Тибета, в романе о Чернышевском - от Саратова до Петербурга и Сибири); 2) мир воображения героя, расширяющийся из пространственновременной точки под условным названием «Берлин 1920-х гг.» и в принципе не имеющий географических координат; 3) объемлющий хронотоп «Дара» в целом, включающий все остальные типы хронотопов, перечисленные выше. Герой перемещается из условно реального мира в мир воспоминаний, сна или творческого вдохновения, но при этом не перестает быть двойником Автора и субъектом метасознания. Если весь «Дар» - это произведение Годунова-Чердынцева, то основным, или «рамочным», хронотопом следует признать именно хронотоп творчества.
Понятие «творческого хронотопа» имеет и еще один смысл; об этом интересно пишет М. Липовецкий, ссылаясь при этом на Бахтина: «...В исследовании “Формы времени и хронотопа в романе” находим и определение, словно специально (впрок) заготовленное для характеристики метахронотопа постмодернизма. Это “творческий хронотоп, в котором, по выражению Бахтина, происходит обмен произведения с жизнью и совершается особая жизнь произведения <...> При всей неслиянности изображенного и изображающего мира, при неотменимом наличии принципиальной границы между ними, они неразрывно связаны друг с другом и находятся в постоянном взаимодействии: между ними происходит непрерывный обмен, подобный непрерывному обмену веществ между организмом и окружающей его средой: пока организм жив, он не сливается с этой средой, но если его оторвать от нее, то он умрет <...> Этот процесс обмена, разумеется сам хронотопичен”. То, о чем говорит Бахтин, хронотоп, в котором разворачиваются отношения между автором-повествователем (творцом) и имплицитным читателем - это один из постоянных, притом периферийных, элементов любого, в сущности, хронотопа. Но в постмодернизме именно этот элемент приобретает расширенное до универсальности значение»39.
Таким образом, сюжет «Дара» должен быть понят как метасюжет - как духовное и профессиональное развитие героя-творца вплоть до того момента, как он обретает способность написать этот самый роман. От многих других образцов жанра метаромана «Дар» отличается именно тем, что метасюжет полностью поглощает сюжет «романа героев», который отдельно как бы и не существует. Так, в «Дон Кихоте», «Евгении Онегине» или «Фальшивомонетчиках» можно выделить значимые события, складывающиеся в сюжет разной степени законченности и сложности. Этот сюжет обычно можно охарактеризовать в двух словах: в «Дон Кихоте» речь идет о приключениях странствующего рыцаря, спятившего от чтения, в «Онегине» - о несложившейся любви, в «Фальшивомонетчиках» - о тотальной фальсификации жизни, которая по-разному проявляет себя в судьбах множества персонажей. Но как охарактеризовать сюжет «Дара»? Герой перемещается в пространстве, немного общается с другими персонажами, при этом не вступая с ними ни в какие существенные конфликты, вспоминает, пишет книги. И все. Да, конечно, «Дар» можно назвать историей любви, но ее героиня появляется лишь в середине книги, причем с Федором и Зиной не происходит никаких внешне значительных событий. Сюжет романа может быть понят лишь в метаплане - как творческая эволюция его героя-автора, обретающего способность прозреть под кажущейся бессмысленностью жизни скрытый высокий замысел и «перевести» собственную жизнь с ее уникальными мгновениями в неподвластную времени реальность искусства.
1 См., например: Долинин А. Три заметки о романе В. Набокова «Дар» // В.В. Набоков: Pro et contra. Т. 1. СПб., 1997. С. 697-740; Степанов А.В. Онегинский пастиш Набокова // Набоковский вестник. Вып.1: Петербургские чтения. СПб., 1998. С. 7280; Karlinski S. Nabokov's Novel «Dar» as a Work of Literary Criticism: A Structural Analysis // The Slavic and East European Journal. 1963. № 7. P. 284-290.
2 Маслов Б. Поэт Кончеев: Опыт текстологии персонажа // НЛО. 2001. № 47. С. 172186.
3 Липовецкий М. Из предыстории русского постмодернизма (метапроза Владимира Набокова от «Дара» до «Лолиты») // Липовецкий М. Русский постмодернизм (Очерки исторической поэтики). Екатеринбург, 1997. С. 44-106.
4 Левин Ю.И. О «Даре» // Левин Ю.И. Избранные труды: Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 287-322.
5 Липовецкий М. Указ. соч. С. 55-56.
6 См., например: 1) «Ему представилась ее [матери] радость при чтении статьи о нем, и на мгновение он почувствовал по отношению к самому себе материнскую гордость; мало того, материнская слеза обожгла ему края век» (Набоков В. Дар // Набоков В. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. М., 1990. С. 27. Роман везде цитируется по этому изданию. В дальнейшем страницы указываются в тексте, в скобках после цитаты); 2) «Он старался вообразить внутреннее прозрачное движение другого человека, осторожно садясь в собеседника, как в кресло, так чтобы локти его служили ему подлокотниками, и душа бы влегла в чужую душу, - и тогда вдруг менялось освещение, и он на минуту действительно был Александр Яковлевич или Любовь Марковна <...>. Случайное слово ловко подтверждало последовательный ход мыслей, который он угадывал в другом» (с. 33).
7 Ср. неоднократные инвективы против «святой ненаблюдательности (а отсюда - полной неосведомленности об окружающем мире - и полной неспособности что-либо именовать») «русского литератора-середняка» (с. 282), свойственной в том числе Н.Г. Чернышевскому.
8 См. об этом у М. Липовецкого: «...Тройным знаком бесконечности становится сонет, венчающий эту сцену и весь роман в целом. Во-первых, потому что этот сонет написан онегинской строфой и, значит, соотнесен с миром Пушкина - безусловным символом бесконечности для Набокова и его героя. Во-вторых, потому что здесь прямо воспроизведен финал “Онегина”, пушкинская же “даль свободного романа” (“С колен поднимется Евгений, но удаляется поэт”). И наконец, в-третьих, потому что в синтезе этого сонета происходит превращение линейного и конечного текста романа (“там, где поставил точку я”) в бесконечный и объемный текст бытия: “продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, - и не кончается строка”» (Липовецкий М. Указ. соч. С. 73-74).
9 Впрочем, некоторые исследователи, в частности, Б. Маслов, отказывают Федору в итоговом авторстве «Дара». Об этом см. далее в основном тексте.
10 Липовецкий М. Указ. соч. С. 71.
11 Там же. С. 64.
12 Там же. С. 65.
13 См., например: «Или может быть я напрасно навязываю ему задним числом тайну, которую он теперь носит с собой, когда, по-новому угрюмый, озабоченный, скрывающий боль неведомой раны, смерть скрывающий, как некий стыд, он появляется в моих снах...» (с. 108).
14 Леденев А.В. «Дух вечного возвращения»: В. Набоков // Агеносов В.В. Литература russkogo зарубежья. М., 1998. С. 343.
15 Там же. С. 344.
16 Там же.
17 Маслов Б. Указ. соч. С. 185.
18 Там же.
19 Леденев А.В. Указ. соч. С. 344.
20 См., например: Барковская Н.В. Художественная структура романа В. Набокова «Дар» // Проблемы взаимодействия метода, стиля и жанра в советской литературе. Свердловск, 1990.
21 Бойд Б. Владимир Набоков: Русские годы: Биография. М.; СПб., 2001. С. 543.
22 Кроме того, к роману «Дар» примыкает рассказ «Круг» (1936), тоже повествующий о семье Годуновых-Чердынцевых. Его название соответствует структуре: как и в романе, она кольцевая.
23 В первой главе фразе о зеркальном шкапе предшествует мотив творческой находки («Да, всю жизнь я буду кое-что добирать натурой в тайное возмещение постоянных переплат за товар, навязываемый мне», с. 7), а в пятой, где действие происходит в Груневальде, герой достигает особого ощущения творческой полноты, о котором см. выше.
24 «У туманной бушевской драмы по меньшей мере два явных интертекста. Первый - “драматическая поэма” А. Блока “Песня судьбы” (1908). Имя главного героя “Песни” совпадает с именем Буша. Аллегоризм и условность остальных действующих лиц драмы А. Блока в трагедии Буша утрированы <...>. У драм есть даже общий персонаж - Спутник, которого А.А. Блок однажды величает “одиноким” <...>.
Символическая трактовка темы судьбы у А.А. Блока заменяется аллегорическим обскурантизмом и бодрой лапидарностью бушевского Спутника: “Все есть судьба” (“Дар”: 237). Характерные для символизма (в частности, для драмы А.А. Блока) предчувствия и предвестия [“Вот такого, как ты, я видела во сне.” (Блок, 1961: 161)] у Буша доверяются гадалке и т. д.
Второй - “Котик Летаев” (1916) Андрея Белого» (Млечко А.В. Игра, метатекст, трикстер: Пародия в «русских» романах В.В. Набокова. Волгоград, 2000. С. 77-78).
25 Там же. С. 79.
26 Бойд Б. Указ. соч. С. 523.
27 Действительно, портрет графини д'Икс, на котором модель «держит в руках себя же самое, уменьшенную втрое» (с. 53), можно воспринять как метаописание структуры «Дара», в который составной частью входит роман о Чернышевском.
28 «Он был бы, как и отец священником и достиг бы, поди, высокого сана, - ежели бы не прискорбный случай с майором Протопоповым. <...> его-то сына о. Гавриил поспешил записать в метрических книгах незаконнорожденным; между тем оказалось, что свадьбу справили <…>. Уволенный от должности члена консистории, о. Гавриил захандрил и даже поседел. <…> Что сталось потом с молодым Протопоповым, - узнал ли он когда-нибудь, что из-за него...? Вострепетал ли...? Или, рано наскуча наслаждениями кипучей младости... Удалясь...?» (с. 192) и «И еще третья тема готова развиться - и развиться довольно причудливо, коли не доглядеть: тема "путешествия", которая может дойти Бог знает до чего - до тарантаса с небесного цвета жандармом, а там и до якутских саней, запряженных шестеркой собак. Господи, да ведь вилюйского исправника звать Протопоповым!» (с. 194).
29 Горяинов «был известен тем, что, отлично пародируя (растягивал рот, причмокивал и говорил бабьим голосом) одного старого, несчастного журналиста <...>, так свыкся с этим образом (тем отомстившим ему), что <...> даже сам в нормальном разговоре начинал смахивать на него» (с. 175).
30 См.: «Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца. Он целовал горячую маленькую руку, принимая ее за другую, крупную руку, пахнувшую утренним калачом» (с. 88); «От прозы Пушкина он перешел к его жизни, так что вначале ритм пушкинского века мешался с ритмом жизни отца» (с. 88) и др.
31 См. о Щеголеве: «Как у большинства говорунов, у него в воспоминаниях всегда попадался какой-нибудь необыкновенный собеседник, без конца рассказывавший ему интересные вещи, - <...> а так как нельзя было представить себе Бориса Ивановича в качестве молчаливого слушателя, то приходилось допустить, что это было своего рода раздвоением личности» (с. 167).
32 «Характерным порождением игрового принципа становится появление на страницах текста собственно автора-творца (вернее, его двойника), нередко подчеркнуто отождествленного с биографическим автором: таков герой новеллы Борхеса “Борхес и я”, таков автор в “Завтраке для чемпионов” Воннегута, таковы многочисленные “представители” автора в прозе Набокова, таков Веничка в поэме Вен. Ерофеева, таковы романисты в “Пушкинском доме” А. Битова, “Между собакой и волком” Саши Соколова и т.д. Здесь не просто обнажение приема. Скорее перед нами демонстрация философского принципа: автор-демиург, по традиционным “условиям игры” находящийся за пределами текста и творящий “игровой порядок”, превращается в один из объектов игры, вовлеченных в процессы текстовой перекодировки и деиерархиэации. С помощью такого приема, наряду со многими другими, иронически подрывается сама принципиальная возможность некой конечной, мыслимой, стабильной ”рамы“...» (Липовецкий М. Указ. соч. С. 22).
33 Мелетинский Е.М. Культурный герой // Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. 2.
34 См. например: «Действие романа, как позднее указал сам писатель, начинается 1 апреля 1926 г и заканчивается 29 июня 1929 года» (Леденев А.В. Указ. соч. С. 336).
35 День, проведенный Федором в Груневальде, тоже снабжен датировкой; это 28 июня. На следующий день заканчивается действие романа.
36 Бойд Б. Указ. Срч. С. 522.
37 На Танненбергской улице Годунов-Чердынцев жил два года, на Агамемнонштрассе - «четыреста пятьдесят пять дней» (с. 326), т.е. год и три месяца.
38 Александров В. Е. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика / Пер. с англ. Н.А. Анастасьева. СПб., 1999. С. 156.
39 Липовецкий М. Указ. соч. С. 27.