Поэзия Д.Г. Лоуренса в контексте идейно-эстетических исканий 1910-1920-х годов
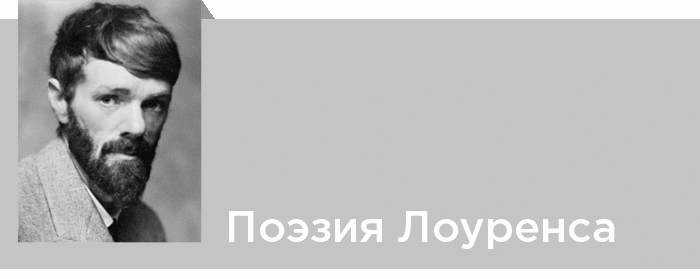
Г.Э. Ионкис
Поэзия для Дэвида Герберта Лоуренса, английского романиста XX в., была своего рода лабораторией, где возникали мотивы, темы, образы, вошедшие затем в его прозу. Десять стихотворных сборников составляют значительную часть его наследия.
Лоуренс принадлежал к тому типу художников-мыслителей, поэтов-философов, который сложился в эпоху романтизма. Как Ницше и Йетс, он мыслил поэтически. На исходе своей короткой, напряженной, полной творческих дерзаний жизни он признался: «Мне всегда казалось, что настоящая мысль, единственная мысль — не аргумент — может существовать только в стихе или в иной поэтической форме».
Бунтарь по природе, Лоуренс включился в борьбу за обновление английской поэзии, которую начали накануне первой мировой войны георгианцы и имажисты и повели такие поэты, как Гарди и Йетс, Олдингтон и Грейвз, Элиот и Ситуэлл. Их отличал глубокий интерес к философским проблемам, они искали пути преодоления того глубочайшего кризиса, который переживала буржуазная цивилизация.
Противник «ренессансного гуманизма», Т. Э. Хьюм нашел свой идеал в средневековом мировосприятии. Т.С. Элиот, решивший следовать его примеру, трагически пережил отречение от земных ценностей во имя религиозных и возвращение к религии признавал единственным способом разрешения всех противоречий. Пессимистически оценивая положение человека в буржуазном мире, Герберт Рид видел его спасение в искусстве, которое одно способно обеспечить равновесие между обществом и природой. У.Б. Йетс искал разгадку тайн исторического процесса в мифе. «Новый гуманизм» Лоуренса основывался на требовании возродить «природное» в человеке, воскресить «живые органические связи человека с космосом, с солнцем, с землей».
В то время как Элиот и Йетс каждый по-своему стремились преодолеть разрыв между интеллектом и инстинктом, разумом и чувством, восстановить утраченную целостность, Лоуренс отстаивал «природу», «чувство», «инстинкт», отрицательно отвечая на вопрос Фрейда, стоит ли цивилизация того, чтобы человек расплачивался за нее подавлением своего «естества». В то время как Элиот развивал концепцию элитарной культуры, утверждая ее ценности как высшие эстетические, Лоуренс громил «насквозь прогнившую культуру» и звал отречься от нее в пользу «жизни».
(Бунт против буржуазной цивилизации, разрушающей целостность человека, и апофеоз яркой, сильной своей близостью к первоосновам бытия личности нашли выражение и в поэзии, и в прозе Лоуренса, определив во многом современность их звучания. Лоуренс видел главное зло современного общества в том, что люди превратились в винтики социальной машины, их вкусы, привычки, верования, эмоции штампуются ныне поточным производством, их жизнь уныла, тускла и однообразна, потому что в ней нет огня, вдохновения.
Представления Лоуренса о человеке, в котором «природные» влечения одерживают верх над «культурными» наслоениями, перекликаются с фрейдистской концепцией личности, широко обсуждавшейся в 10-20-е годы. Лоуренс пришел к своим выводам самостоятельно, независимо от Фрейда, при этом его концепция была шире фрейдовской. Он верил в инстинкт и интуицию. Его многочисленные выступления в критике и художественное творчество одушевлены этой верой. «Наша мысль может ошибаться, — писал он в
Наиболее проницательные современники Лоуренса осознавали свежесть и широту его концепций, понимая в равной мере их утопичность.
Верования и представления древних народов (этерокритян, ацтеков, этрусков), их примитивное мифо-поэтическое мышление казались Лоуренсу более мудрыми, нежели знания, даруемые современной цивилизацией. В этом вопросе Лоуренс был единомышленником Йетса. Подобно ему, Лоуренс был поборником личностного искусства.
«Все его стихи, не только законченные, но и варианты, наброски составляют удивительное единство, своеобразный автобиографический роман, — пишет Дж.К. Оутс, — более яркий, эмоционально более сильный, чем самый значительный из его романов».
В ранних сборниках, которые Лоуренс объединил, издавая в
Многие стихи посвящены матери. Он мучительно пережил ее болезнь и смерть летом
Цикл «Смотри! Мы прорвались!», которым открываются «Нерифмованные стихотворения», навеян романом с Фридой фон Рихтхофен. Будучи женой респектабельного профессора-германиста, матерью троих детей и полюбив Лоуренса, она перешагнула через сословные барьеры и стабильное положение в обществе. Дочь потомственных аристократов последовала за сыном шахтера, безвестным учителем из Кройдона, за начинающим писателем, разделила изгнание, скитания, мытарства художника гонимого и больного (в юности Лоуренс заболел туберкулезом, время от времени процесс обострялся, в конце концов он свел его в могилу). Не случайно Э. Лоуэлл назвала этот сборник романом в стихах. С полным правом его можно было бы назвать романом автобиографическим.
Многие из стихотворений сборника «Птицы, звери и цветы» созданы под впечатлением от Сицилии, Сардинии и Мальты, где Лоуренсы жили в
Стихи, вошедшие в сборники «Анютины глазки» и «Крапива», — это фрагменты, осколки разрозненных крамольных, язвительных мыслей Лоуренса обо всем, что он так не любил и не принимал в современном мире.
«Баварские генцианы», его последние стихи, пронизаны воспоминаниями о курорте в Баден-Бадене, где он, прикованный к постели, подолгу глядел на султаны генциан, струящих темную синеву. Он знал, что конец близок и, готовясь сойти в «пронзительно жгучий мрак» Плутонова царства, настоятельно требовал: «Дайте цветок мне, пусть будет факелом!»
Хотя поэзия Лоуренса глубоко личностна, ее отличают масштабность, универсализм, тенденция к символическим обобщениям. Как это ни парадоксально, универсальность, к которой Элиот шел через принцип «безличности», достигается Лоуренсом именно путем реализации личностного, потому что он представляет личное частью всеобщего. «Пишущая эти строки плоть и кровь — одновременно великая безличная плоть и кровь, которая шире, чем Я; она заключает в себе все прошедшее и будущее, и я горд тем, что принадлежу к ней».
Критики фиксируют внимание на индивидуализме Лоуренса, между тем именно в «разомкнутости» личностного начала, в понимании исключительной силы индивидуальности как способности подняться до всеобщего и состоит пафос лоуренсовской проповеди. «Даже самая лучшая поэзия при всем ее личностном характере нуждается в отсветах своего времени, места, обстоятельств, которые и придают ей полноту и цельность», — писал он в предисловии к собранию своих стихотворений.
Поэзия Лоуренса многотемна, она вобрала в себя богатый опыт личности самоуглубленной и впечатлительной, эмоционально причастной к духовным и нравственным испытаниям и потрясениям современников. Характерно, что поэт умел быть современным не только тогда, когда упоминал в своих стихах реалии окружавшей его действительности, откликаясь, к примеру, на страшные события первой мировой войны, но и тогда, когда сосредоточивался на проблемах «вечных».
Человек и природа, мужчина и женщина, любовь и смерть — в интересе к этим антиномиям проявился философский дуализм поэта. Но трактовал их он по-своему. Поэзию Лоуренса характеризует атмосфера мистической тайны, сгустившаяся вокруг естественных явлений рождения и смерти, взаимоотношения полов, смены времен года и т. д. Он был заворожен протеевской, изменчивой природой действительности. Уже в ранних стихах, написанных с соблюдением рифмы и определенного размера, поэт выразил те ощущения, мысли и чувства, которые будут волновать его до конца дней: текучесть жизни, единение человека с природой, идентификация любви и смерти в рождении, неустранимость и единство противоположностей мрака и света, жизни и смерти.
Главным в поэтическом искусстве Лоуренс считал умение передать сложную диалектику жизни, ее вечное безостановочное движение. Традиционная поэзия, по его мнению, не была способна к «прямому выражению». Канонизированные формы, традиционную технику Лоуренс воспринимает и оценивает как заслон на пути жизни, рвущейся в поэзию. Он пропагандирует «поэзию настоящего», спонтанную, лишенную статичности.
Представления Лоуренса о поэзии настоящего момента как о высшем типе поэзии связаны с его концепцией времени. Время — основная категория его мысли. Как и Элиот, он поглощен его противоречиями. Лоуренс не приемлет ни механического «календарного», ни бергсоновского «лирического» субъективного времени. Элиотовские поиски «спокойной точки вращения мира» — точки пересечения времен, будущего, прошедшего и настоящего — оставляют его равнодушным. Его влечет тайна мгновения, но в отличие от Элиота он видит в нем не законченность, а частицу изменчивого, струящегося времени.
«Наша идея времени как длительности, представляемой в виде вечной прямой, жестоко калечит наше сознание, — пишет он в «Апокалипсисе». — Языческие концепции времени как циклического движения много свободнее, это движение вверх и вниз, оно учитывает и полное изменение душевного состояния в данную минуту». Лоуренс, как и Йетс, предпочитает языческие концепции циклического времени, но он фиксирует внимание не столько на историческом времени, сколько на мгновениях — этой квинтэссенции движущегося, протекающего времени. Моментальное не может обладать законченностью, поэтому в «поэзии настоящего» нечего искать совершенства утонченной формы, полной симметрии, рифмы, регулярного метра, правильного ритма и т. д.
Представление Лоуренса о двух типах поэзии восходит к ницшеанской концепции «аполлонического и дионисийского» начал в искусстве. Светлый строй и гармоническое равновесие (аполлоновское начало) ему чужды. Древний оргиастический бог Дионис — это символ неукротимой, бушующей энергии. Лоуренсу близко дионисийство, которое он понимает и как эмансипацию страстей, «природного» начала, и как возрождение в смерти. Страстный пропагандист дионисийства, Лоуренс-художник противостоит Элиоту, Паунду, Джойсу. Он исходит из концепции приходящего, наступающего, становящегося, а Джойс и Элиот из концепции сущего. Первым заметил это Р. Олдингтон. Сравнивая художественное наследие Лоуренса с «Улиссом», он писал: «“Улисс” статичен и целен, логически сконструирован. Это маленький замкнутый космос. Произведения Лоуренса так текучи, так личностны, так незавершенны! Это серия неоконченных приключений. В них ничего статичного, все струится».
Спонтанность, фрагментарность лоуренсовского стиха многих раздражала. Элиот, в частности, писал: «Лоуренс вовсе не художник, а просто человек с альбомом. Его поэзия — весьма любопытное дилетантское творчество — представляет собой лишь наброски к стихам». Однако Лоуренс в совершенстве владел традиционными приемами версификации. Но уже в «Рифмованных стихотворениях» заметны поиски «экспрессивной формы», побуждавшие поэта, не порывая с рифмой, разнообразить ритмический и строфический рисунок стиха. Придя к выводу, что единственной возможной формой «поэзии настоящего» является свободный стих, Лоуренс оставался ему верен до конца. Он активно участвовал в полемике вокруг свободного стиха, поддерживая его пропагандистов и поборников в Англии — имажистов во главе с Р. Олдингтоном и Э. Лоуэлл. «Много написано о свободном стихе. Но все, что может быть раз и навсегда сказано, это то, что свободный стих есть или должен быть, прямым выражением и притом мгновенным выражением души, ума и тела человека, вздымающихся в едином мгновенном порыве. Они говорят одновременно. Возможны определенное смешение, дисгармония, но беспорядок — такое же свойство реальности, как шум — неотъемлемое качество плещущих волн. Никаких нелепых законов для свободного стиха, никакого мелодического рисунка, которого строго придерживаются все размеры».
«Главное качество поэзии — открытие нового мира внутри известного». Таким своеобразным «открытием» явились его стихи о гранатах, персиках, инжире, рябине, анемонах, о кенгуру, змее, черепахах, рыбе, летучей мыши. Блейковский тигр, полевая мышь и маргаритка Р. Бернса, китсовские соловей, кузнечик и сверчок — эти образы, безусловно, были знакомы Лоуренсу. Но Лоуренс подходит к ним иначе. «Он не пытается интерпретировать их. Они существуют сами по себе, всецело непознаваемы. Они живут в своем собственном мире, независимо от человека». Главное в этих стихах — ощущение активной жизни живой природы, ее мощной чувственной энергии, которая противопоставлена бесцветному человеческому существованию, скованному всевозможными условностями и ограничениями цивилизации.
Убежденный в том, что человек и все живое в природе — выражение одной и той же энергии, Лоуренс ищет аналогии между человеческим бытием и жизнью растений и животных. Фрукты ассоциируются с женским, плодоносящим началом, опадение плодов осенью — с умиранием, появление цветов — с воскресением и т. д. Эти аналогии еще больше подчеркивают утрату человеком, порабощенным цивилизацией, многого из того, чем владеют птицы, звери и цветы. Они мудрее нас, они хранители изначальных законов бытия, отсюда стремление Лоуренса рассмотреть каждое живое существо само по себе и как символ каких-то абсолютных начал.
Стихотворение «Цветущий миндаль» в символической форме выражает идею неистребимости инстинкта. Как дерево миндаля, оторванное от родной земли, но хранящее ее заветы, вдруг начинает цвести в январе, и цветы его, подобно каплям крови, сверкают на белизне снега, являя собою чудо воскрешения, так и человеческое сердце, зажатое в тиски «железным веком» цивилизации, сохраняет жизнь.
Инстинкт у Лоуренса ассоциируется с женским, животворящим началом, полным неизъяснимой тайны. Женщина, по Лоуренсу, — неизведанная страна, в которой доминирует образ глубокой голубизны, дымной синевы, черного солнца, величественного мрака. Любовные стихи Лоуренса редко радостны, легки и прозрачны, любовное блаженство его героев мучительно, его любовная лирика совершенно чужда эротики, гедонизма, фривольности. Поэт целомудрен и аскетичен в своем прославлении плоти, она для него священна как символ веры. С чувством сдержанного восторга, затаенного трепета, бесконечного удивления относится он ко всему, что составляет, по выражению Китса, «неумирающую поэзию земли».
В каждом живом существе, будь то змея, рыба или кенгуру, Лоуренс усматривает его «божественную сущность» и открывает особую тайну, которая заключается в сопричастности вечности и высшей мудрости чувственного бытия. Стремление к символико-философским обобщениям составляет пафос его стихов, придает некоторым из них пророческий характер. Свободный стих с его сложной структурой, многообразием ритма, кажущейся хаотичностью и дисгармонией способствует усилению этого ощущения.
Лоуренс не только не стремится представить человека венцом творения, он отказывает ему в праве считаться «мерой всех вещей». Исходя из своей концепции личности, которая включала и необходимость отчуждения (с тем чтобы личность могла беспрепятственно выразить себя), Лоуренс ставит черепаху и рыбу выше человека. Человеку никогда не превзойти изначального одиночества рыбы. Он слабее черепахи, которой одиночество не приносит страданий, ибо оно не осознано. И все же существует внутренняя связь человека и древней рептилии — это инстинкт пола.
В участи черепахи Лоуренс усматривает некий «архетип», издревле заданную схему жизни, изначальный образец. В цикле стихотворений о черепахах просматривается то «движение от натурализма к символу, от реальности к мифу», которое является характерной особенностью позднего творчества Лоуренса.
Апология мифа как средства ухода от буржуазной прозы и ненавистной цивилизации у Лоуренса имеет иную основу, чем мифологизирование Джойса и Элиота, которые пытались интерпретировать современность посредством мифа. В защите мифологических первооснов современного сознания Лоуренс близок к Юнгу, поместившему в центр своей аналитической психологии понятие коллективного бессознательного. Лоуренс призывал не к растворению личности в «коллективном бессознательном», а к осознанию самоценности индивида — уникальной частицы великого целого.
В конце творческого пути тяготение Лоуренса к символу и мифу находит наиболее полную реализацию. Тема смерти становится ведущей в последних его стихотворениях. Глубокое впечатление на Лоуренса произвело посещение этрусских гробниц. Мрачные могилы в его сознании ассоциировались с ковчегом, который по библейскому преданию оказался прибежищем жизни во время потопа. Наивные представления этрусков о смерти как о путешествии души чрезвычайно занимали поэта (маленький культовый кораблик, увиденный им в одной из гробниц, дал название одному из его стихотворений — «Корабль смерти»). «Корабль смерти», по мнению критиков, — последний поэтический триумф Лоуренса. Стихотворение поражает сочетанием величавости и строгой простоты. Несмотря на фрагментарность (10 небольших частей), оно удивительно цельно.
Образ созревших и опадающих яблок, возникающий в своеобразном символическом введении, выражает мысль о неотвратимости смерти. Об этом сказано без всякого пафоса, с суровой простотой.
Смерть придет к каждому в урочный час; в стихотворении она предстает в образе потока, огромного моря, готового поглотить все и всех.
Многочисленные повторы, синтаксический параллелизм, игра созвучий усиливают впечатление текучести и вечности движения. И, волны, догоняющие одна другую, повторяется требовательный вопрос-призыв.
Ритмико-интонационный и синтаксический строй стихотворения, его сдержанный тон, строгая простота образов напоминают нонконформистские гимны, которые, по признанию Лоуренса, воздействовали на него сильнее, чем классическая поэзия. Влияние гимнов особенно ощутимо в этом стихотворении, в котором поэт выступает в роли современного Ноя. Он пришел к мысли, что смерть — это откровение, великое путешествие в область мрачного забвения, переход в иной мир, более древний, чем органический, выход в более широкий космос.
Тема смерти в поэме Элиота «Бесплодная земля» (1922) рождает ощущение полной безнадежности («Мне никогда не приходилось слышать ничего столь кладбищенского и самоубийственного» — вот первое впечатление Олдингтона, слышавшего чтение рукописи). У Лоуренса смерть — это часть великой мистерии жизни, и потому она не ужасна, она величественна.
Хотя Лоуренс апеллировал к прошлому, с особой любовью всматривался в глубь минувших веков, в его произведениях было нечто пророческое. Оно пронизывает не только его философские стихи, но и острые публицистические стихи на социальные темы его последних сборников, в которых он, по словам Н.Я. Дьяконовой, «с почти маниакальной настойчивостью говорит о возмездии, которое неизбежно постигнет порочный мир, где царят всеобщая продажность, жестокость и ложь».
Испытавший на себе силу «железной пяты» высшего класса, проклятый, изгнанный, он мучительно переживал разрыв с родиной. Он любил Англию горькой любовью отверженного. Находя ее современность омерзительной, поэт с надеждой всматривался в будущее.
Л-ра: Филологические науки. – 1988. – № 6. – С. 25-31.
Произведения
Критика
- О романе Д.Г. Лоуренса «Сыновья и возлюбленные»
- Поэзия Д.Г. Лоуренса в контексте идейно-эстетических исканий 1910-1920-х годов
- Проблема характера в романе Д.Г. Лоуренса «Радуга»










Поделиться