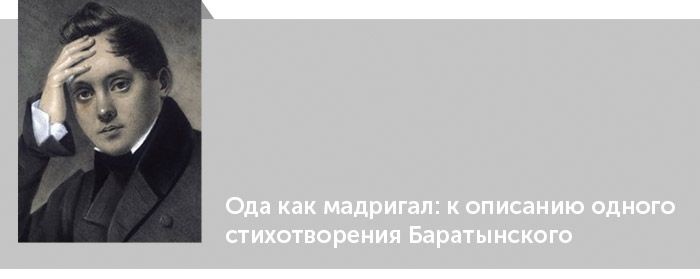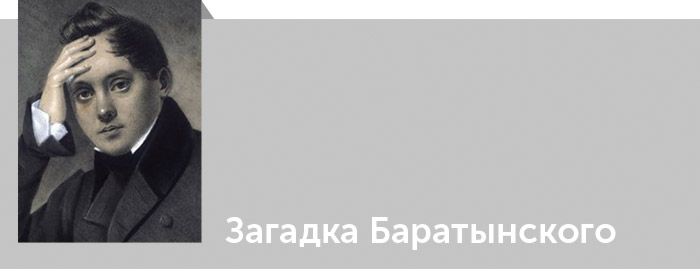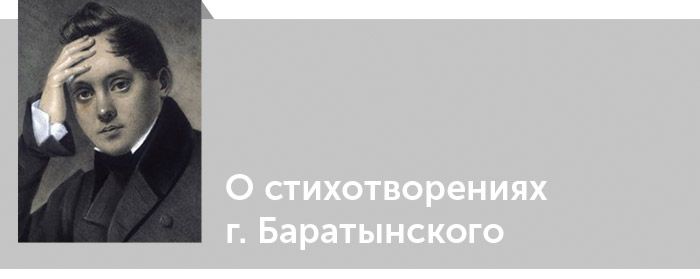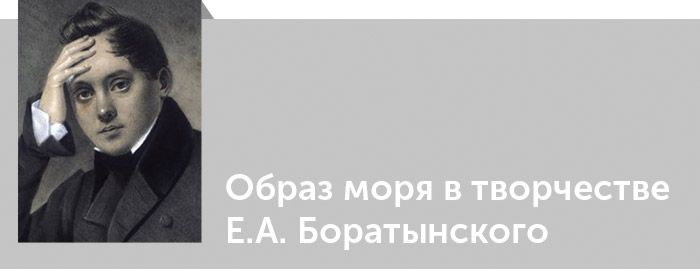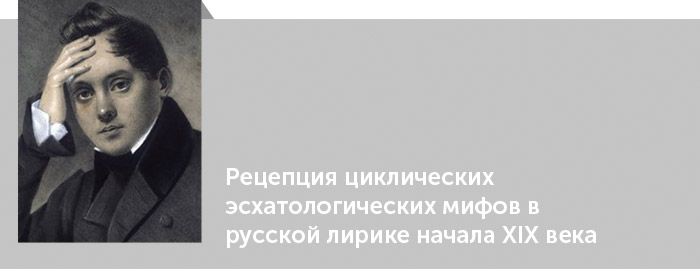Боратынский: одинокие криле

А.М. Песков
Боратынский родился 19 февраля (по старому стилю) 1800 г. усадьбе Мара, под Кирсановой Тамбовской губернии. Рос в ласке. С 12 лет — в Петербурге, в Пажеском корпусе. Внутреннее сопротивление школьной неволе скоро сделало его почти сорванцом. В 1814 г. был оставлен на второй год, а в феврале 1816 — вместе с другом похитил у камергера П.Н. Приклонского несколько ассигнаций и табакерку, за что был исключен из корпуса без права вступать в иную службу, кроме солдатской. Он покинул Петербург, два с половиной года провел на попечении родственников (те безуспешно искали способ добиться высочайшего прощения) и наконец, вернувшись в столицу вынужден был вступить в 1819 г. в гвардейский Егерский полк, надо было выслуживать офицерский чин, который восстановил бы его в правах. Формально он не был лишен дворянства; но копий с дворянского свидетельства, оставшегося в корпусе, ему не выдавали, что сулило в будущем серьезные бытовые проблемы (при женитьбе, при разделе имения и т.п.). Разумеется, получение офицерства означало и моральную реабилитацию.
В этот год были напечатаны первые стихотворения Боратынского.
В январе 1820 г. его перевели унтер-офицером в Нейшлотс в пехотный полк, расквартированный в Финляндии. Этот перевод был подготовлен, видимо, родственниками — командовал полком Е.А. Лутковский, троюродный дядюшка Боратынского. В конце 1820 г. Лутковский представил племянника к производству в прапорщики. Но Александр I, против ожидаемого, отказал. С той поры в течение четырех с лишним лет за Боратынского усиленнейше, но тщетно хлопотали. Время это было тяжело не солдатчиной (от службы его вполне уберег Лутковский) и даже не разлукой с друзьями и с семьей (из 64 месяцев 28 в общей сложности он провел в отпусках: в Петербурге и Маре), а отсутствием определенности в жизни, ибо срок его пребываш в унтер-офицерах полностью зависел от благоволения Александра I. Только в апреле 1825 г. император подписал указ о производстве Боратынского в прапорщики.
Осенью 1825 г. он отправился в отпуск в Москву, в начале 1826 - вышел в отставку, в июне 1826 — женился и большую часть оставшихся ему 18 лет жизни провел в семейном кругу, посвятив много временя хозяйственным заботам. Тем не менее именно после 1825-1826 гг Боратынский осознал поэзию как свое главное дело; он подготовил к печати три отдельных издания своих поэм («Эда и Пиры», 1826; «Бал», 1828; «Наложница», 1831) и три собрания своих произведений («Стихотворения Евгения Баратынского», 1827 и 1835; «Сумерки», 1842). Осенью 1843 г. вместе с женой и старшими детьми Боратынский отправился за границу и в Неаполе скоропостижно умер 29 июня (11 июля) 1844 г.
Его взрослая жизнь удивительно обрамлена двумя текстами. Один из них — письмо к маменьке, написанное летом — осенью 1814 г. вскоре после оставления на второй год. В этом письме он просит разрешения вступить в морскую службу и мотивирует свое желание так «Нет, ничем не смущаемый покой — это не жизнь. Поверьте, любезная маменька,. можно привыкнуть ко всему, кроме покоя и скуки <...>. Я чувствую, мне всегда требуется что-то опасное, всего меня захватывающее; без этого мне скучно. Вообразите, любезная маменька, неистовую бурю и меня, на верхней палубе, словно повелевающего разгневанным морем, доску между мною и смертью, чудищ морских, пораженных дивным орудием, созданием человеческого гения, властвующего над стихиями». Другой текст — стихотворение «Пироскаф», написанное за два месяца до смерти, в апреле 1844 г. во время плавания на пароходе из Марселя в Неаполь:
Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою встал капитан.
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался недаром.
Пенясь, глубоко вздохнул океан! <...>
Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ! <…>
С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Темную страсть мою днесь награждая,
Кротко щадит меня немочь морская,
Пеною здравия брызжет мне вал!
Ни в одном другом произведении или письме поэта нет такой бодрости духа и уверенности в собственных силах, как в письме 14-летнего и в стихотворении 44-летнего Боратынского. Между этими двумя текстами — 30-летняя эпоха.
Поэтическая слава пришла к Боратынскому через год после его дебюта в печати в 1820 г., после публикации элегии «Финляндия». Последовавшие за ней любовные элегии, особенно «Разуверение» и «Признание», имели невероятный успех: им подражают, их переписывают. «Молодые читатели <...> в его произведениях узнают собственные мысли и чувства». Существенное значение для восприятия элегий Боратынского имело и то обстоятельство, что многие читатели знали об участи поэта, вынужденного из-за какого-то проступка (об ассигнациях и табакерке почти никто не знал) влачить солдатскую службу вдали от родины. В свою очередь элегическая поэтика оказывала воздействие на восприятие автора элегий в обыденной жизни. Так, в глазах многих современников Боратынский — как лицо— представал через призму его элегий: «Я не видал человека, менее убитого своим положением»; «Он был худощав, бледен, и черты его выражали глубокое уныние». Оба воспоминания — о финляндском периоде. Но и позднее, когда Боратынский живет вполне счастливо в Москве, знакомые ищут в его лице выражения его элегий: «Его бледное, страдальческое лицо ясно показывало, что этот человек выстрадал многое».
Сюжетная основа любовных элегий Боратынского не представляла собой ничего принципиально нового. В его стихах воплощается та ситуация, которую легко обнаружить у французских элегиков конца XVIII - начала XIX в., у Батюшкова, у Пушкина, позднее — у Лермонтова: юноша начинает жизнь с мечтаний, надежд, упований, шалостей, пиров, проказ в дружеском кругу, с любви (два варианта: или он счастлив, или он верит в скорое счастье); но мечты не сбываются (или счастливые часы улетают, а пиры утомляют), любовь приносит страдания (три основных варианта: возлюбленная или умирает, или не отвечает взаимностью, или изменяет); иногда юношу постигает роковое несчастье, после которого он обречен на оковы, или на скитания, или на изгнание, или на бегство; опыт жизни доказывает ему тщетность первоначальных упований, сеет в душе печаль и разочарование, холодная мысль разъедает и истребляет живые чувства.
Однако, используя готовую структуру, Боратынский усложнил психологические мотивировки элегических страданий и создал новый способ элегического «излияния» — сказанное относится прежде всего к лучшим из созданных в «финляндский» период стихотворениям — «Разуверению» и «Признанию». Здесь специфичен сам подход к собственному душевному состоянию: вместо выражения страданий — их анализ. Этот особенный, как бы отстраненный взгляд на самого себя уже был предметом филологических комментариев, и поэтому ограничимся повторением: именно такая отстраненность стала источником перехода Боратынского от любовных элегий первой половины 1820-х гг. — к философской элегии второй половины 1820-х — начала 1840-х. Лаконичное и точное определение зрелых элегий Боратынского дал еще в 1838 г. Н.А. Мельгунов: «Баратынский <...> в своем втором периоде возвел личную грусть до общего, философского значения, сделавшись элегическим поэтом современного человечества».
Такое «возведение» личного — до общего обусловлено прежде всего тем, что Боратынский еще в элегиях финляндского периода осмыслял личные душевные коллизии (желание счастья, мечта о родной душе и т.д.) в строгом соотношении с подлиннойсилой — судьбой. Не измена возлюбленной, не утрата друга, вообще не чья-то субъективная воля, а неизбежные законы судьбы предопределяют движение души только по элегическому кругу скорбей и страданий. Отсюда — состояние подвластности, глобальная тоска о невозможности преодолеть это состояние усилием собственной воли, признание своего бессилия перед предопределенностью, царящей в жизни. Такая ситуация, обозначенная впервые Боратынским в любовных элегиях финляндского периода, впоследствии многократно будет варьироваться в элегиях философских («К чему невольнику мечтания свободы...»; «Были бури, непогоды...», «Осень» и проч.).
Однако наряду с такой ситуацией у Боратынского в стихах разных лет можно обнаружить иную ситуацию — по смыслу прямо противоположную, более того, противостоящую состоянию элегической подвластности. Она частично обозначена уже в «Финляндии» — стихотворении, определившем репутацию Боратынского как элегического поэта:
Что нужды до былых иль будущих племен?
Я не для них бренчу незвонкими струнами;
Я, невнимаемый, довольно награжден
За звуки звуками, а за мечты мечтами.
Образ певца, находящего счастье в самом творчестве, впоследствии постоянно будет появляться у Боратынского — вплоть до «Рифмы» — заключительного стихотворения его последнего сборника «Сумерки» (1842). Характерно, что именно этот образ конкурирует в воспоминаниях друзей о Боратынском с обликом элегического страдальца: «Любовь к Поэзии владела им вполне <...> Он не переставал повторять, что сама Поэзия есть цель для Поэзии»; «Баратынский <...> был друг одних литераторов чистой сферы <...>. Стихотворения Баратынского, судя по их роду и совершенствам, столь утонченно-художническим, естественно должны были являться для немногих».
Сам Боратынский в одном из писем 1831 г. к Плетневу объяснял смысл своего элегического творчества так: «Выразить чувство значить разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могуг сохранять бодрость духа». Эти слова можно интерпретировать как своего рода авторский комментарий к известному стихотворению, написанному около того же времени:
Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Власть поэтической гармонии дает поэту власть над материалом для творчества, над своими душевными невзгодами, над жизнью в целом:
Я мыслю, чувствую: для духа нет оков;
То вопрошаю я предания веков <...>
То занят свойствами и нравами людей,
Поступков их ищу прямые побужденья,
Вникаю в сердце их, слежу его движенья,
И в сердце разуму отчет стараюсь дать!
(Н.И. Гнедичу)
Я правды красоту даю стихам моим,
Желаю доказать людских сует ничтожность
И хладной мудрости высокую возможность.
(Богдановичу)
«Разуму отчет», «хладная мудрость», «доказать сует ничтожность» — это качественно иная, нежели в элегии, победа мысли над чувством. Именно в процессе таких «отчетов» разуму и «доказательств» можно освободиться от власти.судьбы, достичь того «высокого равнодушия», которое позволяет отстраненно смотреть на собственные страдания:
Меня тягчил печалей груз;
Но не упал я перед роком,
Нашел отраду в песнях муз
И в равнодушии высоком.
(«В глуши лесов счастлив один...»)
Перед нами ситуация прямо противоположная элегической: в элегиях поэт подчинен надличной силе, предопределяющей безысходность страданий, нереализованность упований и общее состояние душевной подвластности. В цитированных текстах напротив — поэт властвует: упования, страсти, страдания — все это превращается в материал для творчества, и поэт преобразует жизненную дисгармонию в поэтическую гармонию:
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.
(«В дни безграничных увлечений...»)
Мысль о власти поэта над материалом — не следствие эволюции мировоззрения Боратынского, и потому приведены примеры из стихотворений разных лет: «Н.И. Гнедичу», «Богдановичу» и «В глуши лесов счастлив один...» — 1823-1825 гг.; «Болящий дух...» и «В дни безграничных увлечений...» — начало 1830-х гг. Эта мысль жила в нем на протяжении всего творчества. Другое дело, он не доверялся ей полностью, и она всегда чередовалась в его поэзии с элегической идеей безысходной подвластности человека. Одназначно объяснить, почему так происходило, разумеется, невозможно, но одной из важнейших причин, безусловно, было равномерно прослеживаемое на протяжении всей взрослой жизни Боратынского стремление к самоутаению и к самоопровержению.
Это стремление сродни романтическому бегству поэта от света, от суеты, от толпы — мотиву, широко распространенному в русской поэзии 1820-1830-х гг. Но вряд ли следует объяснять самоутаение Боратынского только литературными влияниями. Самоутаение, тяга к бегству, отказ от света — едва ли не физическое свойство самой натуры Боратынского. За 18 лет своей послефинляндской жизни он только раз выбрался из Москвы в Петербург — на две недели в феврале 1840 г., да в сентябре 1843 г. был в столице проездом за границу. Но и в Москве он непостоянный житель — в глуши: Маре, Каймарах и Муранове — он провел в общей сложности едва ли не половину своей семейной жизни, как бы исполняя поэтические обеты своей юности и молодости:
Спокойный домосед в моей безвестной хате,
Укрывшись от толпы взыскательных судей,
В кругу друзей своих, в кругу семьи своей,
Я буду издали глядеть на бури света.
(«Я возвращуся к вам, поля моих отцов...», 1820)
Я твой, родимая дуброва!
Но от насильственных судьбин
Молить хранительного крова
К тебе пришёл я не один.
Л-ра: Филологические науки. – 1995. - № 2. – С. 22-32.