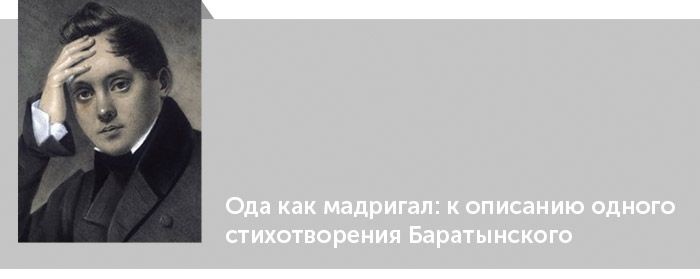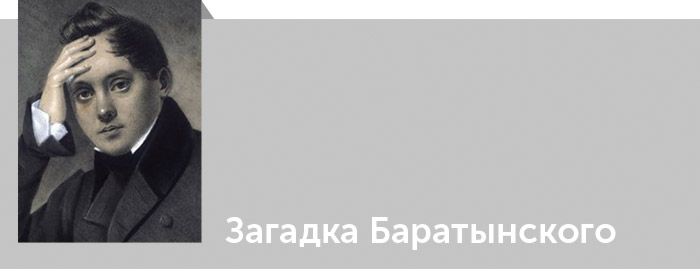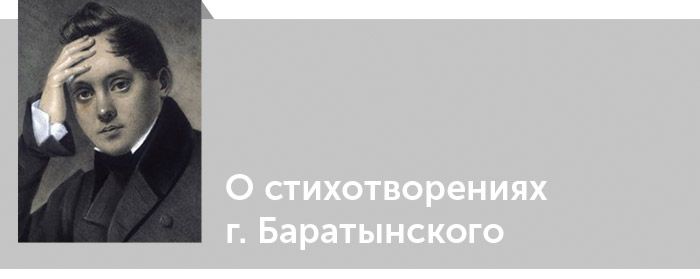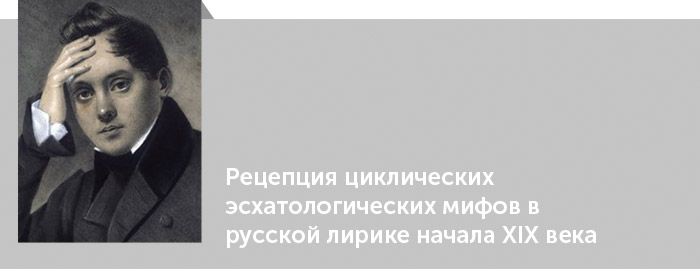Образ моря в творчестве Е.А. Боратынского
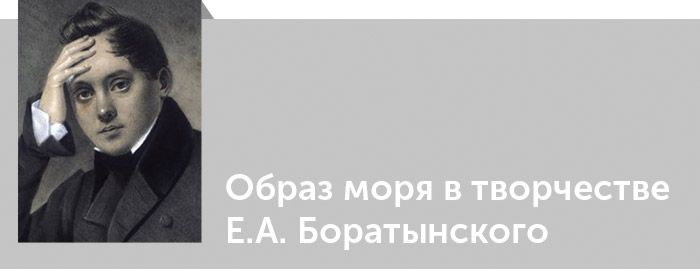
УДК 821.161.1
Акимова М.С., аспирантка,
Институт мировой литературы им. М. Горького РАН
Статья посвящена определению особенностей восприятия и раскрытия Е.А. Боратынским образа моря и уяснению его роли в творчестве поэта. На материале поэзии и переписки автор анализирует специфику данной тематики у Е.А. Боратынского, ее соотношение с основными концептами творчества поэта (человек, разум и чувство, творчество, свобода, судьба, цивилизация) и его биографией. Показана эволюция морской тематики и межтекстовые связи.
Значительное внимание уделяется раскрытию морской символики.
Ключевые слова: море, эволюция, цивилизация, символика.
Стаття присвячена визначенню особливостей спийняття та розкриття Є.А. Боратинським образу моря та уточнення його ролі у творчості поета. На матеріалі поезії та листування автор аналізує специфіку цієї тематики у Є.А. Боратинського, її відношення з основними концептами творчості поета (людина, розум і почуття, творчість, свобода, доля, цивілізація) та його біографією. Показана еволюція морської тематики та міжтекстові зв’язки. Значна увага приділяється розкриттю морської символіки.
Ключові слова: море, еволюція, цивілізація, символіка.
An article is devoted to characteristics of perception and disclosure of image of the sea in the works of E. Boratynsky and to elucidation of its place in his poetry. On basis of the poetry and the correspondence the author analyzes peculiarities of this subject area in the works of E. Boratynsky, its correlation with main concepts of his poetry (a man, sense and sensibility, creative work, freedom, destiny, civilization) and poetical biography. An evolution of the sea-subject matter and intertextual connections are shown. Much attention is given to disclosure of the sea- symbolism.
Keywords: sea, evolution, civilization, symbolism.
Образ моря в творчестве поэта-романтика – тема всегда интересная и существенная. Это типичный для романтизма образ, довольно часто – с типичным наполнением и шаблонными коннотациями, но зачастую по-разному воспринятый и описанный в зависимости от особенностей творческого видения мира авторов. Тем интереснее уяснение специфики воплощения морской тематики в творчестве каждого отдельного поэта и писателя.
Проницательные суждения о роли моря в творчестве Е. Боратынского, об их взаимоотношениях встречаем у многих боратыноведов: Е. Лебедева, А. Пескова, П. Стеллиферовского и др. Однако самостоятельным объектом исследования в отношении поэта, насколько нам известно, море не выступало.
Между тем ″всю жизнь море было его [Боратынского] idee fixe. И умудренному мужу, ему случалось мерить свое самочувствие морской мальчиковой мерой: “Я ... бодр и весел, как моряк, у которого в виду пристань”″ [3, 290]. Поэт неоднократно обращался в своих стихах к морской тематике. Да и в литературоведческих работах о нем метафорика водного пространства нередка и неслучайна. Так, П. Стеллиферовский в своей книге о Боратынском пишет: “Он оказался одиноким в стремительно развивающейся жизни: словно отплыл от одного берега, но еще не пристал к другому – не нашел себе места в только складывающейся системе буржуазно-капиталистических отношений <…>” [9, 48] (здесь очевидна отсылка к “Пироскафу”).
Целью данной статьи является попытка рассмотреть собственно образ моря у Е. Боратынского и образ моря в связи с такими важными концептами поэта, как творчество, свобода и необходимость, судьба, человек в бытии, цивилизационный процесс, “золотой” и “железный” век, для углубленного уяснения их специфики. Параллельно делается попытка уяснить причины, по которым поэт так охотно обращался к образу моря, определить место морской тематики в его творчестве и на материале писем и стихотворений показать, что эволюция морской символики и семантического наполнения морских образов соотносима с духовной биографией поэта и отражает ее ключевые этапы. Раскрытие данной проблематики актуально и в отношении творчества самого Боратынского, и в контексте уяснения особенностей русского и европейского романтизма и специфики воплощения образа цивилизации в литературе.Прежде всего, интерес представляет вопрос, почему Е. Боратынского так привлекало море, которого он не видел до юношеского возраста и от которого он практически в течение всей жизни жил в отдалении. Несомненно, море – излюбленный романтический образ (столь характерный для всей поэзии Байрона образ вольной морской стихии, символизирующей свободу; в русской традиции – “Море” В.А. Жуковского, пушкинские “Кто, волны, вас остановил …”, “К морю” и т.д.). Заочная встреча маленького Боратынского с морем, думается, произошла и благодаря рассказам гувернера-итальянца. А первая очная состоялась в 1812 году, в его первый приезд в Петербург, чтобы стать воспитанником Пажеского корпуса. Конечно, и эту встречу сложно назвать полновесной: Финский залив, думается, лишь раздражал фантазию впечатлительного ребенка, уже мечтавшего об открытом море и мореплаваниях: “Нева теперь вся очистилась от льдин, сколько парусных лодок и кораблей! Но вместе с тем, маменька, без вас мне все кажется неладным” (первое письмо матери из корпуса) [4, 28; 8, 69]. Много позже он вспомнит о тяге к морю в “Пироскафе”: “С детства влекла меня сердца тревога / В область свободную влажного бога”. И еще одно событие тех лет, о котором пишет А. Песков и которое тоже найдет отражение в самом конце жизненного пути: “В 815-м на Неве появилась невиданная машина – пироскаф <…>” [8, 85].
Но даже это символическое петербургское море (выход к нему) вкупе с романтическими настроениями укрепляют Е. Боратынского в его решении и стремлении идти в морскую службу, в которой объединяются для него благородство служения с постоянным противостоянием стихии. Он считает море своей судьбой, предопределением, оно для поэта – и противоборствующая, и близкая по духу беспокойная стихия. Море, морская служба в письме к матери предстают своеобразной жизнью в миниатюре, сгущенным бытием, где так же властвуют опасность, рок или же благое провидение (“<…> знаете ли вы какоелибо место в мире, хотя бы вне области океана, где бы жизнь человека не была подвержена тысяче опасностей <…> везде малейшее дуновение может разрушить эту слабую пружину, которую мы называем жизнью <…>” [1, 129]). Уже в этом письме матери из Петербурга, датируемом 1814–началом 1816 г., как в миниатюре, заложено, запрогнозировано последующее развертывание темы моря (“Буря”, “Пироскаф”). Так, своеобразной поэтической репликой к нему является “Буря” (1824 г.), написанная уже под впечатлением непосредственной встречи Е. Боратынского с открытым морем, состоявшейся в Финляндии (Нейшлотский полк, в который был назначен поэт, охранял береговую линию Финского залива. “Боратынскому оставалось увидеть открытое море, и потому осенью поехали мы в
Роченсальм. Погода была ветреная, и когда мы взобрались на прибрежные скалы, море играло во всей красоте своей. Прекрасно, воскликнул поэт и умолк. Я оставил его, удаляясь в сторону. Он сел при подошве огромной башни маяка и долго любовался на торжественное явление” – вспоминает М.Н. Коншин [2, 341]). Одни комментаторы предполагают, что в стихотворении “Буря” отразились впечатления от морских бурь в Финском заливе во время знаменитого ноябрьского наводнения 1824 года, другие, ссылаясь на мнение Н.В. Путяты, более определенно говорят о впечатлениях во время того же наводнения в Петербурге. Прозаико-поэтические параллели почти десятилетней “выдержки” удивляют:
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
Как зов к давно желанной брани,
Меж тем от прихоти судьбины <…>
Ждать не хочу своей кончины [2, 12].
Когда волнам твоим я вверюсь, океан? [2, 12].
Меж тем от медленной отравы бытия,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев [2, 12].
Ср.: “Я бы даже предпочел в полном смысле несчастие – невозмутимому покою <…> я чувствую, что мне всегда нужно что-либо опасное, чтобы меня занимало, – иначе я скучаю” и т.п. [1, 130].
Ср.: “Что бы вы ни говорили, милая маменька, есть вещи, от нас зависящие; другими же управляет провидение”[1, 129].
Ср.: “Я умоляю вас, милая маменька, не противиться моей наклонности” [1, 130].
В покое раболепном я
Ждать не хочу своей кончины [2, 12].
Ср.: “Я не могу служить в гвардии: ее слишком берегут. Во время войны она ничего не делает и остается в постыдном бездействии. И вы назовете это жизнью? Нет, беспрерывный покой не может назваться жизнью. Верьте мне, милая маменька, можно привыкнуть ко всему, кроме бездействия и скуки. Я бы даже предпочел в полном смысле несчастие – невозмутимому покою” [1, 130].
Итак, ″детская романтика сменилась литературным романтизмом, втягивавшим его как поэта в сферу своих “действенных”, “сильных” тем. И тут, как и раньше, в Баратынском боролись два начала – индивидуалистическое пассивномечтательное восприятие мира и жажда активной жизни и борьбы <…>″ [6, 56].
Традиционно для романтизма, море предстает здесь стихией – живой (на это работают олицетворения), бурной (воет, клокочет, ревет, бьет, гневно пенится, возмущает чин природы) властной, неприязненной человеку. Стихией неизвестного, не-земного происхождения, подвластной неким темным силам: имя того, кому “имен легион” (в стихотворении – “злобный дух”, “геенны властелин”), не названо, но оно однозначно подразумевается; названы и его атрибуты: огромные крыла, неприязненная сила, бунтующее могущество, своеволие, гнев, горе, немощь, страданье, разрушение. Но мы ретроспективно вспоминаем, что “страданье нужно нам; / Не испытав его, нельзя понять и счастья” (1820). Тем самым образ стихии и ее властелина диалектичен. В лучших традициях романтизма Сатана, как и море, не предстает отрицательным героем (вспомним Мильтона, в “Потерянном рае” открывшего эту традицию) – в силу своего бунтарства.
Образы моря и Дьявола в стихотворении соприкасаются. Как Дьявол “небо заслонил огромными крылами” и испокон веков бунтует и вызывает трепет у Земли, так и море “черно”; находясь на краю небес, оно и “до неба восстает”, и на землю наступает “горами влажными”. “Дьявольская” подоплека и символика здесь несомненны.
Но так же соприкасаются и образы моря и лирического героя, подчиненного тем же бедам и страстям. То есть море и человек выступают как подчиненные и соподчиненные. То самое властное море оказывается здесь только средством в руках врага рода человеческого.
Испытанный судьбой, герой чувствует свою соприродность водной стихии:
Как жаждал радостей младых
Я на заре младого века,
Так ныне, океан, я жажду бурь твоих! [2, 12].
Герой и море близки еще и потому, что стихийность океана противостоит тому, что ненавистно романтику: рационализму (ср.: “в берег бьет волной безумной”(курсив мой – М. А.) (“Осень”, 1836–1837), покою и несвободе, в том числе и несвободе от судьбы. “На яростных волнах, в борьбе со гневом их / Она [кончина – М. А.] отраднее гордыне человека!” у Боратынского предвосхищает тютчевские строки “Кто ратуя пал, побежденный лишь роком, / Тот вырвал из рук их [богов – М. А.] победный венец” (“Два голоса”, 1850).
И исход битвы неизвестен: ведь силы равны:
И на творенье ополчил
Все силы, данные творенью? [2, 11].
Таким образом, отношения человека и моря (вследствие того, что стихотворение у Е. Боратынского – это всегда размышление, поступательное движение мысли, а не констатация) остаются непроясненными; что заключено, скажем, в строчке “Когда волнам твоим я вверюсь, океан?” – доверие или борьба? В любом случае, однозначна мечта поэта оказаться в близкой по духу стихии. Ибо образ моря у Е. Боратынского всегда как минимум двупланов и метафоричен. В цитированном выше письме юный поэт так говорит об этом: “Я слишком много люблю свист разъяренных ветров, дующих со всех сторон – около нас, близ нас, скажу даже в глубине моего сердца <…>” [8, 83]. И действительно, цензура тоже почувствовала двойное дно стихотворения. ″При прохождении первой публикации через цензуру возникли затруднения. 29 марта 1825 г. Боратынский писал Н.В. Путяте: “<…> буре шуметь не позволено”″ [2, 577–578].
Последующие стихи с морской тематикой тоже неоднозначны. По-прежнему выступает море древней, свободной и самовольной стихией:
Человеку непокорно
Море синее одно,
И свободно, и просторно <…>
И лица не изменило <…>
(“Последний поэт”, 1835 [2, 275–276]),
но при этом оно в определенной мере используется человеком (“Носит понт торговли груз”)и, в пику наполнению рассмотренного стихотворения 1824 года, становится “приветливым”! Но это объяснимо: в том железном веке, когда “не слышны лиры звуки” и земное поглощает человека, не давая приюта, единственно морская стихия неизменно хранит реликты спасения. Именно морская стихия ассоциируется и художественно соотносится у поэта со стихийностью искусства (отсюда и упоминания об Аполлоне и Сафо), с эстетическим началом (“из пучины вод морских” некогда возникла Афродита), с божественным, с древним. Стихийность моря именно потому пробуждает в душе каждого человека (не только “последнего поэта”) смуту и тоску, что напоминает о некогда утраченном “золотом веке” – мотив, распространенный в XIX веке и в творчестве самого Е. Боратынского (“Последняя смерть”, “Приметы”). Боль по утраченному, элегические переживания по прошлому – это знак творчества поэта. Тем удивительнее образ цивилизации, который возникает в последнем “морском” и вообще одном из последних его стихотворений – “Пироскафе”. Настроение “Пироскафа” – это мажорность, устремленность в будущее, многократно отмеченные исследователями. Понятно, что этот внутренний переворот не был одномоментным. Тем не менее, одним из ключевых факторов в перерождении поэта стало именно море. Причем море южное, итальянское. ″Морское путешествие <…> приободрило Е. Баратынского. Для него, с детства тянувшегося к полной опасностей и величия морской службе, <…> этот трехдневный переезд до Неаполя стал воистину переломным. В последние годы и особенно месяцы в душе поэта вызревали мощные ростки какой-то новой жизни, какого-то иного мироощущения. Изредка они пробивались в задушевных разговорах, в письмах. Но сейчас, на корабле, ночью, они вспыхнули творческим озарением и напитали строки светлого, как обретенная мечта, радостного, как свершившаяся надежда, стихотворения “Пироскаф”″ [9, 202].
Как детские светлые заочные мечты о море сменяются в юношеские годы грозными и бурными образами с опорой на личные впечатления от моря севера, так теперь “средиземные волны”, прибрежный ландшафт оживляют душу поэта, хотя и утверждал он в “Буре” – и вновь через морскую тематику! – что “вновь не смогу душой моею / В краю цветущем расцвести”. Познав страданье, холод, север, в конце жизни он познает и счастье – видит другое море, которое вселяет надежду на обновление, перемены к лучшему.
“Пироскаф”, содержа отсылки к прошлому и настоящему, весь устремлен в грядущее. На костяке морской тематики рождается “второй, духовный пласт” [5, 261]: ″Уже самое начало стихотворения напоминает о “грозном, диком реве” океана (“Буря”, 1824), о “голосе волн”, о “шумных водах” “вала морского” (“Последний поэт”, 1835), об океане, который “в берег бьет волной безумной” (“Осень”, 1836–1837), то есть о стихотворениях, отразивших основные моменты духовной биографии лирического героя в его отношениях к “людскому племени”, “земным детям Прометея” <…>. Вместе с тем важно отметить радикальную перемену в поведении “свободной стихии” в “Пироскафе”: будучи по-прежнему “буйственной” в основе своей, она теперь миролюбива по отношению к лирическому герою – волны “дикою, грозною ласкою полны”, “пенясь, глубоко вздохнул океан”″. Это удивительно интересная параллель, позволяющая проследить не только одномоментное настроение лирического героя, но и продолжительную эволюцию романтическо-элегической музы автора: в “Буре” мы читали о “грозном, диком реве”, здесь – о “дикой, грозной ласке” волн. Дублируя морской образ и лексемы теперь уже двадцатилетней давности, автор экономнее и мощнее выражает метаморфозу поэтической и личностной эмоции, а также также метаморфозу философской мысли касательно цивилизационного процесса.
Главные образы стихотворения – море, чайка, лодка, пироскаф, якорь, капитан. И каждый из них символичен:
чайка – “дочь бога ветров”, воплощение природной стихии; ″неприкаянная, обреченная на бесконечные метания Гальциона, неотделимая, несмотря на ее крылья, от этого берега <…> это зримое воплощение “безумной души” поэта, которая “металась и кипела, развитием спеша”″ [5, 262]; одновременно это символ промежуточного положения человека в бытии; лодка – также символ промежуточности, слабости человека и одновременно символ прошлого; пироскаф – воплощение будущего, крепнущей уверенности человека в своих силах, символ цивилизации; якорь, закрепленный на пироскафе, – “надежды символ”; капитан – с детства лелеемый образ человека, связанного со стихией.
Между главными образами-символами (чайкой, лодкой и пироскафом) устанавливается отчетливая связь. Лодка именуется “океана жилицей <…> вод его птицей”. И это при том, что лодка – создание рук человеческих, она “рыбачья”. Лодка и чайка – представители разных миров – природного и человеческого, предметного, вещественного – поставлены рядом: и в поэтическом тексте, и в поэтическом мире, и в иерархии бытия. Они одинаково прекрасны (при этом лодке – человеческому созданию – уделено в поэтическом тексте гораздо больше места).
Можно воспринять чайку, лодку и пироскаф как символическое воплощение эволюционного, поступательного движения истории (ведь пироскаф, первоначальное название парохода [от греч. pyr – огонь и skaphos – судно, лодка], по сути – та же лодка, но в которой на службу человеку поставлена еще одна стихия, причем противоположная воде, – огонь). Рассмотрев каждое в отдельности, Е. Боратынский увидел их вместе, примиренными.
Однако здесь, как обыкновенно у Е. Боратынского с его страстью к диалектике, есть и оборотная сторона: если пироскаф – только лодка, то победа над природой все равно не представляется возможной, и ласка океана все равно “дикая и грозная”, а волны по-прежнему бьют о борта.
Так же диалектичен и образ человека в море. Определения лирического героя очень схожи с определениями стихии: смятенный, мятежный, жаждущий (свободы и борьбы), с сердца тревогой, с “темной страстью”. Потому и “отзывной” предстает стихия, потому и награждает человека, что они, по сути своей, близки.
Человек в море – вообще сильный символ. Отделенный от толщи моря и неба лишь толщей судна, он занимает промежуточное положение, как занимает его и в бытии (вспомним “Недоноска”). Символизируют эту “промежуточность” чайка, которая тоже реет “меж вод и небес”, и рыбачья лодка. Но, между тем, очень значимый образ капитана – это образ человека, господствующего над волнами: “Над кормою встал капитан”. Предлог здесь сигнализирует о превосходстве, власти человека над волнами. Нельзя не вспомнить здесь юношеское письмо к матери: “Представьте себе, милая маменька, грозную бурю и меня, стоящего на палубе, как бы повелевающего разъяренному морю, доску между мною и смертью, морских чудовищ, дивящихся чудесному орудию, – произведению человеческого гения, повелевающего стихиями” [1, 130].
Стихия – “бурная”, “дикая”, “грозная”, но и машина – “могучая”, и если лодка находится с морем в “томительном споре”, то пироскаф и стихия (ветер, океан) выступают как напарники, что подчеркивается и фонетически:
Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался недаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!
″“Братствуя с паром” – вот ответ на все вопросы и начало новых вопросов. Он [Боратынский – М. А.], писавший о том, что никогда поэзия и наука не соединятся, никогда не поймут друг друга, – теперь пишет о братстве “паруса” и “пара”″ [5, 261]. Человек ставит природу на службу себе, на службу своей мечте. Здесь – так искомый Е. Боратынским синтез.
Тем не менее, от понятия судьбы, которое так крепко укоренено в сознании поэта и с ранних лет тесно связано с образом морской стихии, Боратынский не уходит. Просто судьба, рок сменяются для него понятиями фортуны, удачи.
“Наше трехдневное мореплавание останется мне одним из моих приятнейших воспоминаний <…>. Вдосуге здоровья я не сходил с палубы, глядел днем и ночью на волны. Не было бури, но как это называли наши французские матросы: trеs gros temps <крепкая погода>, следственно, живость без опасности <…>. На море страх чего-то грозного, хотя не вседневного, взаимные страдания или их присутствие на минуту связывают людей, как будто бы не было не только московского, но и парижского света. На корабле, ночью, я написал несколько стихов” – писал Е. Боратынский друзьям из Неаполя [1, 320–321]. Это было еще одно сбывшееся детское желание, потому вполне понятно, что в письме очевидно оглядка на детство и юношескую пору, мечты о буре. В традиции русской и мировой литературы – символизировать душевное состояние человека через параллели с морем, его состояниями, шире – с миром природы в целом. В случае с Е. Боратынским это связь обоюдная: море предстает перед ним иным, нежели в юношеских романтических грезах, но и он теперь, уже зрелый, видит море другим, успокоенным, а морской термин “живость без опасности” вскрывает его умонастроение периода путешествия: он вновь оживает душой. “С брегом набрежное скрылось, ушло!” – вода приносит очищение, а путешествие морем в определенных смыслах предстает как переезд через Лету.
В стихах и письмах Е. Боратынского находим и отголоски жизни прибрежных городов: северных – Роченсальма (Котки), Фридрихсгама, южных – Марселя, Неаполя. О последнем – особенно много упоминаний. Он очень солнечный, колоритный, многоцветный: смелая смесь зеленого (“зелень узорная, неувядаемая”, “ярко зеленый, резко отделяющийся лист здешних деревьев”, “свежая зелень итальянского сена”); красного (“красная шапка” неаполитанца, “малиновые цветы”, “пары пурпуровые”, причем звуковые повторы усиливают эффект); лазоревого (“яркая пелена лазоревых валов”, “лазоревая урна”); желтого, золотистого, даже солнечного (“янтарный виноград, лимон её златой <…>”), с живительным морским воздухом [1, 321]. Жизнь неаполитанцев и семьи Боратынских “в Villa Reale, над заливом” монотонна, но не скучна, а блаженна: “Веселый нрав неаполитанцев, их необыкновенная живость, беспрестанные катанья, процессии, приходские праздники с феерверками, все это так ярмарочно, так безусловно весело, что нельзя не увлечься, не отдаться детски преглупому и пресчастливому рассеянию. Мне эта жизнь отменно по сердцу: гуляем, купаемся, потеем и ни о чем не думаем, по крайней мере, не останавливаемся долго на одной мысли: это не в здешнем климате” [1, 322–323]. Однако именно в Неаполе, на берегу так любимого поэтом моря, завершился его жизненный путь.
Итак, море занимает в творчестве Е. Боратынского значительное место.
Морские образы у него (буря, якорь, лодка, пироскаф, птица, капитан) всегда становятся символами, несут в себе “подтекстуальность”. Причем зачастую в одном образе заключены сразу несколько смыслов. Так, сам концепт “море” полисемантичен: это воплощение стихийности – личности, поэзии, природы, бытия; свободы; судьбы; мощи; очищения. Интересен процесс самоинициации, самоидентификации своего внутреннего мира и жизненного пути именно с морем, его состояниями, нашедший воплощение в подводящем жизненные итоги стихотворении “Пироскаф”, как и в более ранних произведениях.
Образ моря воплотил все основные этапы духовной биографии и творческой эволюции Е. Боратынского: детские светлые заочные мечты о море; юношеские тревожные годы (“были бури, непогоды <…>”), попавшие на время службы в Финляндии и совпавшие с расцветом романтизма; зрелые размышления о поэзии, о месте человека в бытии сквозь призму морской образности (человек и стихия: спорщики или союзники?); духовное воскрешение во время заграничного путешествия. Таковы разнообразные ипостаси моря в поэзии Е. Боратынского.
Думается, что полисимволичность образа моря как такового и в творчестве русского поэта служит достаточным основанием для дальнейшего обращения исследователей к данной теме.
Литература
1. Баратынский Е. А. Стихотворения, письма, воспоминания современников / Е. А. Баратынский. – М. : Правда, 1987. – 480 с.
2. Баратынский Е. А. Стихотворения, поэмы / Е. А. Баратынский. – М. : Наука, 1982. – 702 с. ; илл.
3. Гандлевский С. М. Придаточное биографии (о Боратынском) : опыты в прозе / С. М. Гандлевский. – М. : Захаров, 2007. – 352 с.
4. Гофман М. Л. Е. А. Боратынский (биографический очерк) / Е. А. Боратынский / Бaратынский Е. А. Полное собрание сочинений : в 2 т. / [под ред. и с примеч. М. Л. Гофмана]. – СПб. : Изд. Разряда изящной словесности Имп. акад. наук, 1914–1915.
5. Лебедев Е. Н. Тризна : книга о Е. А. Боратынском / Е. Н. Лебедев. – СПб. ; М. : Летний сад, 2000. – 288 с.
6. Медведева И. Н. Ранний Баратынский / И. Н. Медведева // Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений : в 2 т. – Л. : Сов. писатель, 1936.
7. Песков А. Н. Боратынский : истинная повесть / А. Н. Песков. – М. : Книга, 1990. – 384 с. : ил. – (Писатели о писателях).
8. Песков А. Н. Жизнь и творчество Е. А. Боратынского : научн. биография : дисс. … д. филол. наук / А. Н. Песков. – М., 1996. – 346 с. : прил. – (С. 437–874 : прил.).
9. Стеллиферовский П. А. Евгений Абрамович Баратынский / П. А. Стеллиферовский. – М. : Просвещение, 1988. – 208 с. : ил. – (Биогр. писателя).