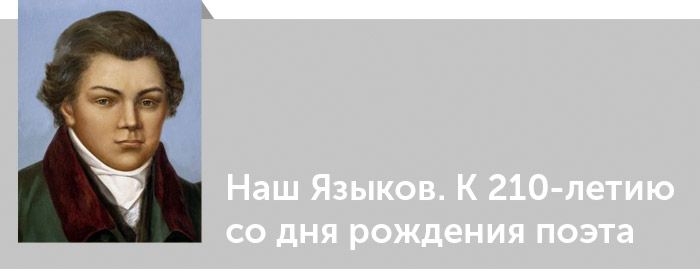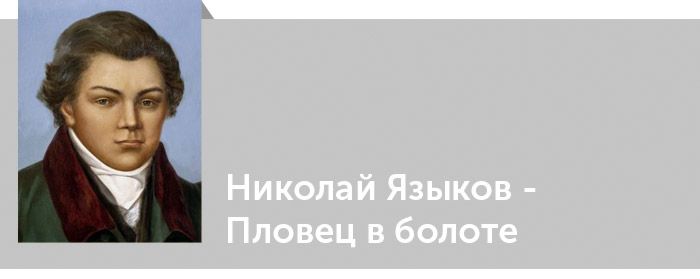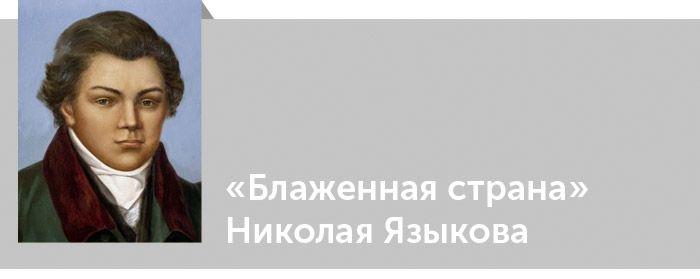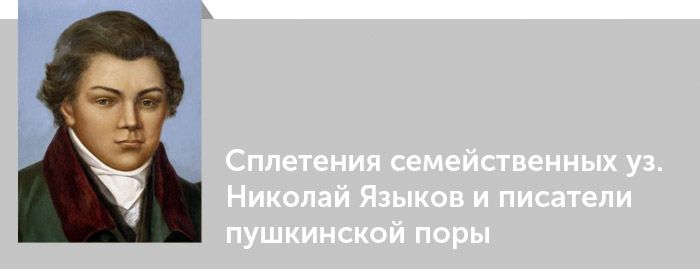Из наблюдений над стихом Н. Языкова

Е.И. Хан
В стихотворении «Мой Апокалипсис» он цитирует свои собственные, написанные за несколько месяцев до этого, строки и придирчиво их комментирует, относясь к ним как к «пустякам»:
Вот вам отрывок для примера,
Как заблуждался мой Пегас:
«Любовь, любовь, я помню живо
Счастливый день, как в первый раз
Ты сильным пламенем зажглась!
В моей груди самолюбивой!
Тогда все чувства бытия
В одно прекрасное сливались;
Они светлели, возвышались,
И гордо радовался я!
Как это вяло, даже темно,
Слова, противные уму,
Язык поэзии наемной
И жар, не годный ни к чему!
Как принужденны и негладки
Четыре первые стиха!
Как их чувствительность плоха,
Как выражения не кратки!
Конец опять не без греха:
В одно прекрасное сливались –
Они светлели, возвышались.
Какая мысль! и что оно
Тут неуместное «одно»?
И как они сюда попались?
Тогда все чувства бытия –
Какие, спрашиваю, чувства?
Тут явная галиматья
И без малейшего искусства!
И гордо радовался я –
К чему, зачем такая радость,
И что она, и где она,
В уме иль в сердце?...
Прав или не прав поэт в столь категорически суровой самооценке? И да и нет. С ним нельзя не согласиться, но нельзя и не поспорить. Он корит себя за некраткость выражений, но по сравнению с растянутым комментарием выделенные курсивом стихи кажутся вполне лаконичными. Сетует: то плохо, это негладко – но почему?
Упреки никак не обоснованы, а между тем стихи как раз «гладки». Поэт считает неуместным слово одно в обороте сливаться в одно, однако этот оборот с лингвистической точки зрения правомерен. Правда, потом следует слово они, и Языкову это не нравится. По-видимому, он рассудил, что, если чувства слились в одно, то они уже алогизм. Но и это неверно. Части одного целого, даже будучи нераздельно слитыми воедино, могут все же восприниматься как компоненты этого целого: компоненты (форма множественного числа) – значит, они. Никакого алогизма.
Выражение «все чувства бытия» раскритиковано за то, что непонятно, какие имелись в виду чувства. Но поэт не обязан в таких случаях называть все своими именами, ставить все точки над и утомительно перечислять «чувства»: радость, любовь, восторг, умиление, вдохновение ... А словом радовался Языков недоволен потому, что неясно, в уме или в сердце обитает эта радость. Еще одна педантичная придирка. Можно также педантично возразить: если радость овладела всем существом человека, то ее локализация – в уме она или в сердце – теряет смысл.
И все же в главном Языков прав. «Как это вяло, даже темно», – сокрушается поэт, предвосхищая пушкинское замечание по поводу элегии Ленского: «Так он писал темно и вяло» (6-я глава «Онегина» написана годом позже языковского «Апокалипсиса»).
Существует в поэзии некий средний уровень: ни хорошо, ни худо (а стало быть, все-таки «худо»), – которому присущи заученность, стереотипность стилистических фигур, потерявших свою изначальную выразительность, стертые эмоции, невыстраданные чувства.
Поэты пушкинской эпохи писали такие – проходные, средние – стихи. Общий уровень культуры стиха, будучи достаточно высоким, позволял третьестепенным версификаторам избегать заметных оплошностей в грамотно – «красиво» – стандартных элегиях и посланиях, романсах и мадригалах. Языков, почувствовав в себе «причастность» к этому среднему уровню, столь беспощадно себя высмеял, хотя и не смог по-настоящему убедительно развенчать свои стихи (поскольку искал стилистические несообразности там, где их нет).
Удалось ли ему преодолеть ту компромиссность и стандартность поэтического стиля, которая была ему, как мы убедились, не по душе? Во всяком случае он к этому стремился и многого достиг. Но и после «Апокалипсиса» он нередко писал стихи средние:
Не в первый раз мой добрый гений
Кидает суетную лень,
Словами дара песнопений
Спеша приветствовать ваш день;
Не в первый раз восторгом блещет
Сей дар, покорствующий вам,
И сердце сладостно трепещет.
Здесь скорее не индивидуальный стиль поэта, а общий стиль эпохи, которую мы условно называем пушкинской. Потому что нет ни языковского «захлеба», особой ускоренности стихового темпа, считающейся личным завоеванием поэта, ни дерзких «студентских» выходок и проказ, по которым современники узнавали Языкова, – ровным счетом ничего индивидуального.
Итак, первое, что мы можем сказать о стилистической палитре Языкова: в ней есть краски, сливающие его поэзию с общим литературным фоном эпохи. Если бы не было – кроме них – других красок, то стихи его едва ли дожили бы до наших дней. И он сам понимал, что желательно писать ярче.
Между тем, некоторые характерные черты творческого облика Языкова определились довольно рано – еще до того, как он комически ужаснулся безликости своих стихов. Нет, безликим он не был уже в первую половину 20-х годов, когда заявил о себе как поэт-студент, чей девиз – «свобода, песни и вино».
Человек бурного темперамента, он воспел радости жизни, веселое молодое озорство, наглядно воссоздал атмосферу университетского города Дерпта, проявил в своих стихах много лихости и удали, а подчас и «возмутительной» политической дерзости.
Выявились приметы, по которым было легко узнать Языкова, отличить его от множества других поэтов. Не вообще поэт, а поэт-студент; не вообще поэт-студент, а именно дерптский (с московским или петербургским такого не спутаешь); вкусы и склонности – определенные.
Стиль вольномыслия и свободолюбия, к которому пришел Языков, сближал его творчество с поэзией декабристов. Здесь, впрочем, необходима оговорка: свободолюбие поэтов-декабристов носило в основном суровый и аскетичный характер, в конечном итоге – трагедийный (борьба, гибель, жертвы во имя завоевания свободы). Языкову же подобные мотивы в целом чужды.
Раскованность языковского стиха, столь органично соответствующая духу его веселого вольнолюбия, снискала восторженное признание читателей. Такие четырехстопные ямбические строки застольных песен, как «великолепными рядами» или «неиссякаемый стакан», производят впечатление стремительно летящих: скорость их увеличивается за счет того, что пропущены метрические ударения, обуздывающие стих, на первой и на третьей стопах.
Склонность к таким ритмическим фигурам Языков сохранил на всю жизнь.
Голубоокая, младая!
Искрокипучее вино...
Чтобы добиться такого эффекта, удобно использовать многосложные, длинные слова, в частности сложные прилагательные и существительные. Таковых у Языкова много, и на этом основании его иногда сравнивали с Гнедичем, в гомеровских гекзаметрах которого сложные слова занимают значительное место. Это демонстрирует не близость, а напротив, несходство двух стилей – «захлебывающегося» языковского и торжественно-величавого тона русской «Илиады». Сложные слова нисколько не облегчают тяжелого гекзаметра, не способствуют пропуску метрического ударения, становясь двухударными, когда это необходимо:
Тучегонитель! Какие ты речи, жестокий, вещаешь?
(Из первой песни «Илиады» в переводе Гнедича).
Если же «выкроить» из этих длинных строк гекзаметра четырехстопные «языковские» ямбы, то они зазвучат совсем в ином ключе, и сложные слова окажутся одноударными:
Сладкоречивый, громкогласный!
Тучегонитель ты жестокий!
Ибо не может слово сладкоречивый принять добавочное ударение на первый слог, если оно попало в ямбическую строку, где первый слог неодносложного слова должен быть безударным.
Мы начали наши наблюдения над языковским стилем с того, что у него много общего с поэтами пушкинской эпохи. Теперь, наоборот, приходится настаивать на уникальности Языкова и его стиля: свободолюбие, но не декабристского, а именно языковского толка; сложные эпитеты, но звучат не как у Гнедича, признанного мастера сложных эпитетов, а по-языковски.
Выразительные поэтические средства, которыми пользуется поэт в своих стихах, необычайно разнообразны. Яркие сравнения, красочные эпитеты, смелые метафоры, выразительное словотворчество выдвигают Языкова в ряд наиболее самобытных и оригинальных русских поэтов. В борьбе за самобытность своей поэзии Языков искал пути сближения поэтического языка с разговорной речью и с национальной русской языковой основой. Его сложные слова-определения придают особый колорит всей его поэзии: «сновиденье», «песнопенье», «благовидный», «огнецветный», «быстрокрылый», «многоцелебный», «прохладно-сладостный», «чудесно-животворный», «безоблачно-прекрасный», «лазурно-светлый» и т.п.
Поражает в поэзии Языкова необычное сочетание эпитетов с определяемым словом: «разобманутые надежды», «блудящие огни» (любви). Многообразны эпитеты, которыми он наделяет такие понятия, как «радость», «младость», «мечты»: «пленительная радость», «встречающая радость», «возвышенная мечта», «пылкая мечта», «разгоряченная мечта», «пустая мечта», «бестелесная мечта» и т.д.
Яркой выразительности стихов Языкова способствуют многочисленные сравнения, которые позволяют живее чувствовать написанное. Так, очи сравниваются с сапфирами, кудри с золотистым шелком, зубы – перлы, грудь – лебединая. Сила любви сравнивается с искрой Зевсова огня. Любимая сравнивается с солнцем – «мое светило». Образное сравнение:
Печаль от сердца отошла
И с ней любовь: так пар дыханья
Слетает с чистого стекла!.
Языков широко пользуется яркими, красочными, точными эпитетами, придающими стихам особенную эмоциональность. Например, в элегии «Опять угрюмая, осенняя погода» несколько таких «нарядных», броских эпитетов: красавица – «звезда с лазурно-светлыми... очами, с улыбкой сладостной, с лилейными плечами». В другой элегии покрытые снегами горы – это «громады снеговершинные», «задремавшие небеса»; эпитет-метафора «задремавшие» по отношению к «небесам» создает образ сумерек с чуть потемневшим небом; эпитет-метафора «смеющиеся долины» создает в воображении картину солнечной, праздничной, нарядной природы.
Л-ра: Филологические науки. – 2002. – № 2. – С. 29-37.