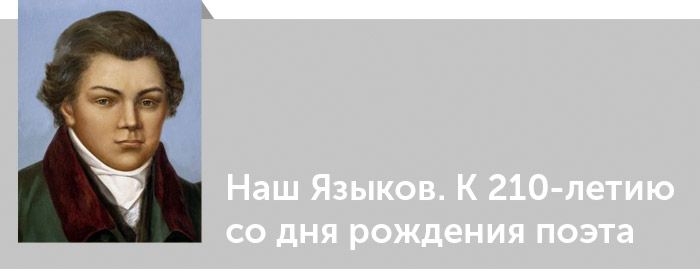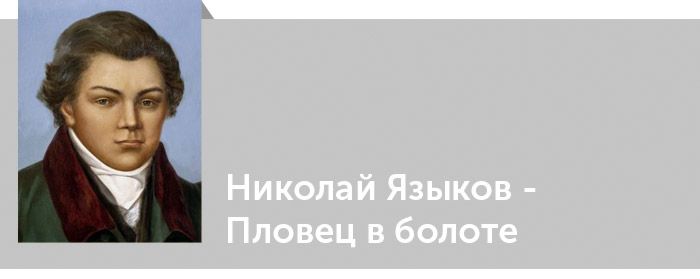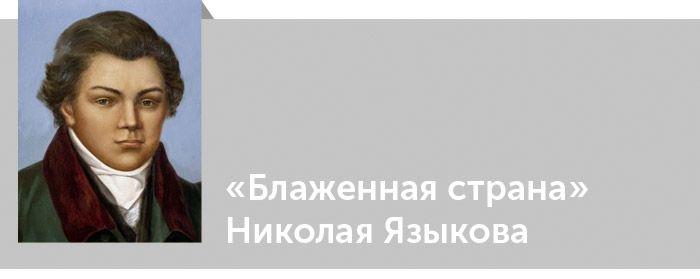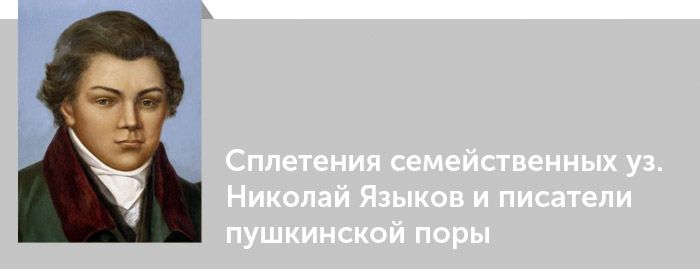Вступительная статья к книге «Н. М. Языков. Стихотворения и поэмы»

Бухмейер К
Мы читаем Языкова мало. Пожалуй, меньше, чем других поэтов пушкинского созвездия, к которому он принадлежит.
Между тем любитель поэзии, открывая в наши дни Языкова, чувствует резкое своеобразие и свежесть его стихов, заметные и на фоне таких крупных поэтических индивидуальностей, как Денис Давыдов или Боратынский, и даже рядом с Пушкиным.
Современники рано оценили силу и оригинальность его дарования. Дельвиг в сонете предрекал ему славу (1822); Пушкин, прочитав «Тригорское», утверждал, что «он всех нас, стариков, за пояс заткнет»; журналисты и альманашники наперебой заманивали его в свои издания.
Но уже к концу 1820-х годов отношение к Языкову становится куда более сдержанным, а в 1830-1840-е годы появляются статьи, в которых он рассматривается как поэт, не оправдавший надежд, а главное, не имевший средств это сделать.
Приговор этот был несправедливым, хотя и не абсолютно беспочвенным.
Языкова продолжали ценить и поддерживать Пушкин, Давыдов, Боратынский; его блестяще защищает печатно И. Киреевский, потом Гоголь. Да и Белинский, несмотря на суровость своих суждений, признает, что имя Языкова «навсегда принадлежит русской литературе». Однако неблагополучие творческой судьбы поэта ощущалось и Киреевским, и Гоголем. Сознавал его и сам поэт.
В чем же дело? Какие обстоятельства сыграли столь неблагоприятную для него роль?
Изменение общественно-политической обстановки после 14 декабря 1825 года, отсутствие зрелых убеждений у поэта? Наступление нового, гоголевского, периода в русской литературе? Болезнь Языкова?
Да, несомненно. Но ведь и Дельвиг, и Боратынский, и Денис Давыдов жили и творили в тех же условиях. Тем не менее мы не говорим об их «драме», в том смысле как о языковской. Они в нашем представлении создали все, что могли по своему таланту. Языков - менее, чем мог и обещал. Было, вероятно, в самом характере его дарования, в особенностях личности и личной судьбы нечто, помешавшее его полной творческой реализации.
Определить, что это, попытался в 1847 году П. А. Вяземский (статья «Языков и Гоголь»), который первым заметил реально существующую связь между характером лиризма Языкова, с одной стороны, и своеобразием его жизненного пути, а также психического склада - с другой.
Николай Михайлович Языков родился в Симбирске 4 марта 1803 года (умер 26 декабря 1846 года). 2 Отец поэта, М. П. Языков, богатый помещик, «игрок и знаменитый хозяин», оставил детям большое состояние, позволившее им вести впоследствии независимый образ жизни.
Одиннадцати лет Языков был привезен в Петербург и по примеру двух старших братьев отдан в Горный кадетский корпус. Оттуда, не кончив курса, он в 1819 году перешел в Институт корпуса инженеров путей сообщения, но через год был исключен за «нехождение в классы». К этому времени отца поэта уже не было в живых, и опекать Языкова начинают братья. Было решено, что продолжать образование Языкову следует в университете, так как математика ему явно не давалась, а литературные наклонности и способности его определились.
Писать стихи Языков начал еще дома, но серьезно - только в Горном корпусе, где их сочиняли многие, а иные даже печатали (А. И. Кулибин, Ф. И. Бальдауф).
Особую роль в становлении Языкова-поэта, выработке его литературных вкусов, сыграл преподаватель русского языка в корпусе А. Д- Марков. Он поощрял поэтические занятия Языкова, а главное, привил ему интерес и любовь к поэзии XVIII века.
Печататься Языков начал в 1819 году, вероятно при посредничестве знакомого литератора А. Н. Очкина, сотрудничавшего в ту пору в «Соревнователе просвещения и благотворения», «Благонамеренном» и других журналах. По-видимому, именно Очкин передал в «Соревнователь» (1819, № 4) послание к А. И. Кулибину («Не часто ли поверхность моря...»), через Очкина завязались и первые литературные знакомства поэта (с А. Е. Измайловым, А. Ф. Воейковым и др.). На литературных вечерах Воейкова Языков в 1822 году познакомился с Дельвигом.
Чрезвычайно важной в жизни Языкова, в формировании его характера была дружба с братьями, всегда понимавшими и поддерживавшими его. Особенно - тесная близость с Александром Михайловичем. Оба брата поэта были людьми незаурядными, прекрасно образованными и мыслящими, но не использовавшими до конца своих возможностей. Родственник Языковых и их приятель Д. Н. Свербеев был склонен объяснять судьбы братьев их «дикостью» (то есть застенчивостью), а также «языковской ленью и апатией». Описыаая их жизнь в Петербурге в 1823 году, он рисует «обширную комнату», в которой на трех диванах «проживали», а вернее сказать, «пролеживали свои дни» все три брата. ' Но дело было не только в этом. Порядочному человеку надо было обладать большим талантом, энергией, твердостью убеждений и ясностью цели, чтобы найти себе настоящее поприще в аракчеевской России, и тем более в николаевскую эпоху.
После реакционного «разгрома» Петербургского университета в 1821 году, когда за «обдуманную систему неверия» из него были уволены лучшие профессора, Языков решает поступать в Дерптский, сохранявший еще некоторые вольности и привилегии европейских университетов.
5 ноября 1822 года Языков приезжает в Дерпт (Тарту). Начинается семилетний период его жизни, необычайно плодотворный в творческом отношении. К этому времени путь его выбран окончательно. Последний год в Петербурге он чувствует себя уже поэтом. Издатели журналов и альманахов проявляют прямую заинтересованность, в его стихах.
Существует мнение, что переезд в Дерпт, оторвав Языкова от столичной среды, позволил ему развиваться неподражательно «определил тем самым его поэтическую оригинальность. С этим нельзя полностью согласиться.
Начать с того, что самый отрыв от этой среды был весьма относительным. Непосредственное общение Языкова с литераторами, конечно, сузилось, но он оставался в курсе всего, что происходило в литературной жизни Петербурга. А. М. Языков, А. Н. Очкин и другие корреспонденты сообщали поэту о всех литературных новостях. Ему доставляли в рукописи новые сочинения, сообщали отзывы о его собственных. Языков имел возможность пользоваться всеми русскими журналами и альманахами, которые выписывал В. М. Перевощиков - преподаватель русской словесности в университете, да и сам он получал их от издателей, заинтересованных в его сотрудничестве. Жил он у К. Ф. фон дер Борга, известного переводчика русских поэтов на немецкий язык, и помогал ему в отборе стихотворений.
В Дерпте Языков познакомился с Жуковским, гостившим у своей племянницы, Марии Андреевны Протасовой (по мужу Мойер), а позднее с ее сестрой, Александрой Андреевной (женой А. Ф. Воейкова), которая сыграла большую роль в его поэтическом развитии. Наконец, постоянно приезжая в Петербург на каникулы, Языков расширял круг своих литературных знакомств.
Скорее следует говорить о благотворной смене общественного климата, и это главное, что определило значение Дерпта в творчестве Языкова. Дерпт в ту пору был своеобразной русской заграницей, и, по сравнению с чиновничьим Петербургом, в нем дышалось значительно легче.
Русские студенты, как и Языков приехавшие сюда в поисках места, где «царь и глупость - две чумы - еще не портят просвещенья», обостренно переживали свою неподнадзорность. В этой среде «странный жар невольной вольности» дерптских студентов (эпатаж обывателей, дуэли буршей, корпоративные пирушки), как правило, принимал окраску политической оппозиционности, свойственной в эти годы довольно широким кругам русского образованного дворянства.
Здесь, в «ливонских Афинах», в городе, который обладал к тому же романтическим прошлым, Языков обрел и почву, питавшую его вдохновение, и место, где «гений» «не привязан к самодержавному столбу», и благодарную аудиторию.
Н. Языков уехал из Дерпта свободно-бездипломным, но за годы, проведенные там, он значительно пополнил свое образование. С особенным увлечением он занимался русской и мировой историей, литературой, эстетикой; овладел немецким языком, изучал латынь и древнегреческий; слушал лекции по политической экономии, государственному праву и даже физике, но самое главное - прочел массу книг по-русски и по-немецки. В эти годы он увлекался Байроном, Шиллером, Кальдероном, Кернером, Тиком; из русских писателей - Карамзиным, Крыловым, Грибоедовым, внимательно следил за творчеством Пушкина.
«Муза» Языкова является здесь в «бархатной шапке, с дубовою ветвию», то есть в студенческом одеянии. Его вольные песни, дружеские послания и любовную лирику естественно объединяет образ лирического героя - свободно живущего и свободно мыслящего поэта-студента.
Все эти произведения, как и самый образ лирического героя, питало и окрашивало политическое и религиозное вольномыслие, пронизывало чувство, которое И. Киреевский метко назвал впоследствии «стремлением к душевному простору».
По своим воззрениям, а точнее по непосредственному отклику чувств на окружающую действительность Языков принадлежал к широкой декабристской периферии. И содержание, и особый эмоциональный настрой его поэзии, и даже «буйство молодое» его стиха возникли на гребне мощной волны общественного протеста в канун восстания 1825 года.
Хотя все самые смелые в политическом отношении стихотворения поэта не были напечатаны при его жизни, современники легко угадывали вольнолюбивый подтекст всего его творчества в это время. Отчасти потому, что многое распространялось в списках, отчасти же вследствие того, что Языков начал с произведений, типичных для декабристской поэзии, с ее излюбленных тем и характерной поэтики, с присущего этому направлению поиска в истории примеров гражданского мужества и патриотизма.
После самых первых поэтических опытов - слабых подражаний Батюшкову - Языков публикует послание к брату («Тебе, который с юных дней...», 1822), где обещает воспеть славные «дела отцов», а затем и ряд стихотворений, реализующих эту программу: «Моя родина» (1822), «Песня короля Регнера» (1822) и целый ряд песен бардов и баянов на поле битвы (1823), получивших позднее в качестве особой жанровой разновидности довольно широкое распространение в декабристской и околодекабристской поэзии (в стихах А. А. Шишкова, В. Н. Григорьева, В. Розальон-Сошальского) .
Непосредственным источником песен бардов, родственных «думам Рылеева, в отечественной литературе была патриотическая лирика, отчасти принявшая краски оссианической поэзии: «Водопад» Державина, его оды «На взятие Измаила», «На победы в Италии», исторические элегии Батюшкова («Воспоминания», «Переход через Рейн»); «Певец во стане русских воинов» Жуковского.
К этой традиции восходят у Языкова и накал патриотических чувств, и раздумья о славных мужеством предках, и «северный» (осси-анический) колорит этих песен.
B стихах Языкова постоянный мотив оссианической поэзии - воспоминание о минувшей славе, сожаление о ее быстролетности - превращается в воспоминание об утраченной вольности, о свободолют бии предков, «быстроте их пламенного мщенья» и сочетается с презрением к рабам, смирившимся со своими цепями^о сравнению с думами Рылеева, «Баяном» в частности, где свободолюбие ощущалось «как общая тональность, лишенная политической конкретизации», песни баянов Языкова представляют собой следующий этап в развитии декабристской лирики, когда «исторический сюжет должен был прямо навести читателя на тему торжества деспотизма в окружающей жизни, внушить ему мысль о необходимости борьбы за освобождение».
В песнях баянов Языков еще не был вполне оригинален. Использование устойчивых поэтических формул, слов-сигналов, вызывающих современные политические ассоциации, система приноровлений и намеков и самое слияние здесь традиций позднего классицизма с преромантическими и романтическими, составляющее отличительную черту декабристского романтизма,- все это было свойственно всему потоку вольнолюбивой лирики тех лет. Но уже здесь, в этих же песнях, спорадически обнаруживается то новое, присущее одному Языкову, что определило его особый вклад и в декабристскую, и в русскую поэзию вообще.
В студенческих песнях поэта, дружеских посланиях 1823- 1827 годов, в таких стихотворениях, например, как «Дерпт», или «Муза», в политических элегиях его это новое звучит уже в полной мере.
И вот что важно отметить: разрабатывая преимущественно темы и мотивы, характерные для поэтов декабристской периферии, Языков придает им несвойственную до тех пор политическую остроту.
Ему чужд специфический для поэтов-декабристов, непосредственных участников движения, мотив жертвенности, героической гибели за свои убеждения, он не ставил перед собой сознательно агитационных задач (как Рылеев или А. А. Бестужев), зато обычная для свободолюбивой поэзии того времени тема дружеских пиров, например, приобретает у него открыто противоправительственное звучание.
Своеобразную трактовку получает в творчестве поэта и мотив сомнения в возможности революционного действия в самодержавной России.
Тема эта, вызванная к жизни поражением революций на Западе (греческой, испанской) и повсеместным торжеством реакции, наиболее яркое выражение нашла у Пушкина («Свободы сеятель пустынный...», 1823). Не сравнивая стихотворения Языкова и Пушкина по художественной силе, следует отметить, что в языковских элегиях «Свободы гордой вдохновенье...» и «Еще молчит гроза народа...» на первый план выступает не столько горечь разочарования и презрение к народам, смирившимся со своими цепями, сколько гнев, вызванный этой рабской покорностью.
Языков не был, конечно, дворянским революционером в смысле принадлежности к тайному обществу, да и политические идеалы его были крайне расплывчаты. Вольнолюбие поэта, не основанное на прочном идейном убеждении, не отличалось глубиной и стойкостью. Однако искреннее возмущение самодержавным произволом, отвращение к аракчеевскому режиму, ко всякому гнету и тирании позволили ему создать в 1823-1826 годах произведения объективно революционные, в которых эмоциональный протест его и призыв к свободе выразились ярко и сильно.
Центральное место среди студенческих стихотворений Языкова должно отвести его песням. В общем потоке декабристской лирики их отличает не глубина социального протеста, преданность революционному делу или страстность обличения, а политическая дерзость, задорный вызов самодержавию. Достоинство этих песен составляет упоение независимой, неподнадзорной жизнью, наслаждение свободно жить и мыслить. В этом был пафос студенческой лирики Языкова и особая заслуга его перед русской вольнолюбивой поэзией.
Песням Языкова предшествовала и сопутствовала определенная литературная традиция. Здесь и русская «анакреонтика», и гусарские стихи Дениса Давыдова, и лирика молодого Пушкина, в которых свобода дружеских пиров отчетливо противопоставлялась казенщине, удушливой атмосфере самодержавно-бюрократического государства.
Здесь, наконец, и традиция студенческих песен - русских и немецких (например, застольных песен Гёте и Шиллера), широко распространенных в Дерптском университете.
При всем том Языкову удалось придать студенческим песням свой тон. Он создает конкретный образ русского студента в Дерпте, человека, ускользнувшего на время от полицейского надзора и опасной близости к русскому самодержавию. Этот человек жадно пользуется вольным житьем и с удовольствием дерзит правительству. Острый политический намек, вольная шутка отличают его песни от произведений предшественников.
Языкова многое роднит с Денисом Давыдовым: подчеркнутый, стилизованный биографизм стихов, яркая характерность образа поэта, колоритность изображаемой среды (у Языкова - студенческой, у Давыдова - гусарской), вакхические мотивы, и склонность к броским поэтическим формулам, и быстрый стиховой темп, а главное - удальство, размашистость.
Но за сходными чертами у Давыдова и Языкова стоит все же разное идейное содержание. Один славит и воспевает такие человеческие качества, как прямодушие, мужество, преданность отечеству; другой поэтизирует прежде всего гражданскую свободу.
Белинский считал Языкова поэтом, воспевающим «потехи юности, пирующей на празднике жизни, пурпуровые уста, черные очи, лилейные перси» красавиц и шумные пиры. Но если он и певец юности, то, конечно, не только и не столько ее «потех». Он скорее певец тех благородных чувств и мыслей, той скопившейся для будущей деятельности энергии и прежде всего того инстинктивного и мощного стремления к свободе, которые отличают юность мыслящего и чувствующего человека. Причем стремление это проявляется тем сильней, чем тяжелее гнет сдерживающих обстоятельств и чем больше надежды на лучшее будущее. Языкову удается передать и самую радость освобождения. Его «господствующий идеал,- писал И. Киреевский, оценивая первый сборник стихов поэта,-... есть праздник сердца, простор души и жизни, потому господствующее чувство его поэзии есть какой-то электрический восторг, и господствующий тон его стихов - какая-то звучная торжественность».
Не опьянение кружит голову поэта, оно лишь образ пьянящего чувства легкости, свободы, вдохновения.
«У меня пьянство свое,- писал Языков,- оно, так сказать, mare clausum {замкнутое море) моей поэзии». Это справедливо по отношению к содержанию «винных» стихов поэта и по отношению к их форме. Прогрессивный общественный смысл этого хмельного кипения чувств живо воспринимался современниками, в частности такими великими представителями языковского времени, как Пушкин и Гоголь. Им, кстати говоря, так же как И. Киреевскому, вольнолюбивая лирика Языкова была известна в полном объеме.
«У него студентские пирушки не из бражничества и пьянства,- утверждал Гоголь,-но от радости, что есть мочь в руке и поприще впереди, что понесутся они, студенты на благородное служенье Во славу чести и добра».
И Пушкин, и Гоголь сравнивали стихи Языкова с размывчивой, пьяной брагой. «Зачем он назвал их: Стихотворения Языкова,- говорил, по воспоминаниям Гоголя, Пушкин о сборнике стихов 1833 года,- их бы следовало назвать просто: Хмель!».
Общественное содержание созданного Языковым образа поэта-студента расширяют и углубляют такие стихотворения этого периода, как «Муза», «Поэт» («Искать ли славного венца...»), «Поэт свободен, что награда...», где речь идет о независимости вдохновения и его торжестве над венчанным произволом; и политические элегии, и стихи на смерть Рылеева («Не вы ль убранство наших дней...»), а также дружеские послания, прежде всего к Пушкину.
В формировании языковской поэтики огромную роль сыграло то обстоятельство, что он, вступив в литературу учеником Батюшкова и Жуковского, почти сразу должен был искать средств для выражения гражданских чувств.
Отсюда проистекало два обстоятельства. Во-первых, своеобразный его поэтический почерк складывался прежде всего в произведениях торжественного стиля, и находки, сделанные им в этой области, стали в значительной мере формообразующими для всего его творчества. Во-вторых, Языков с первых шагов столкнулся с задачей, стоявшей перед всей русской поэзией к началу 1820-х годов,- с необходимостью создания нового торжественного стиля, который должен был вобрать в себя многие достижения поэтов новой школы, не утратив при этом «высокости».
Героическое и патриотическое содержание декабристской поэзии, агитационные цели ее выдвинули в 1810-1820-е годы в качестве первоочередной задачи создание нового торжественного стиля.
В борьбе с идейной облегченностью и салонной гладкостью карамзинской школы писатели гражданского направления, ориентировавшиеся на высокий стиль (например, Востоков, Гнедич, Катенин, Кюхельбекер), опирались на литературу XVIII века, располагавшую разработанными средствами этого стиля. Вслед за Радищевым некоторые из них принципиально отстаивали затрудненность торжественной стихотворной речи, проистекающую от перенасыщенности ее архаической лексикой и оборотами, считая ее условием энергии и силы выражения.
Между тем карамзинская школа в лице таких своих представителей, как Жуковский и Батюшков, сделала настолько важные открытия в области русского стиха и поэтического языка, что их нельзя было безнаказанно не учитывать.
По сравнению со стихами Жуковского и Батюшкова, их новым стиховым темпом, легкостью, гибкостью в передаче различных эмоций современная им гражданская поэзия нередко выглядела чрезмерно тяжеловесной и неповоротливой. Несмотря на искренность гражданского чувства, она была риторической и холодной. Исторически необходимо было уничтожить известное отставание торжественного стиля, усвоить ему стиховые и языковые завоевания новой поэзии.
Эта необходимость (какой бы остроты ни достигали теоретические споры) ощущалась обоими лагерями, заставляя их идти на взаимные «уступки» в области гражданской поэзии, что и подготовило исподволь появление новой стилистической системы.
Но к 1820-м годам построение этой системы было еще далеко не завершено, и задачу эту окончательно удалось решить только Пушкину. Немало способствовал этому своими поэтическими открытиями и Языков.
Главной заслугой Языкова в области торжественного стиля явился живой поэтический восторг, который удалось ему создать взамен и величавого парения поэзии классицизма XVIII века, и тяжеловесной риторики, сковывавшей мысль и чувство гражданских поэтов начала XIX века.
Механизм, секрет этого типично языковского восторга, заставившего Гоголя утверждать, что Языков рожден для «дифирамба и гимна», заключается прежде всего в сочетании стремительного, как бы летящего стиха с особым строением стихотворного периода, при решительном обновлении поэтического словаря.
По стиховому темпу Языков, как это было установлено исследованиями, занимает первое место среди поэтов своего времени.
Пропуски ритмических ударений на первой и третьей стопе четырехстопного ямба в периоде, передающем непрерывное эмоциональное нарастание, создают впечатление того страстного поэтического «захлеба», который особенно пленяет в Языкове.
Доведенное до кульминационной точки эмоциональное нарастание разрешается у Языкова, как правило, эффектной афористической формулой, представляющей собой смысловой центр тяжести стихового периода. Чаще всего эти формулы определенным образом организованы в звуковом отношении, по-державински громкозвучны.
Рука свободного сильнее
Руки, измученной ярмом,
Так с неба падающий гром
Подземных грохотов звучнее,
Так песнь победная громчей
Глухого скрежета цепей!
Или:
Пусть неизменен жизни новой
Приду к таинственным вратам,
Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам.
Иногда поэт и ритмически подчеркивает смысловую весомость своих концовок. Так, в четырехстопном ямбе о появлении афористической формулы предупреждает обычно стих, сохраняющий три метрических ударения вместо обычных двух, с обязательным ударением на первой стопе (см., например, концовку стихотворения «Муза»).
Строя период, Языков отказывается от обстоятельного развития мысли, от парения оды XVIII века, хотя и смело пользуется отдельными одическими приемами. Он старается выговорить эту мысль на одном дыхании (порой его период - одно предложение), причем ее развертывание - это нарастающее движение к кульминации, часто подчеркнутое нагнетанием параллельных синтаксических конструкций. Риторические вопросы, обращения, восклицания, вторгаясь в период, эмоционально подхлестывают его стремительное развитие.
Иной раз Языков начинает свой период как бы с середины, инверсивно, с придаточного предложения или деепричастного оборота, восклицания или вопроса («Не вовсе чуя бога света...», «Искать ли славного венца...», «О! разучись моя рука...» и т. п.). Такое строение позволяло ему избегать однообразия и действительно требовало единого дыхания при произнесении всей мысли. «Откуда ни начнет период,- писал Гоголь,- с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный». «Никто самовластнее его не владеет стихом и периодом»,- утверждал Пушкин.
Обновляя язык торжественного стиля, Языков в основном идет двумя путями. Во-первых, вслед за Батюшковым, Жуковским, молодым Пушкиным, кладет в основу его средний стиль, всемерно разгружая текст от славянизмов. Во-вторых, стремится различными способами противостоять «развеществлению» поэтического слова - явлению закономерному в системе устойчивых стилей, которая пришла в 1810- 1820-х годах на смену жанровой. Поэтика таких стилей зиждилась на принципиальной повторяемости поэтических формул (слов-сигналов), рассчитанных на узнавание и возникновение определенных ассоциаций (например, в национально-историческом стиле: цепи, мечи, рабы, кинжал, мщенье; в стиле элегическом: слезы, урны, радость, розы, златые дни и т. п.). Однако выразительные возможности такого слова в каждом данном поэтическом контексте суживались: являясь знаком стиля, оно становилось почти однозначным, теряло частично свое предметное значение, а с ним и силу непосредственного воздействия. Отсюда необходимость и закономерность «открытия нового в традиционной системе»: «эстетический эффект узнавания должен был все время сопровождаться другим эстетическим воздействием - так сказать, противоположным».
Наиболее абстрагировалось слово в элегическом стиле, поэтому тенденция к нарушению канона проявилась там особенно рано. К началу 1820-х годов школа гармонической точности, как называл ее Пушкин, уже располагала многими приемами, позволявшими поэту «творить новое варьированием, тонкими смысловыми сдвигами».
Языкову они были известны уже к 1823 году, и он умело употребляет их, одновременно создавая свой собственный арсенал средств, способствующих обновлению поэтического языка.
В песнях баянов он действует еще крайне осторожно, сохраняя традиционные краски национально-исторического стиля и опираясь на присущий этому стилю круг ассоциаций. В произведениях другого жанра и более поздних он покушается уже на самый принцип устойчивых стилей, ломая застывшие поэтические формулы.
Так, привычные славянизмы он пытается заменить другими архаизмами, например сложными словами, встречающимися в древнерусской письменности. Из поэтов, предшествующих Языкову, подобный прием употребляли Державин и Ломоносов, из современников поэта - Н. И. Гнедич, использовавший их как слова высокого стиля в переводе «Илиады». Однако Языков не ограничивается готовыми сочетаниями, а создает свои (браннолюбивая, пряморусская и т. п.). Свежесть этих вновь созданных архаизмов делает их особо весомыми в стилистическом отношении (иногда даже излишне).
Того же эффекта Языков добивается, разгружая текст от славянизмов лексических, одновременно используя как признак стиля архаические синтаксические обороты («Могуч восстать до идеала», «Музы своенравной... И высшей рока и похвал» и т. п.).
Применяет Языков и другие (в том числе известные и до него) способы внесения нового в традиционную систему, например нарушение равновесия между эпитетом и его предметом. Это легко проследить на его стихотворении «Смотрите: он летит над бедною вселенной...» (1823).
Стихотворение не традиционно по самой мысли: в нем звучит далеко не христианский протест против бессмысленной гибели молодой жизни. Эта мысль потребовала для своего воплощения и обновленных средств.
На первый взгляд кажется, что в стихотворении ничего нового нет. Те же прах, кинжал окровавленный, пламень, Тартар, сия, сей, то есть та же привычная лексика торжественного стиля 1810-х - начала 1820-х годов. Однако звучит она уже совершенно по-новому.
Прежде всего привлекает внимание властное требование: «Смотрите». Оно оказывает сильное влияние на контекст, заставляя воспринимать все не отвлеченно, а как живой зрительный образ. Соответственно и «кинжал окровавленный» и «пламя Тартара в очах» выступают как живописные детали картины. Еще более активизирует внимание неожиданное для данной темы слово «невинные» («Во прах, невинные, во прах...»). Понимание рока как силы злой и несправедливой, направленной против самых лучших и невинных, не характерно ни для поэзии XVIII века, ни для творчества Жуковского, где рок выступает как орудие божественного промысла. Не совпадает оно и с распространенной в романтической литературе трактовкой рока как силы, слепо карающей и виноватых и правых. Таким образом, слово «невинные» самим смыслом своим противостоит привычным ассоциациям, не разрушая их, однако, до конца, что позволяет поэту отчетливо противопоставить свою точку зрения привычной.
Вызванный к жизни необычной трактовкой рока, прием сочетания несочетаемых понятий становится стилистическим стержнем стихотворения (рок - это «ангел злодеянья», «посол неправых неба кар» и т. п.).
На такой же внутренней и внешней антитезе строятся впоследствии и политические элегии Языкова («Свободы гордой вдохновенье...», «Еще молчит гроза народа...», «Не вы ль убранство наших дней...»). Но здесь Языков почти совершенно перестает опираться на поэтику узнавания, присущую устойчивым стилям. Энергичная мысль и сильная эмоция потребовали от него нетрадиционных средств выражения. Простота, лаконизм, афористичность этих элегий, открытость эмоции как нельзя лучше отвечали данной задаче и предвещали завоевания поздней лирики поэта. Поэтический восторг, кипение чувств, передавать которые Языков научился первоначально в произведениях высокого стиля, сказываются во всем его творчестве, придавая большинству его произведений приподнятую, праздничную окраску.
Языковский стиховой период оказался великолепно приспособленным для передачи явлений нарастающих, будь то захлестывающее поэта чувство или развивающееся явление природы (например, гроза в «Тригорском»). Это нетрудно проследить в посланиях, которые у Языкова, как правило, приобретают поэтому краски высокого стиля:
О! разучись моя рука
Владеть струнами вдохновений,
Не удостойся я венка
В алмазном храме песнопений,
Холодный ветер суеты
Надуй и мчи мои ветрила
Под океаном темноты
По ходу бледного светила.
Когда умалится во мне
Сей неба дар благословенный,
Сей пламень чистый и священный -
Любовь к родимой стороне!
Тот же разбег стиховой речи мы встречаем и в интимной лирике, даже в элегиях Языкова.
В творчестве поэта 1820-х годов большое место занимают произведения, характерные для карамзинской школы, от ее главного жанра - элегии - до стихотворений шуточных, пародийных, альбомных мелочей.
Его «Рецепт», стихотворные записки А. С. Дириной на бытовые темы и т. п. легко укладываются в ряд камерных, легких жанров, культивировавшихся карамзинистами.
Элегия имела для Языкова, как и для всех поэтов пушкинского направления, особое значение. Он оставил нам «свод элегий драгоценный», по выражению Пушкина, причем свод совсем не канонический.
Элегический стиль в том виде, как он сложился к началу 1820-х годов, был одним из наиболее нормативных в системе устойчивых стилей. «Школа гармонической точности,- отмечает Л. Я. Гинзбург,- создала свой канон». Но этот канон был важен еще «и тем, что мог быть нарушен». 1 И нарушать его начали в 1820-х годах в первую очередь сами молодые создатели школы в процессе ее преодоления - Пушкин, Боратынский. Они придали элегии не свойственный ей ранее психологизм, существенно изменив тем самым ее содержание.
В этом процессе нарушения канона с самого начала своей поэтической деятельности принял участие и Языков. И если он говорит в своих стихах: «В них нет заемной чепухи... В них неподдельная природа, Свое добро, свои грехи!» - то это следует применить прежде всего к его элегиям, к их новому для русской поэзии содержанию.
Это новое заключается, конечно, не в том, что Языков «воспевает во многих своих элегиях тот или иной объект своей нежной страсти», тогда как «известно», что «элегия существует не для того, чтобы в ней кого-нибудь воспевать и кем-то восторгаться». Ничего нового тут еще нет. Элегия именно для этих целей и предназначалась, точнее - элегия «эротическая», которая, по определению Н. Ф. Остолопова, в отличие от «тренической» (та «описывает печаль, болезнь и всякое несчастливое приключение»), занимается «одною только любовью и всеми от любви происходящими следствиями».
("В статье «О элегии и периоде (Из Сульцеровой теории изящных искусств)», которую опубликовал в 1818 году журнал «Благонамеренный», мы находим более развернутое определение жанра: «Итак, все кроткие чувства, при которых дух наш находится в положении страдания, как-то жалобы на потерю любимой особы, на неверность друга, на несправедливость и угнетение, на жестокость судьбы; удовольствие, проистекающее от взаимного примирения; выражения благодарности, благоговения и всякой другой соединенной с приятною нежностию страсти составляют содержание элегии...». Причем специально оговаривается, что даже «кроткое веселие» не противопоказано элегии.
Таким образом, Языков вполне традиционно воспевает предметы своей страсти, а вернее, свое чувство к ним. Но все дело в том, как воспевает.
В отличие от своих предшественников, в противовес предписанным «кротким чувствам», Языков вносит в свою элегию иронию. Он иронизирует над своею любовью, ее предметом, над своими стихами.
Большинство его элегий в 1820-е годы прямо или косвенно связаны с Воейковой, которой Языков был увлечен в это время. Его чувство к ней было, возможно, головным, отчасти «напущенным», однако несомненно одно - оно сыграло большую роль в поэтическом развитии Языкова.
Воспитанница Жуковского, женщина прекрасно образованная, хозяйка литературного салона и предмет восхищения многих поэтов (Боратынского, И. Козлова, Ф. Глинки), Воейкова была для молодого Языкова подлинным ценителем его стихов и компетентным критиком. Она побуждала его к поэтической деятельности и даже порой задавала темы («слова») для стихотворений.
Досада на Воейкову, которая не отвечала на чувства поэта, но, как ему казалось, удерживала его при себе «коварной лаской» с целью доставлять стихотворный материал в издания мужа, заставила Языкова говорить о своей влюбленности и стихах как о «миленьких бреднях». Самый объект этих бредней превращается у него из «звезды любви и вдохновенья» то в сухо-ироническое «мой почтенный идеал», то даже в неуважительное.
Ирония - явление большой разрушительной силы. Как известно, она сыграла важную роль в преодолении романтической идеализации жизни.
Языковская ирония не была вполне адекватна романтической по своему характеру: она гораздо рационалистичнее. Как правило, пафос и ирония не обращены у него на объект изображения одновременно. В отличие от Гейне, например, который любит и в то же время иронизирует над своей любовью, Языков начинает иронизировать лишь тогда, когда наступает отрезвление, то есть над уже прошедшим чувством.
Тем не менее эта ирония была направлена против элегической формы, как она сложилась к началу 1820-х годов в системе устойчивых поэтических стилей.
Из поэтов пушкинского окружения Языков был единственным, кто покушался на эту элегию подобным образом. Можно встретить, правда, нечто похожее в интимной лирике Дениса Давыдова («Неверной», 1817; «Решительный вечер», 1818 г.), но только не в элегии, которая стойко сохраняет у него традиционное для 1810-х годов содержание и соответствующий стиль.
Вторгшись в этот жанр, ирония особым образом перестроила его. У Языкова есть несколько вариантов иронических элегий. Иногда он почти сразу предупреждает читателя, что все человеческие ценности, с которыми имеет дело элегия, поставлены под сомнение (см., например, «Напрасно я любви Светланы...»). Но более распространен другой случай, когда в первой части элегии иронический тон едва намечен, чуть сквозит за условными элегическими формулами, как, например, в элегии «Теперь мне лучше: я не брежу...». Глубокая пауза или внезапно вторгающийся смелый оборот (в данной элегии просторечное «десятка с два») подготавливают в таком случае иронический поворот концовки:
Но тщетны миленькие бредни:
Моя душа огорчена,
Как после горестного сна,
Как после праздничной обедни,
Где речь безумна и скучна!
В этих концовках Языков часто прибегает к дерзким, намеренно бытовым, «низким» сравнениям: его поэзия поет, «как сибирская пищуха», страсть слетает с души, подобно куликам, и т. п. ' Да и нарочитая небрежность языка, приближающая его к разговорному, даже «незастенчивость» слов встречаются у Языкова чаще всего именно в элегиях, иронически трактующих переживания героя.
Процесс «снижения» элегических ценностей как бы завершается у Языкова тем, что он сам бурсацки-грубые, эротические (уже в современном понимании этого слова) стихи называет элегиями.
Языковская «поэзия была самым сильным противоядием пошлому морализму и приторной элегической слезливости,- писал Белинский. - Смелыми и резкими словами и оборотами своими Языков много способствовал расторжению пуританских оков, лежавших на языке и фразеологии».
Отношение Языкова к Пушкину было крайне непростым. С одной стороны, он, как и все поэты той поры, испытывал мощное воздействие пушкинского гения, был увлекаем вместе со всей русской поэзией в направлении, им предуказанном, пользовался его завоеваниями; с другой - сознательно и бессознательно боролся за свою самостоятельность, искал своих путей и решений.
Это сопротивление Пушкину было для Языкова, как и для других поэтов пушкинского направления (например, Боратынского), жизненно важным. Чтобы сохранить свою самостоятельность, они должны были внутренне отталкиваться от Пушкина.
К тому же как поэт Языков развивался значительно медленнее и отчасти также поэтому не понимал и не принимал многих завоеваний
Антитеза, контраст, внезапный поворот в развитии лирического сюжета - прием, вообще свойственный поэтике Языкова. И. М. Се-меГко удачно называет его «эффектом неожиданности». Этот прием, несомненно участвует у поэта в «преобразовании традиционной жанровой структуры элегии», в том числе и не иронической.
Пушкина, иногда, впрочем, осваивая их позднее. Языкову не нравились романтические поэмы Пушкина (за романтизм), «Евгений Онегин» и «Полтава» (они казались прозаическими), не нравились «Повести Белкина» (предпочитал Марлинского), сказки (предпочитал Жуковского). Он считал «вздором». Такие вещи Пушкина, помещенные в «Северных. цветах» и «Новоселье», как «Моцарт и Сальери», «Анчар», «Домик в Коломне». Выше других он оценивал «Бориса Годунова» и «Графа Нулина», которые слышал в Михайловском в чтении самого Пушкина.
До встречи Пушкин не был для Языкова даже главой литературы, эту роль отводил он Карамзину и Жуковскому. Он считал Пушкина в то время только человеком «необыкновенным» и прославленным, к знакомству с которым его побуждало более всего любопытство.
Общение с Пушкиным многое изменило в отношении Языкова к самому поэту (с этих пор, благодаря в основном усилиям Пушкина, их связывает род дружбы и литературного союза), но не в отношении к пушкинскому творчеству.
Из Михайловской ссылки Пушкин первый обратился к Языкову с посланием («Издревле сладостный союз...», 1824) и через своего соседа и приятеля А. Н. Вульфа, с которым Языков учился, пригласил его приехать. Послание не застало Языкова в Дерпте, и он ответил на него только в начале 1825 года («Не вовсе чуя бога света...»)
Свидание поэтов состоялось в июне - июле 1826 года в Тригорском, имении Осиповых-Вульф, и Языков провел там время «приятно и сладостно», как он сообщал потом в письмах родным. В стихах же, которые он начал писать сразу по возвращении в Дерпт, пребывание в Тригорском и встреча с Пушкиным вообще предстают как некий пир свободы и вдохновения.
Это определяет основной тон посланий к Пушкину («О ты, чья дружба мне дороже...»), к П. А. Осиповой («Аминь, аминь! Глаголю вам....»), «Тригорского» - и соответственно окрашивает их детали. Пушкин - «вольномыслящий поэт», «наследник мудрости Вольтера», его дружба - «святее царской головы»; Тригорское - «страна, где вольные живали Сыны воинственных славян» и т. п. Беседуя, поэты в мечтах «летают по вселенной в былых и будущих веках» и зовут на Русь свободу.
Можно предположить с большой степенью вероятности, что беседу эти затрагивали и события 14 декабря.
Пушкина могли интересовать сведения, которыми располагал Языков, ездивший в Петербург в декабре 1825 года на рождественские каникулы. Он приехал туда через десять дней после восстания и оставался там два месяца. Только из самого ближайшего окружения Языковых были арестованы братья Очкины (скоро выпущены), С. М. Семенов, а также шурин П. М. Языкова - декабрист В. П. Ивашев.
Незадолго до приезда в Тригорское Языков получил известие из Петербурга о том, что 1 июня учрежден Верховный суд для разбора дела «бунтовщиков-либералов». «Скоро услышу, может быть,- писал он по этому поводу П. М. Языкову,- что моим литературным товарищам головы отрубят; это неприятно даже в ожидании!».
Пушкин в эту пору тоже ждал решения своей участи и имел основание опасаться новых репрессий. Мог беспокоиться и Языков: его вольные стихи ходили по рукам, их могли обнаружить в бумагах арестованных.
Если учесть данные обстоятельства, то светлый, ничем не омраченный мир пушкинского цикла, особенно стихотворений, написанных в 1826 году, может вызвать удивление. Однако он вполне объясним.
Встреча поэтов, по-видимому, действительно была радостной. В эти летние месяцы 1826 года оба они еще ничего не знали о приговоре восставшим и надеялись на лучшее. Казнь пяти декабристов совершилась 13 июля, но весть о ней дошла до Пушкина только 26-го, когда Языков был уже в Дерпте (он вернулся туда 24уиюля).
Насколько можно судить по реакции Пушкина и Языкова на известие о приговоре и казни, ни тот ни другой не ожидали столь беспощадной и жестокой расправы. Возлагали надежды (Языков в частности) на политическую невыгодность суровых мер, на то, что восстание послужит уроком царям, наконец на амнистию в связи с коронацией.
Казалось, не исключены были даже прогрессивные общественные перемены, необходимость которых столь явно обнаружили революционные события 14 декабря. 21 августа 1826 года Языков, получив известие о казни декабристов, пишет стихи на смерть Рылеева («Не вы ль убранство наших дней...»). Стихотворение это является вершиной политической лирики Языкова. Смелость мысли, резкий поворот ее, сила и открытость эмоции в сочетании с энергией стиха и сжатостью выражения (почти афористической) делают стихи выдающимися среди произведений, посвященных декабристам в русской поэзии.
Худшие опасения Языкова начинают сбываться. Тем не менее, хотя послание к П. А. Осиповой и «Тригорское» еще не закончены, дурные вести ничего не меняют в мажорном настрое стихотворений. Может быть, потому, что не все надежды еще потеряны, а может быть, еще из-за того, что мрачное настоящее сразу отодвинуло тригорское лето в счастливое прошлое, навсегда превратив его в неувядаемый «праздник бытия».
В «Тригорском» он показал себя и мастером пейзажной лирики.
Совершенно очевидно, что в этой области Языков, как и Рылеев, учился у Пушкина, однако несомненно при этом его поэтическое своеобразие. Он изображает природу, как правило, в нарастающем движении, то есть прежде всего ее явления (восход солнца, грозу и т. п.), которые, как и подобает природным явлениям, совершаются величественно. Говорит Языков о них «пламенно и торжественно», по его собственным словам, явно в ломоносовской традиции, используя все преимущества своего характерного стиля.
В том же августе 1826 года написано и послание Языкова «Вульфу, Тютчеву, Шепелеву», полное благородных мыслей о служении родине и веры в то, что общие усилия молодого поколения помогут обновить жизнь.
Царский манифест не оправдал ожиданий. И Пушкин, который после свидания с царем в начале ноября вернулся в деревню и прочел у Осиповых «Тригорское», счел нужным предостеречь Языкова: «Дай бог вам здоровья, осторожности, благоденственного и мирного житья».
"Последние годы, проведенные поэтом в Дерпте (1827-1829), во многом проходят под знаком этой осторожности, а главное, пустоты, образовавшейся от крушения вольнолюбивых надежд, от несостоявшейся любви, от утраты Дерптом своей притягательной атмосферы. Один за другим уезжают из Дерпта приятели: А. Н. Вульф. П. Н. Шепелев, А. Н. Татаринов и другие. В январе 1827 года поэт выходит из университета и начинает готовиться к экзаменам, но дело не идет. Языкова беспокоит мысль, что экзамены он должен сдать «блистательно», так как имя его слишком известно в Дерпте, между тем как самому ему это совершенно не нужно и только отвлекает от поэзии. Мучает безденежье (деньги из дома высылаются нерегулярно), растут долги: кредитом Языкова без его ведома пользуются немецкие студенты, которых он приглашал к себе жить для совместных занятий. Это, а также расходы на врача, на книги и денежные вспоможения различным лицам в конце концов увеличили его задолженность до такой степени, что лишили возможности свободно выезжать из Дерпта.
Языков пишет в эту пору довольно много, но все более утрачивая свои пафос, тот «свет любви», по выражению Гоголя, с потерей которого «пркмеркнул и свет поэзии» его. 3 В стихотворениях пушкинского цикла, относящихся к 1827 году,4 Языков говорит уже главным образом о «сельской», «милой и безгрешной» свободе, о презрении и вражде Пушкина не к самодержавию, а к «ласкам» и «изменам» людским. А в студенческих песнях 1829 года былое вольнолюбие предстает как свобода времяпрепровождения гуляки-студента. «Разгульные красот
Особенно свидетельствуют об угасании творческого подъема написанные в то время многочисленные послания Языкова, которые варьируют мотивы стихотворения «Вульфу, Тютчеву, Шепелеву», но разительно отличаются от него в худшую сторону.
Языков отдавал себе отчет, что эти произведения созданы не вдохновением, а поэтическим навыком. Но вот что характерно: он полагал, что это не вредит делу. «В роде посланий я, кажется, довольно набил руку и могу писать их безо всякого напряжения умственной силы, об чем угодно и к кому угодно», - признавался он брату. Однако требовательный читатель расценивал такие произведения иначе. А. Н. Вульф приводит, например, в своем дневнике отзыв Дельвига о языковских посланиях к нему и к Вульфу. Он «говорил, что они только годны для эпиграфов к романам». «Я с ним согласен,- добавляет Вульф,-... в них есть хорошие стихи, сильные слова, но нет новых мыслей, обороты их даже те же». По меткому определению Жуковского, это был «восторг, никуды не обращенный». Это в лучшем случае, в худшем же - вместо языковского динамизма появляются длинноты, вялость, а поэтическая смелость оборачивается неряшливостью. Здесь впервые начинают появляться у Языкова выражения неточные, плохо найденные, даже безвкусные. В атмосфере гармонической точности слово «было точным в том смысле, что всякий сдвиг, который не был большой художественной удачей, оказывался ошибкой...». Языков не был теперь защищен от таких ошибок свежей мыслью и подлинным чувством.
Первый отрицательный отзыв о поэзии Языкова был связан именно с его посланиями. Н. Полевой, жалуясь при разборе альманаха «Северные цветы» на однообразие современной поэзии, не дающей «живых впечатлений», упоминает в одном ряду с наскучившими мотивами третьестепенных писателей и Языкова, его «прозаические напоминания о немецких профессорах, восклицания о вине, табаке, пунше, студенческих беседах, старание выискать новый оборот для старой мысли». Таков внешний ход событий. Внутренне для Языкова 1830-е годы были временем поиска новых художественных ориентиров, попытками стать, как он говорил, «объективнее» и создать нечто крупное, значительное.
Время было тяжелое для людей, не безразличных к судьбам своей родины и народа, и не только из-за наступившей реакции. После 1825 года прежние пути борьбы за социальную справедливость оказались закрытыми или, что хуже, скомпрометированными. Подлежала пересмотру и система ценностей, связанная с периодом дворянской революционности, -т
Многие оказались в пустоте, без поля деятельности и надежд, мучительно переживая эти утраты. Другие заново начали трудный поиск путей общественного развития, причем часть когда-то прогрессивно мыслящей интеллигенции оказывается в конце концов на позициях объективно реакционных.
Осмысление русского и европейского опыта (июльская революция во Франции в 1830 году, польское восстание в 1831-м) идет в напряженной идеологической борьбе, особенно обострившейся к середине следующего десятилетия. В конце 1820-х - начале 1830-х годов выработка новых идей только начинается.
Существенно меняется и понимание задач литературы. Из разных лагерей и группировок в эти годы настойчиво раздается требование мысли в поэзии (именно в поэзии поначалу, так как в 1820-е годы она господствовала над прозой). От нее ждут теперь то сильных романтических страстей и пророчеств, то осмысления коренных проблем бытия.
Первые годы после отъезда из Дерпта были ознаменованы для Языкова яркой творческой вспышкой. В эту пору написаны «Пловец» («Нелюдимо наше море...»), «Подражание псалму «Водопад», цикл стихов, посвященных цыганке Тане, «Ау!», «Воспоминание об А. А. Воейковой», затем послание «Д. П. Ознобишину» и, наконец, в 1835 году послание «Д. В. Давыдову» («Жизни баловень счастливый...»), которое, по воспоминаниям Гоголя, вызвало слезы у Пушкина.
Это были прекрасные стихи. Они демонстрировали возросшее мастерство поэта и лучшие черты найденного им стиля. Многие из них явились и первым откликом Языкова на требование нового исторического периода.
Общение с молодыми талантливыми литераторами, мечтающими приносить пользу отчизне, новые идеи и планы совместной деятельно- все это оживило надежды Языкова на перемены к лучшему.
В мае 1829 года Языков наконец покидает Дерпт, намереваясь держать экзамен позднее - в Казанском, Московском или Петербургском университете. В Москву он приезжает вместе с новым своим приятелем А. П. Петерсоном и останавливается в доме его родственников Елагиных - Киреевских. С этого времени начинается его дружба с Киреевскими, во многом определившая его воззрения и направление деятельности в оставшиеся годы жизни.
Пробыв месяц в доме Елагиных, Языков отправляется в Симбирск, проводит там зиму, а весной снова возвращается в Москву, где собирается держать экзамен. Здесь (в 1829-1831 годах) знакомится он с рядом литераторов, близких Киреевским,- А. С. Хомяковым, М. П. Погодиным, С. П. Шевыревым, Каролиной Павловой (тогда - Яниш), М. А. Максимовичем, Н. А. Мельгуновым и другими; возобновляет знакомство с Боратынским, часто общается с Пушкиным.
Языков живет интересами этого круга, строит планы совместной деятельности, в частности по организации журнала, по сбору и изданию русских народных песен,- словом, ведет жизнь литератора. Постепенно у него зреет решение не тратить времени на экзамен, а поступить для получения чина 2 на службу, которая была бы синекурой. В сентябре 1831 года Языков поступает в Межевую канцелярии. «Место, мною занимаемое,- пишет он брату,- единственное в России уже и потому, что я его занимаю! Боратынский сидел на нем дома с честию: дослужился до 14 класса - и вышел вон!»
В это время он уже серьезно болен. Еще в Москве у него появились признаки тяжелой болезни, которая резко усиливается в Симбирске. В 1838 году его, уже лежачего, перевозят в Москву.
Представлялось, что, если удастся выстоять против «бури», общими усилиями сохранить верный курс, «блаженная страна» будет достигнута.
Поэту во время «непогоды» принадлежит особая роль. (Тема эта развивалась Языковым в подражаниях псалмам и в программном стихотворении «Поэту», открывшем сборник 1833 года.) Он должен быть неподкупным, хранить верность «высоким песням прежних дней», но главное - облегчать муки рабов и смягчать жестокие сердца венценосцев.
Поэт Языкова уже не бард, сзывающий бойцов на битву, не вольномыслящий студент, а божий избранник. Это Давид-псалмопевец, при звуках арфы которого смиряется безумный царь Саул.
«С первого января 1832 года моя муза должна преобразиться,- писал Языков В. Д. Комовскому осенью 1831 года, прося прислать ему журнал «Христианское чтение» и Библию на немецком языке. - Я перейду из кабака прямо в церковь!! Пора и бога вспомнить!..» Он торопится с изданием своего сборника в первую очередь потому, что на его «любовных, винных» стихотворениях «есть особенный отпечаток, и характер в них дышит такой, которого не должно быть в последующих. Пусть они и существуют особняком».
Переложение псалмов и библейский стиль появляются в творчестве Языкова не случайно.
Прежде всего это было привычное иносказание, к которому издавна прибегала в подцензурных условиях гражданская поэзия, в частности поэзия декабристская. Связанный в сознании того времени с высокой духовностью, этот стиль также соотносился с идеями мессианской роли поэта и нравственного сопротивления неправой власти, почерпнутыми Языковым в кругу его новых друзей. И наконец, краски этого стиля и его контрастность по отношению к предшествующему творчеству Языкова позволяли ему более резко подчеркнуть свое вступление в новую эпоху - пору человеческой и поэтической зрелости.
Языков остро ощущает необходимость коренных перемен в своем творчестве. В семье Киреевских его принимают восторженно, на дружеских пирушках украшают цветами, стилизируя под молодого Вакха, но впредь ждут от его музы чего-то более серьезного и весомого. К этому же стремится и сам Языков.
Однако после поэтического подъема 1830-1831 годов, который Языков принял было за «зарю» своей будущей деятельности,1 ничего существенного создать ему не удается. Остался нереализованным и замысел трагедии «Саул», возникший у поэта в 1829 году.
Всякими путями он стремится возбудить себя к творческой деятельности. То «для плезиру» и в надежде, что это «разгибает талант и способ выражаться», занимается сочинением стихов в альбомы незнакомым дамам. То заключает пари с Елагиным, что напишет к 1 января 1832 года 2000 стихов. То участвует во взаимном уговоре с А. С. Хомяковым и М. П. Погодиным написать к 23 декабря 1831 года большое сочинение.
(Языкову кажется, что писать он не может, потому что до сих пор не «уселся» на своем удобном, постоянном месте. В Москве ему мешает рассеянная, шумная жизнь; в Симбирске, даже в Языкове,- «смуты» хозяйственные, «вздоры» и «пустяки» совместной жизни с родственниками. Он бежит из Симбирска в Москву, из Москвы снова домой. Кочевая жизнь,- жалуется он А. Н. Вульфу,- не благоприятствует поэтической деятельности в России; вероятно, она-то и причина тому, что нет у нас ни одного поэта из цыганов!..»
"Все эти метания объясняются, вероятно, тем, что теперь, в 1830-е годы, Языков, при всех своих удачах и достижениях, все же ничего не определял в литературном процессе и хорошо сознавал это. В 1820-е годы он числил себя в «первенцах полночных муз», сейчас это ощущение справедливо утрачивается.
Тем активнее была деятельность Языкова в тех областях, которые раньше казались ему чуждыми для поэта, в журнальной, издательской, например. Он принимает участие в организации «Европейца», потом «Московского наблюдателя», осуществляет большую работу по сбору и подготовке к изданию совместно с П. В. Киреевским собрания русских народных песен. Языков привлекает к собиранию материалов и своих родственников, прежде всего братьевД «... Тот, кто соберет сколько можно больше народных наших песен, сличит их между собою, приведет в порядок и проч., тот совершит подвиг великий и издаст книгу, какой нет и быть не может ни у одного народа,- пишет он А. М. Языкову,- положит в казну русской литературы сокровище неоценимое и представит просвещенному миру чистое, верное, золотое зеркало всего русского».
Львиная доля из помещенного в собрании П. В. Киреевского была собрана братьями Языковыми, поэтому П. В. Киреевский предлагал даже написать на заглавном листе предполагавшегося сборника «изданное Н. Языковым и П. Киреевским», так как именно Языкову принадлежат «и первая честь собрания, и большое количество и лучший цвет песен».
Интерес к национальному прошлому, к своеобразию исторического развития народа и особым чертам национального характера часто возникает не только в моменты общественного подъема, но и в эпохи осмысления горького исторического опыта. Требование народности литературы, внимание к фольклору - зеркалу народной души - были в 1830-е годы естественным следствием этого направления общественной мысли.
Сильнейшим стимулом в собирании народных песен явилось для П. В. Киреевского и Языкова «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, опубликованное в 1836 году, но написанное в начале 1830-х годов и распространявшееся в списках. Чаадаев утверждал, что у русского народа отсутствует богатое мыслью и деятельностью историческое прошлое, что в преданиях народных не осталось «ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов», «ни мощных поучений».
Эти мысли не разделялись, как известно, большинством прогрессивно мыслящих людей. Пушкин счел даже необходимым сформулировать свои возражения Чаадаеву в специальном письме.
Кстати, одно время предполагалось, что предисловие к сборнику П. В. Киреевского напишет Пушкин. Но то же большинство (например, Герцен и будущие западники) прекрасно понимало, что горький скептицизм Чаадаева вызван тяжким настоящим русского народа. Что же касается будущего, то и сам Чаадаев в конце 1830-х годов не стоял на прежних позициях: в «Апологии сумасшедшего» (1837) он говорит об исторической роли русского народа, призванного «решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество».
Позиция П. В. Киреевского и полемический характер ее были уже достаточно определенными в начале 1830-х годов. «Я с каждым часом чувствую живее, что отличительное, существенное свойство варварства - беспамятность; что нет ни высокого дела, ни стройного слова без живого чувства своего достоинства, что чувства собственного достоинства нет без национальной гордости, а национальной гордости нет без национальной памяти».
Эта бесспорная в общей форме посылка, полностью разделявшаяся Языковым, позволила, однако, впоследствии сделать П. В. Киреевскому реакционные выводы, так как дело было не только в ценности для народа национальной гордости вообще, но и в том, что является предметом этой национальной гордости. Без ясного осознания последнего идея национальной гордости легко могла перерасти и постоянно перерастает в чувство национальной исключительности, губительное для всякого народа.
Первый сборник стихов Языкова вышел совсем не в том виде, как предполагал поэт. Книга чрезвычайно пострадала от цензуры. Вольнолюбивый дух языковской лирики, особенно 1820-х годов, был из нее начисто изгнан путем изъятий, купюр и смягчений. Языков даже совсем хотел отказаться от издания, так как в нем его муза стала походить скорее «на рекрута, нежели на студентскую прелестницу». К тому же, поэту не удалось посвятить этот сборник только дерптским своим произведениям, как он намеревался. В него были включены и стихотворения 1830-1832 годов, и, также искаженные цензурой, они как-то растворились в характерных стихах дерптского периода, не определив лица книги.
Как и опасался Языков, его «Стихотворения» не встретили единодушного одобрения.
В развернутой рецензии на них Полевой вынес автору жестокий приговор. Критик предъявляет Языкову, как любому лирическому поэту, два требования: «индивидуальности» и «современности». Оба эти свойства обязательны, так как индивидуальность - это «душа», «природа» поэта, а требование современности диктуется тем, что каждый поэт - «сын какой-нибудь земли и гражданин какого-нибудь века».
В обоих этих свойствах Кс. Полевой Языкову отказывает или почти отказывает, так как у него «нет впечатлений, которые бы показали нам его душу», и на все предметы он смотрит «равнодушно», его не волнует ни родная природа, ни «деяния предков», ни идеи «своего времени, своей судьбы, своих сограждан». «Что же нашли мы? - заключает критик. - Односторонность и какую-то холодность чувства; мало индивидуальности поэтической, но зато самобытность или, лучше сказать, незаимствованность картин; мы не нашли в нем никаких глубоких многообъемлющих идей, но заметили язык и выражения истинно-поэтические. Достоинства г. Языкова можно выразить тремя словами: он поэт выражения».
К. Полевой верно указал на слабые стороны поэзии Языкова, ставшие особенно заметными после 1826 года и в опустошенном цензурой первом сборнике его стихов. Но он не был прав, распространяя свой вывод на все творчество поэта, перечеркивая его прошлое и не видя предпосылок для будущего.
В защиту Языкова выступил И. В. Киреевский. В ответ на обвинение в бессодержательности и холодности Языкова, он характеризует, с возможной в подцензурных условиях точностью, «господствующий идеал» поэта («Простор души и жизни») и «господствующее чувство» его стихов («электрический восторг»)4 и выражает надежду, что «поэт, проникнув глубже в жизнь и действительность, разовьет идеал свой до большей существенности».
Еще в Дерпте возникают у Языкова замыслы эпические. Он пытается создать, главным образом на материале ливонской истории, романтическую поэму. От этих замыслов в 1820 годы остались лишь планы и отдельные фрагменты, опубликованные в качестве отрывков («Разбойники», «Ала», «Меченосец Аран»). В 1835-1837 годах он принимает участие в «сказочном состязании» Жуковского и Пушкина. Ему удается на этот раз завершить свое эпическое произведение - «Сказку о пастухе и диком вепре» и написать вслед за ней большое драматическое произведение - «Жар-Птицу».
В обоих произведениях Языков, как отмечал это в свое время М. К. Азадовский, стоял на позициях Жуковского, а не Пушкина. Первая сказка явно пародировала пушкинский метод обработки фольклора, как представлял его себе Языков. Подобно Боратынскому, он считал, что Пушкин просто перелагает стихами народный образец. В «Жар-Птице» Языков дает, как и Жуковский, литературную обработку народного сюжета. И в той и в другой сказке обнаруживается ироническая модернизация фольклора, роднящая поэта с немецкими романтиками.
Нового и более существенного содержания достичь здесь Языкову не удалось. Герой «Жар-Птицы», Иван-царевич, разительно напоминает автобиографического героя языковских посланий - это тот же добрый молодец, полный юношеского пыла и благородных мыслей, часто попадающий впросак в реальных жизненных обстоятельствах.
Обе сказки не были удачей поэта. Не удались ему и другие произведения в эпическом и драматическом роде. Уже за границей Языков пишет небольшую поэмку в стихах «Сержант Сурмин» (1839), затем сцены «Встреча Нового года» и «Странный случай» (1841), а вернувшись в Москву-«Отрок Вячко» (1844) и «Липы» (1846).
Все они отличаются незначительностью содержания и отсутствием художественной новизны. В основе каждого из этих произведений (за исключением «Отрока Вячко») лежит анекдот.
Впрочем, «Сержант Сурмин» написан лучше, изящнее других, но «быль» эта, как называет его Языков, почти совершенно лишена характерных красок быта, из которого естественно вырастают, например, анекдоты Пушкина. Неприятно проступает в пей нраво- исправительная тенденция, которую справедливо высмеял Герцен.
«Встреча Нового года» претендует как будто на изображение живой картины споров московской интеллигентной молодежи. Однако картина получилась крайне бледной, борьба идей поверхностна, характеры действующих лиц почти не индивидуализированы ни в психологическом, ни в социальном плане. В диалогах чувствуется явная зависимость от Грибоедова (недаром он часто цитируется действующими лицами).
В «Странном случае», однако, сделана попытка дать два контрастных психологически и морально неравноценных образа. Самый анекдот обосновывается здесь психологически.
В обеих сценах чувствуется биографический подтекст.
Появление в творчестве Языкова стихотворных повестей - факт типический для эпохи 1840-х годов, с ее явным перевесом прозы над стихами и стремлением к изображению жизненной конкретно появляются социально-психологические очерки в стихах Н. П. Огарева, А. А. Григорьева и других поэтов. 1 Но Языков, в общем, остался в стороне от критической направленности этих повестей. Она проникла лишь в его поэму «Липы». В результате получилось произведение, обличающее чиновничий произвол.
Опыты Языкова в эпическом и драматическом роде, не став явлениями большой поэзии, сыграли, однако, важную роль в его творческом развитии. В процессе освоения повествовательности Языкову удалось наконец преодолеть инерцию своего поэтического стиля, отойти от его стереотипов, а это облегчило ему путь к созданию лирики нового для него характера, иное наполнение которой потребовало иных поэтических средств.
В 1839-1841 годах появляются у Языкова произведения, как правило с пейзажной основой, в которых очень сильно были выражены простые, обыденные чувства: «кручина», «тоска неугомонная», томление и скука человека, которого злые обстоятельства все держат и держат на ненавистной чужбине.
В этих стихотворениях нет уже лирического героя. Перед нами сам поэт в конкретной жизненной ситуации. Болезнь заставляет его переезжать с курорта на курорт в поисках исцеления, испытывать боли и дорожные неудобства («Переезд через приморские Альпы»). Он то надеется на выздоровление («Поденщик, тяжело нагруженный дровами...»), то отчаивается («Бог весть, не втуне ли скитался...») и всюду возит за собой «несносную», «неугомонную» тоску по родинеЗ «Скучными глазами» смотрит он на новые места (чаще всего - пейзаж за окном), и глаз его отбирает из окружающего прежде всего детали, чуждые русской природе и русскому быту, которые поэтому вновь и вновь возвращают его к мысли о России. Та этих чужих местных приметах построены, например, элегии «Толпа ли девочек крикливая, живая...», «Здесь горы с двух сторон стоят, как две стены...», «И тесно, и душно мне в области гор...» или «Крейцнахские соловарни».
В основе каждого стихотворения теперь лежит единичная, конкретная ситуация, приуроченная к определенному месту и времени.
Языков здесь прост, лаконичен, чувство, им испытываемое, часто прямо называется, как правило - во второй половине или концовке стихотворения. Эти концовки по-прежнему весомы (по мысли и ритмически), но уже не стремятся к обязательному эффекту.
Чаще прежнего встречается теперь у Языкова шестистопный ямб,' а когда он употребляет привычный четырехстопный, он звучит уже спокойнее:
Бог весть, не втуне ли скитался
В чужих странах я много лёт!
Мой чёрный день не разгулялся!
Мне утешения нет как нет.
Печальный, трепетный и томный.
Назад в отеческий мой дом.
Спешу, как птица в куст укромный
Спешит, забитая дождём.
Стиль его мало метафоричен, и в сочетании с простотой выражения, логической ясностью и лаконизмом чувство, даже открыто названное, выглядит благородно сдержанным.
Языков явно идет здесь по пути реалистической лирики Пушкина, однако не как эпигон, а как достойный последователь. Его поэзия вновь обретает человеческую индивидуальность, ставшую особенно заметной в стихах, связанных уже не условно-биографическим единством, а единством авторского сознание.
«Дарование его в последнее время замечательно созрело,- писал П. А. Вяземский,- прояснилось, уравновесилось и возмужало». Он отмечает, правда, одностороннее, «преобладательное» направление языковской поэзии в эту пору, но с этой односторонностью справедливо связывает и силу воздействия его стихов.
Очень интересна чисто пейзажная лирика Языкова тех лет, вернее несколько стихотворений, в которых поэт как бы прячет свою эмоцию за объективной картиной изображаемого (например, элегия «На горы и леса легла ночная тень...», «Вечер»).
Оба эти стихотворения посвящены одной и той же теме - вечеру летнего дня, рисуют его в сходных красках и пронизаны одним чувством. Это какая-то торжественная умиротворенность, внутреннее приятие неизбежной и прекрасной кончины прекрасного дня.
Торжественная интонация, лаконизм, самый характер эмоции придают этим стихотворениям особую значительность, почти философичность, хотя они нисколько не философичны.
На первый взгляд, Языков здесь очень близко подходит к Тютчеву, но только на первый взгляд,- чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить «Элегию» и «Вечер» Языкова с «Летним вечером» или «Под дыханьем непогоды...» Тютчева. Ни тютчевский пантеизм, ни философское осмысление мира, ни его тревожный космизм, ни яркая метафоричность, наконец, не свойственны Языкову.
Прошедший школу гармонической точности Языков редко прибегает к метафорам, а тем более к их реализации. И если он говорит о дне, что он улыбается, то это не художественная метафора, а скорее языковая. В следующей же строке от предполагаемого олицетворения не остается и следа: день этот не умирает, он просто кончается, как кончается любой день.
Больше оснований есть для сближения «Элегии» и «Вечера» с «Вечером» Тютчева 1826 года («Как тихо веет над долиной...»). Как и у Языкова, в этом стихотворении нет открыто сформулированной мысли или названного чувства. Нет тут и метафоричности. Однако и здесь резко ощущается принципиальное различие двух поэтов. Не говоря уже о характере эмоции, следует признать, что у Тютчева она выражена намного определеннее в образной системе стихотворения. Эпитеты Языкова гораздо нейтральнее по отношению к собственной эмоции, менее сдвигают объективную картину мира в сторону субъективного восприятия.
Рядом с этими оригинальными стихами, по праву входящими в золотой фонд русской лирики, в языковском творчестве заграничного периода есть значительное количество произведений равнодушных, композиционно рыхлых и прозаических. К ним относятся опыты описательной поэзии (в качестве самостоятельных произведений и в составе посланий), например «К Рейну», «К. К. Павловой» («Забыли вы меня! Я сам же виноват...»), «Песня балтийским водам» и целый ряд посланий, на которых приобретенные Языковым эпические навыки сказались отрицательно.
Эти неудачи в значительной мере заслонили серьезные поэтические достижения Языкова в ту пору. Только Вяземский, как уже говорилось, и Гоголь заметили его возросшее мастерство. Но Гоголь при этом не принял ни содержания, ни направления, по которому развивался Языков. 1 С его точки зрения, не пушкинский, а державинский путь надлежало ему избрать. Гоголь по-прежнему ждет от Языкова произведений гражданских, наполненных от сердца идущим чувством, способных, как прежде, волновать читателей.
Характерно, что, предлагая Языкову «предметы» для его стихов, Гоголь, по существу, перечисляет темы уже некрасовской поэзии.
С Гоголем Языков встретился впервые 30 июня 1839 года в Ганау. И с этих пор начинается их тесная дружба, несомненно игравшая большую роль в последние годы жизни поэта. Зиму 1842/1843 года они проводят вместе в Риме и строят планы дальнейшей совместной жизни в России. Однако летом 1843 года Языков, отчаявшись в выздоровлении (у него обнаружилась сухотка спинного мозга), уезжает в Москву один, и с этих пор они больше не видятся, их связывает только интенсивная и очень интимная переписка. Гоголь входит в подробности жизни больного Языкова, пытается пробудить в нем вдохновение, разрабатывает темы для его стихов и предлагает целую систему, как бы мы теперь сказали, аутотренинга (которую измученный Языков с благодарностью принимает).
Из-за границы Языков вернулся в самый разгар боев между славянофилами и западниками и вскоре принял в них непосредственное участие. Его окружение, симпатии и даже родственные связи 3 в эту пору уже целиком славянофильские.
«Споры возобновлялись на всех литературных и нелитеоатурных вечерах, на которых мы встречались,- говорит об этом времени Герцен,- а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу - у Свербеева, в воскресенье - у А. П. Елагиной». 4 По вторникам сходились у Языкова.
Поначалу бывали у него и Т. Н. Грановский, и Герцен. Языков писал родным восторженные письма о лекциях Грановского, сожалел, что не может на них побывать. Но вскоре борьба между двумя лагерями приняла такой ожесточенный характер, что дружеские связи между ними оборвались.
IB 1844-1845 годах были написаны полемические послания Языкова с грубыми выпадами против Чаадаева, Герцена, Грановского, Белинского, в которых прогрессивный лагерь обвинялся в умственном разврате и измене русскому народу. Языков не брезговал здесь прямой бранью по адресу «ненаших».
В более высоком и отвлеченном роде, в стихах, посвященных назначению поэта и поэзии, Языков утверждал одновременно, что поэт «в годину страха и колебания земли» призван указывать путь спасения в вере («Землетрясенье»), и призывал беспощадно мстить «филистимлянам» («Сампсон»).
Ожесточение, озлобленность, обвинения, похожие на донос правительству, неприятно поразили даже единомышленников и друзей поэта. А. М. Языков утверждал, что стихотворение «К ненашим» вызвано духом «партии» и что писать его «в таком полемически пристрастном духе вовсе не следовало». Неодобрительно отнеслись также к полемическим посланиям Языкова К. С. Аксаков, К. Павлова, Свербеев.
Даже Гоголь, восторженно встретивший «Землетрясенье», «К ненашим», «С. П. Шевыреву», замечал по поводу воинственного тона послания к К. С. Аксакову и Чаадаеву: «не вмешались ли сюда нервы?»
Он считает необходимым напомнить Языкову, что у западников, обвиняемых во лжи и предательстве, «нельзя назвать всего совершенно... ложным и что, к несчастию, не совсем без оснований их некоторые выводы».
Между тем, вероятно, и Гоголь был косвенно виноват в «военнолюбивом расположении» стихов Языкова. Он чрезмерно хвалил «Землетрясенье» и «К ненашим», призывая поэта продолжать в том же духе: «Нужно, чтобы стихи твои стали так в глазах всех, как начертанные на воздухе буквы, явившиеся на пиру Валтасара, от которых все пришло в ужас прежде, чем могло проникнуть в самый смысл».
Языков не был идеологом славянофильства, его участие в нем было прежде всего эмоциональным. Эмоции эти подогревались и фанатизмом идейных вождей движения, в первую очередь П. В. Киреевского, и нетерпимостью П. М. Языкова, но также и тем «физиологическим», по выражению М. К. Азадовского, национализмом, той ненавистью ко всему чужеземному, главным образом немецкому, которые пробудило в Языкове длительное подневольное пребывание на чужбине (сначала затянувшийся Дерпт, потом Австрия, Германия).
Для демократического лагеря Языков становится настоящим идейным врагом. Герцен и Белинский отвечали на его послания резкими статьями.
В первой половине 1840-х годов имя Языкова постоянно упоминается Белинским неодобрительно. Когда же вышла вторая книга стихов поэта («56 стихотворений Н. Языкова». 1844), Белинский в статье «Русская литература в 1844 году» выступил с характеристикой идейного и художественного значения всего его творчества. Приговор Белинского был суров: он называет поэта «заживо умершим талантом».
Целью Белинского было показать - в противовес неумеренным славянофильским восхвалениям и надеждам,- что размеры дарования Языкова и его значение в русской поэзии весьма ограничены и давно уже полностью определились^ Признавая оригинальность таланта Языкова, Белинский останавливается прежде всего на слабых сторонах его творчества. Исторической заслугой Языкова Белинский считает только поэтическую смелость, недостатки же видит в отсутствии глубокого содержания, в ложности чувств и красок, в риторике и холодности, а также в неряшливости языка, выдаваемой за оригинальность.
Последний пункт был далеко не последним по значению. Друзья и соратники Языкова особенно настаивали на меткости, силе и звучности его языка. С. П. Шевырев утверждал, например, что «поэзия русского языка в стихе была открыта» Языкову «до высшей степени совершенства. Это достоинство маловажно в глазах тех недальновидных, которые едва ли понимают, что такое язык, этот таинственный образ всего народа, и вместе с ним готовы отвергнуть и самый народ». 3 Совершенное владение русским языком, глубокое постижение его духа приписывали Языкову также И. Киреевский и Гоголь.
Между тем большинство посланий Языкова второй половины 1830-х - начала 1840-х годов было полно выражений не столько смелых, сколько безвкусных, фальшивых, хвастливо простонародных. Он оказывается в одном лагере с теми поэтами, которые вульгаризировали пушкинский принцип демократизации поэтического языка, отказываясь и от соблюдения норм его, и от подлинно народных источников его пополнения (они обращаются преимущественно к бытовому интеллигентскому и мещанскому просторечию).
Таким образом, вопрос о языке поэта перерастал в вопрос о народности его поэзии. Поэтому Белинский в своей статье особо подчеркивал фальшивую, ухарскую интонацию языковских стихов, их «простонародничанье», вызванное желанием поэта во что бы то ни стало быть народным. В этом же плане пародировал Языкова и Некрасов («Послание другу из-за границы»). Белинский полностью, с соответствующими подчеркиваниями перепечатывает послание Языкова к Погодину («Благодарю тебя сердечно...»), изобилующее такими выражениями, как «подареньице», «стакан стихов» и т. п.
Третья книга стихов Языкова («Новые стихотворения». 1845) ничего не изменила в оценке Белинского.
Поворот от вольнолюбивых идей к объективно реакционным совершился в Языкове незаметно для него самого. Он и в 1840-е годы полагал, что стоит на прежних позициях, что защищает «правое», «чистое», «святое дело» - обороняет русский народ от тех, кто его развращает, а затем предает. Он не отдавал себе отчета в том, что давно уже поддерживает то самое самодержавие, против которого выступал в 1820-е годы и которое продолжало не нравиться ему. Когда Вяземский в 1846 году предложил Языкову написать стихи в честь «высочайшей особы», тот решительно отказался: «Не могу, не умею, силы моей не хватает, духу не достает».
«Языков не мог удержаться сознательно на этой высоте, на которую его поставило непосредственное чувство,- писал Добролюбов,- у него не доставало для этого зрелых убеждений и просвещенного уменья определить себе ясно и твердо свои стремления и требования от своей музы».
В 1847 году, сразу после смерти Языкова, П. А. Вяземский попытался определить причины его «драмы» с иной, психолого-биографической точки зрения.
В качестве таких причин он не без основания называет лень души и «ленивую судьбу» Языкова, разумея под этой ленивой судьбой жизнь, в которой мало было разнообразия «во впечатлениях, мало побуждений и вызовов на деятельность».
Отсюда проистекает, по мысли Вяземского, преимущественно лирический характер поэзии Языков. «Не в даровании его мало было гибкости и разносторонности, а в уме и привычках жизни. Разнообразные явления действительности не могли отражаться в его вымыслах потому, что поэтическое зеркало его обращено было ясною, восприимчивою стороною своей ко внутреннему и личному миру поэта, а тусклою и непроницаемою ко внешним впечатлениям. Ему лень было переворачивать это зеркало, поэтому стих его... мало касался современности... Поэзия его не имела драматических свойств вечно изменяющейся жизни человека и общества», она «была лично и внутренне лирическая».
Вяземский раскрывает это положение, определяя существенную особенность языковского лиризма: в поэзии его «отзывались первобытные и вековечные глаголы природы», то есть простые человеческие чувства. Этой особенностью Вяземский объясняет и силу воздействия языковского лиризма на читателя: «Зато и стих его часто западал в душу своим многозначительным и огненным выражением». 4 Часто западал... Но часто и не западал. Сам Вяземский в той же статье пишет, что «поэт в полном значении, но творческая, но духовная сила разве изредка, и то мельком, проявлялась» в стихах Языкова.
И в этом отношении, надо признать, критика формулировала свои претензии к Языкову (в периоды его творческого спада) почти идентично: отсутствие индивидуальности, то есть души (Кс. Полевой); риторизм, холодность (Белинский); восторг, никуда не обращенный (Жуковский); потеря лиризма, этой глубокой истины души (Гоголь). Об этом в сущности, «от обратного», говорил и Боратынский, восхищаясь «Воспоминанием об А. А. Воейковой»: «Вот, что мне внушило твое послание, исполненное свежести и красоты, и грусти, и восторга. Мало одного таланта, чтобы писать по-своему, надо быть вдохновенным сердцем и наличного жизнью».
Ситуация возникает парадоксальная: что, казалось бы, должен изображать поэт, которого жизнь не особенно балует впечатлениями и который сам не стремится их вбирать, как не свою собственную «душу», отражающую вековечную природу человека? И вот оказывается, что именно душу-то, сердце он раскрывает не слишком часто.
Думается, что объясняется эта ситуация весьма неблагоприятным для Языкова обстоятельством - скрещением индивидуальных свойств его психического склада с особыми воззрениями на соотношение личности поэта и его творчества.
Дело в том, что Языков не только неохотно, «лениво» вбирал в себя впечатления от действительности, но и не склонен был к откровенности, даже в стихах. Мешала, вероятно, языковская «добродетель» (как шутил поэт) - застенчивость. Языков был закрытым человеком. А. М. Языков, брат и ближайший друг поэта, постоянно жалуется, что в своих письмах Языков холоден и поверхностен. Сам же Языков, например, был очень смущен, почти шокирован, когда Александр Михайлович, томясь от отсутствия разумной деятельности, спросил у него, что делать: «Ты поставил меня в большое затруднение, ввел в обстоятельства тонкие, приделал к делу трудному, важному, собственно твоей голове принадлежащему. Но все-таки мне очень и очень приятно отвечать тебе на то, чего гораздо скорее мог бы ты допроситься у самого себя, говорить с самим собою о тебе же и проч. и проч.». Даже подобный вопрос Языков, очевидно, считал интимным и потому не подлежащим стороннему рассмотрению.
Кроме того, поэзия для Языкова не излияние души и сердца, не результат «наличной жизни», а исключительно дело воображения.
Известно, что он уверял, например, П. Киреевского, что «все, и не видавши, можно себе вообразить», и умудрялся воспевать красавиц, которых в глаза не видел.
В письмах из Дерпта он часто старается отделить себя от своих стихов, редупреждая, что следует различать, где в них дух божий, а что от лукавого. Действительно, было бы ошибкой судить о переживаниях поэта по многим его стихотворениям: они не всегда отражают «наличную жизнь» и продиктованы «вдохновенным сердцем». (А когда в основе этих стихотворений лежит чувство «напущенное», мы воспринимаем их как холодные.)
Такая позиция была явно унаследована Языковым от рационалистической поэтики классицизма. И роль этой позиции в поэзии Языкова, принадлежащей уже другой, романтической, эпохе, вряд ли можно признать положительной. .
Нужны были очень сильные внешние воздействия, вызывавшие сильный внутренний отклик у Языкова, для того, чтобы в стихах его проявились подлинные, а не воображаемые чувства. «Нет искренности»,- говаривал ему еще первый учитель, Марков.
Отрицательное воздействие указанных обстоятельств на творчество поэта усугублялось еще и тем, что он, в отличие от Боратынского или Тютчева, например, не был поэтом мысли.
Когда ему удавалось эмоционально наполнить свои произведения, это было именно непосредственное и сильное чувство, так сказать, простое, то есть не осложненное ни рефлексией, ни, как правило, философским осмыслением жизни.
В этой цельности и простоте чувства в соединении с «огненным выражением» и была сила поэзии Языкова, но в этом же была ее слабость. Когда в его стихах не было подлинного чувства, он становился «поэтом выражения».
В жизни Языкова, однако, были целые эпохи, которые заставляли его сердцем откликаться на внешние события. Этот сердечный отклик продолжает волновать читателя.
Мы ценим и помним его песни («Пловца» в первую очередь), политическую лирику, прекрасный пушкинский цикл с его «Тригорским», послание к Денису Давыдову («Жизни баловень счастливый...»), мы благодарны ему за строки, посвященные природе (такие, например, как описание грозы в Трнгорском, «Ручей», «Весна», «Вечер» и проч.). Не могут нас оставить равнодушными также «Воспоминание об А. А. Воейковой» и стихи, посвященные цыганке Тане.
Диапазон чувств, выраженных поэтом, быть может, не слишком широк, и произведений, где сказались они, не так много, меньше, чем следовало бы по таланту Языкова и чем нам хотелось бы, но они настоящие.
Русской поэзией были усвоены и художественные достижения Языкова, сыгравшего заметную роль в развитии русской лирики, ее метрики, поэтического словаря, в формировании торжественного стиля. Его поэтической смелости, энергии стиха, владению песенными ритмами можно учиться и в наши дни.