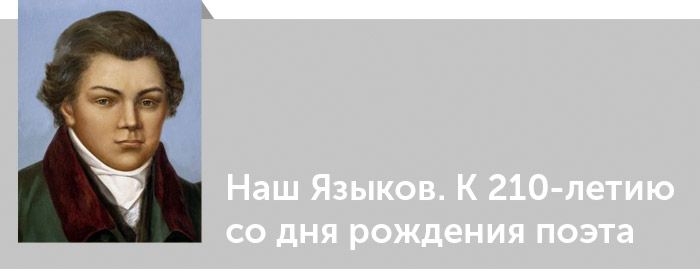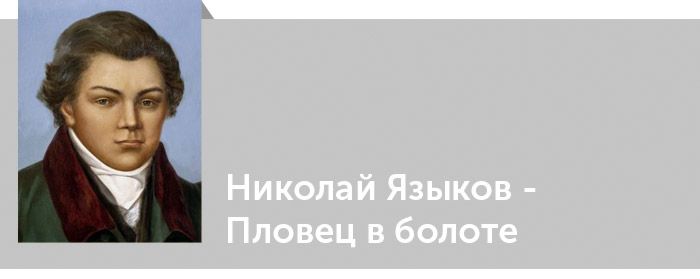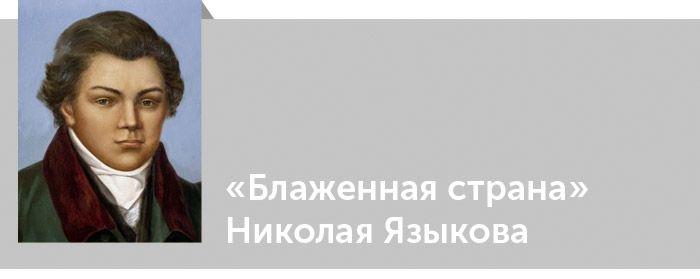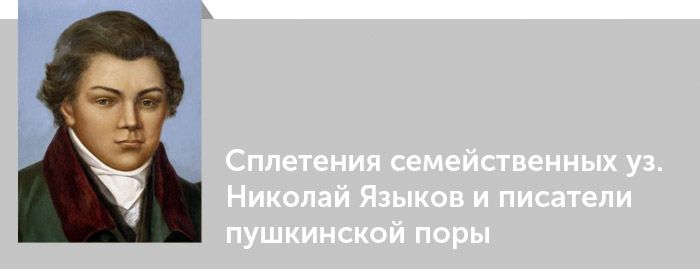О творческой эволюции Н.М. Языкова

Хан Е.И.
Крупные поэты пушкинской поры, полногласно заявившие о себе в 20-е годы (если не раньше) и сохранившие творческую активность в последующий период, прежде всего в 30-40-е годы XIX в., перешагнули на своем пути некий исторический рубеж, расстались с одной эпохой и вошли в другую, более сложную. Каждый из них пережил это по-своему.
В общей картине это можно выразить так. 10-20-е годы: поэт окружен сочувственно внимающей ему аудиторией, он на виду, прославлен, ему многое удается – вплоть до того, что иной средний талант способен подчас блеснуть гениальностью... 30-е-40-е годы: поэт одинок, ходит молва об оскудении его дарования, он болезненно переживает охлаждение к нему публики, хотя впрочем, находятся и такие ценители, которые считают, что талант поэта мужает и углубляется, а мастерство совершенствуется, вопреки общепринятому мнению.
Такое положение вещей выглядит естественным и на широком историческом фоне (была эпоха подъема освободительного движения – наступила эпоха реакции), и просто в житейском смысле (были молодость и здоровье – теперь увядание и болезни). И все сказанное – с необходимостью, конечно, в каждом конкретном случае что-то прокорректировать и уточнить – небезотносительно к поэтическим судьбам В. А. Жуковского, П. А. Катенина, А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, И. И. Козлова, Е. А. Баратынского, Н. М. Языкова и др.
Речь пойдет о Языкове. Хотелось бы поставить вопрос следующим образом: когда по-настоящему расцвел его талант – в 20-е годы или позже? Такой вопрос, по существу, возник уже при жизни поэта. Известна на этот счет точка зрения В. Г. Белинского, признавшего заслуги раннего Языкова-романтика и заклеймившего его творчество последующего периода. Известно и противоположное мнение, разделяемое славянофилами.
В «Былом и думах» А. И. Герцена есть отзыв о Языкове как о «некогда любимом поэте, сделавшемся святошей по болезни и славянофилом по родству»; Герцен в данном вопросе поддерживает Белинского и спорит со славянофилами. Для дальнейших поколений стихи Языкова – а вместе с ними и проблема выбора: что в них предпочесть? – вообще потеряли свою актуальность. Так, для П. Ф. Якубовича-Мельшина, составившего антологию «Русская муза», равно неприемлемы ни мажорность и гедонизм романтической языковской лирики 20-х годов, ни «ханжество и квасной патриотизм» позднего Языкова (исключения сделаны лишь для некоторых «идейных» стихотворений и выразительных пейзажных зарисовок).
Советские исследователи вернулись к этой проблеме, причем решали ее неодинаково. К. К. Бухмейер считает «счастьем», что никто, даже сам поэт, не в силах зачеркнуть сделанного им в 20-е годы, поздний же период характеризуется как отступление от передовых позиций. В. И. Кулешов свою статью о Языкове назвал «На гребне и на спаде волн», имея в виду под «гребнем» 20-е годы, а под «спадом»– завершающий этап творчества поэта.
В литературоведении имеется и противоположная точка зрения, по существу продолжающая линию славянофильства в оценках Языкова. Сошлемся хотя бы на книгу И. Н. Розанова о поэзии 20-х годов прошлого века. Ее автор причисляет Языкова к крупнейшим поэтам, привлекавшим к себе внимание в 20-х годах, но не посвящает ни ему, ни Баратынскому специального раздела. «30-е годы внесли в поэзию совершенно новые устремления, – отмечает он. – Рылеев и Дельвиг до них не дожили. Давыдов и Козлов на эти новые устремления почти не откликнулись. Характер творчества Баратынского и Языкова значительно изменился: оно стало более сложным. Вот почему двух последних удобно рассматривать в связи с последующей эпохой». Итак, языковское творчество в 30-е годы «стало более сложным» – значит, поэт вырос? На наш взгляд, высказывание И. Н. Розанова следует понимать именно в этом смысле.
В. В. Кожинов в книге «Как пишут стихи» сожалеет, что Языков недооценен читателями как поэт, объясняя это, в частности, тем, что любое издание его стихотворений открывают многочисленные ранние стихи, написанные в возрасте 17-23 лет, еще недостаточно зрелые. И многие просто «не добираются» до золотого фонда языковской поэзии – здесь исследователь называет в качестве лучших несколько стихотворений 30-40-х годов. Заметим, однако, что именно в возрасте до 23 лет Языков создал ряд стихотворений, по-видимому, недооцененных В. В. Кожиновым.
И почему речь не идет о второй половине 20-х годов, не менее плодотворных годах? Ведь Языков выступил в 30-е годы, будучи уже автором вершинного своего стихотворения – «Пловец» (1829). Но как бы то ни было, ясно одно: В. В. Кожинов отдает предпочтение позднему Языкову, следуя тем самым традиции славянофильства и в то же время смыкаясь с точкой зрения И. Н. Розанова.
Современники не могли не чувствовать, что возникает целый поэтический мир, своеобразный и самобытный, – в литературу пришла «студентская» муза Языкова. 30-е и 40-е годы эту музу – именно как «студентскую» и полюбившуюся определенному кругу читателей – ничем новым особенно не прославили. Приходилось привыкать к другому Языкову, а прежний будто бы остался в 20-х годах. Все это говорит о том, что 20-е годы для Языкова – не только начало поэтического пути (первые стихотворения датированы 1819 г.), но в подлинный расцвет дарования.
Но вот заканчивается дерптский к начинается московский период. Студенческие кутежи, вольнодумство – все осталось в прошлом: в лирике рубежа 20–30-х годов и далее время от времени слышатся лишь отголоска прежних мотивов, и, как правило, их роль – подчеркнуть контраст между тем, что было, и тем, что стало. Новый Языков «трезв», задумчив, серьезен, чувствования и переживания теперь глубже, чем раньше; меньше удальства, но больше человечности. Все это накладывает особый отпечаток на поэтическое творчество нового периода.
Интимная лирика обретает несколько иную тональность. Возросшая духовность поэта отнюдь не исключает былого эротико-гедонистического начала, но в целом звучание любовных стихов намного усложняется и обогащается, вобрав в себя весь зрелый опыт пережитого и переживаемого, гамма чувств и страстей становится полногласной и как бы стереофоничной: тут и реминисценции бурных молодых восторгов, и воспоминания о невозвратных потерях, н щемящие ноты тоски, разлуки, и нежность, и надежда на счастье.
Насколько все в этом отношении было проще и примитивнее в Дерпте! Но с тех пор многое переменилось: смерть женщины, которую Языков любил, начавшийся недуг, внесший в жизнь поэта мучения и разлад, – все это мало располагало к легкой, изящной и бездумной эротике, которой в 20-е годы Языков-лирик нередко отдавал дань. Впрочем, сгущать мрачные краски пока не приходится. Начало московской жизни для Языкова было связано и с целым рядом отрадных впечатлений, это чувствуется и по его любовной лирике. Она поистине многомерна, несводима к какому бы то ни было одному доминирующему тону – печальному или радостному, плотскому или духовному. Имеются в виду хотя бы такие стихотворения, как «Весенняя ночь», «Ау!», «Воспоминание об А. А. Воейковой».
В поэтическом мироощущении и мировоззрении Языкова московского периода наметилась некая оппозиция вечных, непреходящих ценностей по отношению ко всему временному. В числе первых – семисотлетняя Москва, с золотыми крестами над древними соборами, твердыни стен и башен, сердце России, величавый символ народного бессмертия, источник неиссякаемой жизни и неиссякаемого вдохновения.
Москву Языков полюбил еще больше, чем свою родную «матушку Волгу». И бывший дерптский бурш начинает славить в своих стихах древнюю белокаменную столицу Руси, главным образом ее старину. Это естественно подготавливало и предваряло последующее пламенное приятие Языковым идей славянофильства. И едва ли следует удивляться тому, что путь к славянофильству проделал человек с немецким, дерптским образованием, в котором «западнического» было гораздо больше, чем «славянофильского».
Такими своего рода «западниками» были многие славянофилы на том или ином этапе их деятельности: И. В. Киреевский пробовал издавать журнал «Европеец» (совсем не то, что впоследствии «Москвитянин»!), А. С. Хомяков изучал древних римлян, П. В. Киреевский учился в Мюнхене и был превосходным знатоком истории и культуры Запада, К. С. Аксаков увлекался философией Гегеля и немецкой поэзией – а между тем это цвет русского славянофильства. И Языков в этом смысле не исключение.
Славянофильство Языкова – большая историко-литературная проблема. Тут много спорного и сложного, и мы, конечно, не можем претендовать на безошибочность суждений по данному поводу.
Однако хотелось бы снять с поэта хотя бы часть обвинений, которые в этой связи принято ему предъявлять. Выше уже шла речь о распространенном мнении, согласно которому Языков, сделавшись «святошей», чуть ли не ханжой, изменил тем самым идеалам своей юности, своему былому вольнолюбию 20-х годов. В резкой поэтической полемике Языкова с западниками усматривается гнусный политический донос, взмах «полицейской нагайки». Вполне ли это справедливо?
Новая программа Языкова намечается уже в стихотворении «Ау!» (1831). Там, в частности, есть такие строки:
О, проклят будь, кто потревожит
Великолепье старины,
Кто на нее печать наложит
Мимоходящей новизны!
Четверостишие это предваряет последующие выпады Языкова в адрес западников. Если бы эти же слова прозвучали в 40-е годы, ни у кого не возникло бы сомнений относительно того, на чьи головы Языков обрушивает свои проклятья, кого имеет в виду: конечно же, Белинского, Герцена, Чаадаева, Грановского – словом, западников. Но это 1831 год, до полемики славянофилов с западниками пока далеко. И тем не менее – слово сказано и с каким запалом!
Далее. Можно ли видеть во всем этом, и в частности в приведенных строках, измену идеалам свободолюбия? Оплакивая в 1826 г. смерть Рылеева, Языков писал об огневых искрах свободы, которые называл «убранством наших дней». А через пять лет – инвективы, как будто брошенные в лицо самым передовым людям России. Но, «по размышленьи зрелом», никаких противоречий мы здесь не обнаружим. Обратим внимание на слова «наших дней»: искры свободы, в понимании Языкова, – ценность временная, преходящая, измеряемая днями, а не столетиями. Другое дело – «великолепье старины», которое сияет до сих пор и будет еще сиять века, – это уже ценность вечная и непреходящая.
Кроме того, стихотворение «Ау!» отчасти продолжает традицию поэзии декабристов. Оно созвучно стихам К. Ф. Рылеева из поэмы «Войнаровский»: «Я не люблю сердец холодных: /Они враги родной стране,/ Враги священной старине...» Кто же в этом отношении ближе к декабристской поэзии – западники или Языков вместе со славянофилами? Очевидно, славянофилы.
В процессе работы над циклом «Ненаши» Языков написал элегию «Есть много всяких мук – и много я их знаю». На нее хотелось бы обратить особое внимание, поскольку здесь схвачено нечто такое, что не было доступно прекраснодушному удальцу, каким казался и в значительной мере был Языков в 20-е годы.
Тяжелая, разрушительная болезнь отразилась, по всей видимости, и на психике поэта. В Германии, в годы лечения, его, как описано позднее в элегии, посещал некий призрак – не то демон, не то двойник, а может, и то и другое вместе (ситуация Фауста, Ивана Карамазова и особенно Адриана Леверкюна). Являвшийся поэту черт был «неуклюж, и рыж, и долговяз», «томитель» и «надоедник». Он приносил больному поэту стихи. (Известный мотив: демон подсказывает поэту стихи, с тем чтобы тот выдал их публике как свои собственные.) От этого бесовского наваждения больного спас врач, которого Языков метко называет «восстановитель мой». В самом деле, вернуть единство и целостность раздвоенному сознанию – это и означает «восстановить» его.
В литературную эпоху 30-40-х годов распространяются мотивы рокового двойничества. Им отдал дань Н. В. Гоголь, двумя годами позже языковской элегии появилась повесть Ф. М. Достоевского «Двойник». Языков не кому-нибудь, а именно Гоголю писал по поводу своей элегии: «Не всякий может оценить ее достоинство, тут нужен взгляд знатока, но ты, мой любезнейший, должен отдать ей должную похвалу, ты, который умеешь крепко ограждать себя от надоедников и который истинно геройски защитился от предмета этой элегии!» Впрочем, надежды Языкова не оправдались.
Гоголь вообще неодобрительно относился к тем стихам поэта, в которых нашли отражение его «скучания среди немецких городов», и эту элегию скорее всего отнес к их числу. Таинственный визитер, мучивший Языкова своей назойливостью, – немец: «И немец, и тяжел...» Это понятно: событие не случайно происходит в стране Гете, Фауста и Мефистофеля.
Любопытно, что комментаторы пробовали угадать: кого же все-таки имел в виду Языков, какого докучливого стихотворца? И естественно, этого «установить не удалось».
«Языков и Германия» – тема обширная. Ее истоки уходят в ранний, дерптский период, когда русский поэт серьезно изучал культуру Германии, его произведения часто переводились на немецкий язык, он поддерживал дружеские связи и временами шутливо ссорился с «молодою немчурой» Дерпта.
Затем – злобные выпады по адресу «немчуры» со стороны Языкова-славянофила. Далее – демонологический этюд 1844 г. и сопутствующие ему германские ассоциации, придавшие особый колорит рассматриваемой элегии.
Последнее произведение Языкова – «Липы», поэма с жанровыми чертами стихотворного фельетона и физиологического очерка, написанная за несколько месяцев до смерти поэта. Один из главных героев поэмы – немец, аптекарь Кнар. Он, его семья, их ближайшее окружение (тоже немцы Поволжья: ремесленники, чиновники, военные) обрисованы тепло и сочувственно, без какой бы то ни было славянофильской неприязни. В центре внимания автора – печальная судьба семьи Кнара, пострадавшего от произвола сильных мира сего, власть имущих. Языков обратился к теме «маленького человека», столь волновавшей писателей натуральной школы в 40-е годы.
Это сближение с традициями натуральной школы характерно не только для Языкова, но и для некоторых других поэтов, переживших романтическую эпоху 20-х годов (В. К. Кюхельбекер, П. А. Катенин).
Поэма «Липы» подводит своеобразный итог творческим отношениям Языкова и Пушкина, складывавшимся еще в 20-е годы. Это было время оживленных контактов между двумя поэтами – встречи, споры, обмен дружескими посланиями. Отзвук стихов Языкова слышался в лирике Пушкина, совпадали целые строки в их стихотворениях («Молю святое провиденье», «Под голубыми небесами»). Пушкинский Ленский писал «темно и вяло» – в этом же, точно в таких выражениях, обвинял себя самого Языков («Мой Апокалипсис»). Оба поэта воспевали Тригорское. Есть и другие соответствия. Но били и расхождения у Языкова с Пушкиным. Как известно, Языков несочувственно относился к «Евгению Онегину», считая его рифмованной прозой. Для нас в данном случае важно не то, что это мнение ошибочно, а другое. По-видимому, Языков своего мнения не изменил до конца жизни, но отношение его к «рифмованной прозе» резко переменилось, о чем и свидетельствует поэма «Липы». Она написана онегинской строфой, хотя и пятистопным, а не четырехстопным ямбом, причем в манере, которую раньше Языков себе не позволил бы, видя в этом большой недостаток. Вот несколько характерных в этом отношении строк:
Сапожник, и жена его Бригита Богдановна, и дочь их Маргарита...
Эти антипоэтизмы – демонстративный шаг к «рифмованной прозе». Языков, приблизившийся к натуральной школе, теперь смотрел на вещи иначе. Для современников это осталось незамеченным: поэму «Липы» запретила цензура, она увидела свет лишь в 1859 г., много лет спустя после смерти поэта.
По «восходящей» или «нисходящей» линии развивалось творчество Языкова? Вопрос спорный. Важно учитывать многогранность личности поэта и сложность, противоречивость его творческого пути. И если говорить не только о взлетах, но и о падениях Языкова, то необходимо иметь в виду, что эти падения приближали его к тем глубинам, которые были бы ему недоступны при равномерном поступательном движении вперед, без срывов и заблуждений. Гладкого пути, очевидно, не было.
Л-ра: Филологические науки. – 1979. – № 4. – С. 27-31.