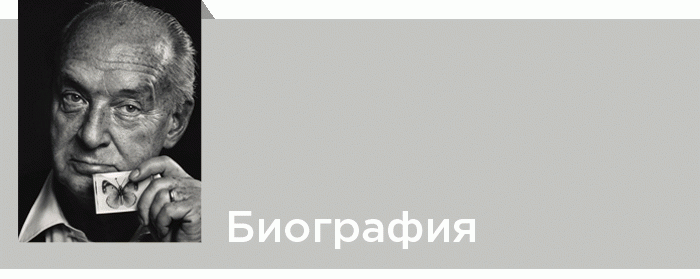Верность традиции (Рассказы В. Набокова 20-30-х годов)
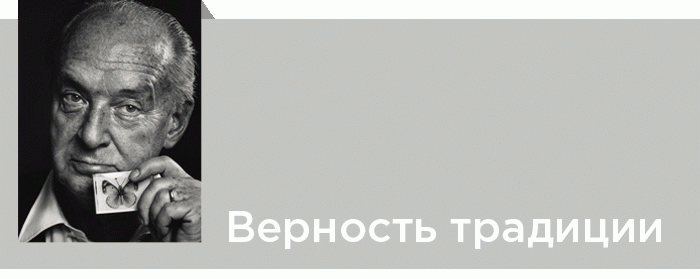
А. Мулярчик
Как бы ни восторгались наши современники, знакомясь с ранними романами В. Набокова «Машенька» и «Защита Лужина», и какими бы достоинствами ни были отмечены его юношеские пробные переводы из Р. Роллана и Л. Кэрролла, можно с полным правом утверждать, что Набоков-прозаик, наследник и ревнитель высокого, отстоявшегося к началу XХ века русского литературного слога, начинается все-таки с рассказов. Первые из достаточно зрелых — «Случайность», «Месть» и «Слово» — были написаны еще в 1923—1924 гг. Далее последовал своеобразный лирический цикл, предпринятый в качестве эскизов для так и не законченного романа «Счастье» и в конечном счете отозвавшийся на некоторых страницах «Машеньки» (1926). А затем, вплоть до переезда из Берлина в Париж, жанр рассказа сделался неотлучным спутником набоковского таланта. В 1930 году выходит в свет сборник «Возвращение Чорба», восемь лет спустя — сборник «Соглядатай».
Читателям «Литературной учебы» известны основные факты биографии В. Набокова в период его европейской эмиграции между мировыми войнами. Вплоть до начала 30-х годов многие «подданные» русского зарубежья не представляли надежды на скорое возвращение на Родину и отказывались всерьез воспринимать свое новое окружение. Отношение к эмигрантам было, как известно, в разных странах различным. В Чехословакии, например, они пользовались покровительством высших государственных властей, а вот в Англии (в чем пришлось убедиться Набокову во время учебы в Кембридже) в лучшем случае господствовало вежливое безразличие.
Веймарская Германия и ее столица находились в этом смысле как бы посредине. После подписания с СССР Раппальского договора о сотрудничестве правительство взирало на мигрантов с известной настороженностью, хотя широкие круги общества были настроены более снисходительно. Многие русские, живя в те годы в Германии, фактически не знали немецкого языка и не терпели от этого особых неудобств. Уровень литературной активности в эмигрантской среде был достаточно высок, если не по тиражам, то по количеству публикуемых названий Берлин даже в начале нэпа мог выдерживать конкуренцию с Петроградом или Москвой.
Уже в ходе публикации первых рассказов, составивших затем сборник «Возвращение Чорба», в определенных эмигрантских кругах начало складываться мнение, что только Набокову, печатавшемуся под псевдонимом В. Сирин, удалось запечатлеть атмосферу и выразить настроения первого в истории России XX века «потерянного поколения», оторвавшегося от корней и вынужденного приспосабливаться к жизни на чужбине. Бывшему офицеру Никитину в рассказе «Порт» все женщины средиземноморского города кажутся русскими, повсюду слышится русская речь и даже собаки, похоже, думают по-русски. Ощущение тягостного бездорожья смягчено здесь лирической интонацией и выражено не с такой силой, как в новелле, давшей название всему сборнику. Некто Чорб, которого можно считать «человеком ниоткуда», не просто одинок и убит горем. По русскому обычаю он стремится выбить клин клином, но привычный расчет не срабатывает. Сложное сплетение психологических импульсов, разрешающихся в духе своего рода «эстетики молчания», дополняет и усиливает драматическую первопричину конфликта.
Большинство набоковских рассказов 20-х годов едва ли не «напрямую» связаны с прозой Бунина, Куприна, Зайцева, но особенно с Чеховым лучшей, на мой взгляд, поры его творчества — конца 1880-х годов, когда, еще не подорвав свои силы поездкой на Сахалин, он выступил автором «Верочки», «Свирели», «Именин», «Поцелуя». Как-то мимоходом Набоков назвал всю эмиграцию «заблудившейся русской провинцией». Нежность захолустных будней, фиалочное мыло, дачные полустанки в березовом лесу — вот лишь мельчайшие частицы того, что удерживает и воскрешает на письме его память.
«Память — это я сам... память — мой двойник», — говорил он своему биографу Э. Филду в последние годы жизни в Швейцарии. Подобно зрелому Чехову Набоков не любил и не умел писать прямо с натуры. Сегодняшняя реальность важна для него прежде всего как будущее воспоминание. Словно бы прозревая, глядя через головы десятилетий, он так отзывался о целях своей литературной работы: «Мне думается, что в этом смысл писательского творчества — изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времен, находить в них ту благоуханную нежность, которую почуют только наши потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной...»
Эпитеты «прекрасный» и «праздничный», соотносимые Набоковым не только со своим предреволюционным, но и с «берлинским» опытом, не случайны и вполне соответствуют определенной фазе эволюции его мировосприятия. Легко заметить, что сборник «Возвращение Чорба» изобилует реминисценциями из Чехова. Рассказом «Катастрофа» как бы предлагался иной ход развития событий чеховской «Полиньки», в «Рождестве» возникали некоторые знакомые элементы сюжетики и предметного фона, а новелла «Подлец» варьировала содержание «Дуэли». Однако между двумя писателями имелось и более глубокое внутреннее соответствие. Та полнота существования и сознание возможности быть участником органичного движения жизни, которые у «сумеречного» Чехова подчас уходили на второй план в силу необходимости обличения всей «грязи», что неизбежно вовлекается в русло мощного потока, представали для молодого Набокова философскими аксиомами, краеугольными камнями его концепции мироустройства.
«Слушай, я совершенно счастлив, — признавался 25-летний прозаик в исповедальном «Письме в Россию». — Счастье мое — вызов. Блуждая по улицам, по площадям, по набережным вдоль канала, — рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, — я с гордостью несу свое необъяснимое счастье». Та же мысль не покидает и героев других его рассказов. «В этой тишине я заснул, ослабев от счастья, о котором писать не умею», — говорится в небольшом этюде «Гроза», а в новелле «Рождество» эта тема получает, пожалуй, даже слишком акцентированное, символическое выражение. Изнемогающему от горя отцу, который приехал в зимнюю усадьбу на похороны сына, внезапно является обыкновенное чудо. Внесенная в предрождественскую ночь в теплую комнату куколка из «насекомой коллекции» умершего мальчика вдруг превращается в прекрасную бабочку, и открывающаяся в этой метаморфозе прозрачная аллегория подобна живительному глотку кислорода для погибающего от удушья человека.
В противоположность утверждениям ряда критиков Набоков берлинской поры отнюдь не стремился отдалиться от «толпы», бережно охраняя от грубых прикосновений жизни запас «нетленных воспоминаний». Прямая линия гуманистического искусства, ведущая от «Станционного смотрителя» и «Бедных людей» к таким его рассказам, как «Картофельный эльф», «Катастрофа» и «Благость», несомненна. Но вслед за Достоевским Набокову уже ведомы таящиеся под личиной ординарности и даже благополучия глубины отчаяния. В датированной 1926 годом новелле «Ужас» писатель, по его собственному утверждению, сделанному незадолго до смерти, опередил на много лет «Тошноту» Ж.-П. Сартра и всю школу французского экзистенциализма.
Однако в отличие от позднейших экзистенциалистов писатель не бравирует, не упивается охватившим героя состоянием, а воспринимая его как нарушение нормы, как болезнь, которая может угрожать «несчастному сознания в любую минуту». Выздоровление все-таки наступило, чему повествователь был прежде всего обязан контакту с действительностью, хотя и в ее драматическом преломлении, через посредство «простого человеческого горя». Его предостережение прозвучало, и, по-видимому, не без умысла Набоков заключил именно этим рассказом самый светлый и безыскусный итог своей короткой прозы. «Время идет, — предупреждал он хотя бы только самого себя, — я знаю, что... пережитый однажды ужас, беспомощная боязнь существования когда-нибудь снова охватит меня, и тогда мне спасения не будет».
Откликаясь, словно эолова арфа, на различные дуновения, художественная натура Набокова прежде всего тяготела в его рассказах к реалистической поэтике. Едва ли не единственному среди эмигрантов 20-30-х годов ему удалось запечатлеть в них картины «закордонной жизни», отмеченной глубокой социально-психологической травмой и вместе с тем не лишенной ярких красок и собственного смысла. Оставаясь в основном в пределах частного быта, он создал богатую галерею образов, среди которых можно было встретить характерного для эмигрантских масс полуинтеллигента в неизменно продранных носках и бойких сластолюбцев, и почти идеальных барышень тургеневско-чеховского типа.
Пересечения двух миров — эмигрантского и советского — нечасты в прозе раннего Набокова, но не потому, что его вовсе не занимала эта тема. Эпизодические вкрапления на сей счет имелись в романе «Защита Лужина», но, пожалуй, впервые авторская позиция была отчетливо зафиксирована в рассказе «Встреча». Сближение двух братьев после десятилетней разлуки («Лев уехал, Серафим остался — и то и друг произошло совсем случайно») раскрывает драматизм разрыва человеческих, родственных связей с не меньшей силой, нежели иные широкоформатные полотна. Набоков отнюдь не горит желанием возвеличить в конец обнищавшего Льва за счет приехавшего в Берлин по внешнеторговым делам Серафима. Писательское сочувствие принадлежит им обоим, не взаимная глухота видится автором как выражение непоправимого разлада, пагубного для будущих судеб России.
Этические критерии и духовные ценности в нравоописательных рассказах Набокова — те же, что и у русской интеллигенции времен Чехова и Бунина. Главный его враг — это пошлость во всех ее разновидностях и проявлениях. Зато постоянен внутренний облик набоковских мечтателей, «горнорабочих сознания», как он их называет, «занятых людей» — в том смысле, что основным предметом их занятий служит исследование собственной души. Образ чистого душой «святого простака» явно восходит к романтической прозе, к гофмановским студентам и их собратьям по мировой литературе. Едва ли не зеркальной копией Ансельма из «Золотого горшка» предстает в рассказе «Совершенство» гувернер Иванов, всегда одетый в один и тот же заношенный черный костюм, который никогда не снимается, даже на пляже, по причине чрезвычайной ветхости прочего гардероба.
Но главное сходство, разумеется, в ином. Подобно романтикам XIX века набоковскому мечтателю в высшей степени свойственно думать о вещах, которые он «никогда не узнает ближе, о профессиях, которыми никогда не займется». Это стремление к перевоплощению посредством игры воображения, жажда «совершенного соприкосновения с миром» составляют главный нерв постоянно пульсирующего чувства в наиболее «личностных», субъективизированных рассказах. «Страстно хотелось все испытать, до всего добраться, пропустить сквозь себя пятнистую музыку, пестрые голоса, крики птиц, и на минуту войти в душу прохожего, как входишь в свежую тень дерева» — читаем мы в том же «Совершенстве». Так рождалась знаменитая набоковская формула «Я все понимал!», провозглашавшая отзывчивость на каждый миг бытия и утверждавшая горделивую уверенность истинного поэта в своем всемогуществе.
Л-ра: Литературная учеба. – 1989. – № 1. – С. 167-169.
Произведения
Критика