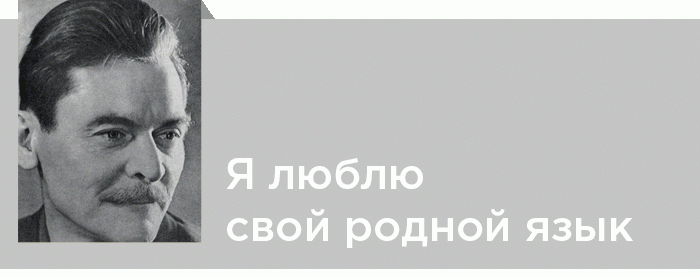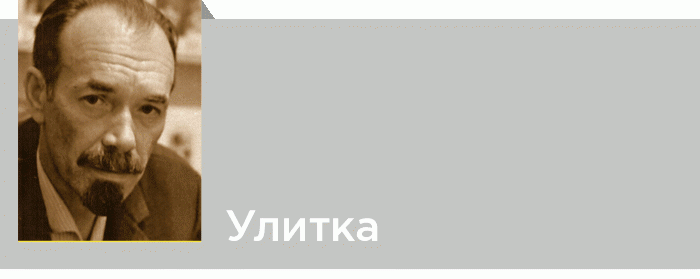Верность жизни, верность себе (Заметки о прозе Александра Яшина)

А. Кондратович
Наверное, на свете совсем немного, так сказать, «чистых поэтов», никогда не расстававшихся со стихотворной строкой. С годами ли, по зову ли внутренней необходимости многие переходили на прозу, а то подавались в драматургию и даже в критику. «Лета к суровой прозе клонят», — писал Пушкин, и это далеко не единственная причина, по которой поэты оставляли стих, обычно не навсегда, на время, но оставляли. И вряд ли нужно искать во всем этом какую-то многозначительную закономерность. По-видимому, все дело в том, что настоящий художник, в том числе и поэт, не может не искать, не опробовать новые возможности для более полного выражения своего жизненного опыта, а это естественнейшее из художнических желаний — сказать все, что ты можешь, миру о мире и о себе — и влечет на «новые земли». Кто же сомневается, что, скажем, прозе доступно то, что недоступно или малодоступно поэзии, например выявление всей полноты человеческих характеров или воссоздание многоразличных частностей быта и бытия, которые окружают, а то и составляют всю нашу жизнь. И как поэту не почувствовать таящееся в этих возможностях обещание творческого простора и однажды не потянутся к нему?..
Конечно, между возможностями и их реализацией — дистанция огромного протяжения. И в просторе можно заблудиться и ничего путного не найти. Случается, что, отправляясь в пределы прозы, поэт захватывает с собой весь свой поэтический инструментарий, хотя там требуется совсем иной, и тогда читатель получает то, что критики любят определять как «прозу поэта», то есть нечто смутное и расплывчатое, являющее собой и не прозу и не поэзию, а скорее потуги поэзии стать прозой, словесный разлив без серьезного жизненного содержания. Но, к счастью, бывает и иначе: поэт обретает в прозе неведомое ему дыхание, словно сам заново открывает самого себя, а вместе с ним дивится и читатель: о, да перед нами еще и первоклассный прозаик!
Не ошибусь, если скажу, что такое радостное удивление испытали многие читатели, когда в начале прошлого десятилетия появились первые прозаические произведения поэта Александра Яшина. Появились и сразу же прочно заняли свое особое место в нашей литературе. Об этом уже не раз писали. Иногда даже с преувеличением. Можно было прочесть, скажем, что одно время проза Яшина заслонила его поэзию. Думаю, что такого никогда не было, хотя бы потому, что как раз ко времени написания «Вологодской свадьбы» стихотворное творчество Яшина круто взмыло ввысь, стихи из-под его пера выходили одно лучше другого. Точнее и вернее было бы сказать: Яшин конца пятидесятых и начала шестидесятых годов раскрыл свои удивительные, еще не известные читателю возможности, и они не просто реализовались — в стихах, рассказах, очерках, повестях, — но и казались неисчерпаемыми, обещали нам еще многое, так и оставшееся неизвестным. Точно и горько сказал об этом В. Солоухин: «...Яшин действительно умер в расцвете творческих сил. Более того, я бы сказал, что он был, пользуясь охотничьим термином, сбит влет, — его сбила болезнь коварная и до сих пор не разгаданная медициной».
И здесь, чтобы лучше понять, как Яшин пришел в прозу, следует прямо, без обиняков, сказать о переломе в творчестве Александра Яшина, пришедшемся где-то на вторую половину пятидесятых годов, нисколько, разумеется, не умаляя того, что он сделал до этого, а сделал он и много, и хорошо. Да он, собственно, сам почувствовал такой перелом и сказал о нем в стихотворении с почти программным заголовком «Торжественное обещание» (
Давай же будем правдивыми И впредь Во всем До конца:
Бренчаниями фальшивыми. Писаниями хвастливыми Не разогреть сердца.
Во имя грядущего нашего Попробуем не приукрашивать
Ни мыслей своих, ни заслуг. Ни прошлого, ни настоящего.
Ужели не сможем, друг?
Из этого, конечно, непозволительно было бы делать слишком прямодушный вывод, что до той поры поэт кого-то обманывал, лгал, фальшивил и т. п. Как-никак Яшин до написания своих клятвенно-программных строк активно работал в литературе чуть ли не два десятка лет, был широко известен как талантливый поэт. И написал много такого, от чего не собирался отрекаться, как это произошло с «Аленой Фоминой». Да и в «Алене Фоминой» было немало великолепных, продиктованных искренним чувством строф и целых страниц, картин.
Но была и образная одномерность, а порой и наезженная колея, была однотонность поэтического пафоса, было то, что называется: это вижу, а того не замечаю, то мне не нужно, то помешает, испортит замысленную мной картину. Удивительно, что, казалось бы, определившийся и быстро, чуть ли не с начальных шагов своих в литературе, признанный поэт (большая положительная рецензия о его первой книге «Северянка» появилась в «Октябре» еще в 1937 году), — удивительно, как Яшин долго искал свою глубину. То увлекался стилизацией под народный говор, поговорку и даже под произношение — вологодское оканье; вспомним знаменитое: «Ты проедешь волок, еще волок да еще волок — будет город Вологда», открывавшее «Северянку» и так восхитившее первых читателей и критиков Яшина своей самобытностью. Самобытность-то была, но и стилизация в ней слышалась, да на одной самобытности в поэзии долго и не проживешь, скоро примелькается. То близкая, родственная стилизации затейливость, красочность народных обрядов, гульбищ, празднеств, тоже, конечно, избирательная, видящая только одну и часто не главную, внешнюю, украшенную этнографической орнаменталистикой сторону народной жизни. («У Олены кофта — сад, пуговки-росинки, бусы — ягоды висят, зреют бисеринки. До земли свисает шаль, шелковые кисти. Поглядишь — горит душа: очень девка хороша, статна, голосиста!». Или: «Что ни праздник, — на угоре все девчата наши в сборе. Во наряды выряжены, парни с нами выдержанны. Все достатки, все порядки в этом выражены»), А то и серьезничание, милое, наивное и в этой наивности отчасти поэтичное, и все-таки не свое, уже траченное литературщинкой: «Мороз расписал оконные стекла, и сказочной стала моя изба ... то горная круча, то речка в разливе, то звезды, то ласточки, то лопухи... тоскуешь о море — увидишь море, о доме тоскуешь — увидишь дом». И как поэтический вывод: «Дивлюсь на стекло, поднявшись с рассветом, и не дыша стою перед ним... Не так ли читаем любимых поэтов: находим все, что найти хотим». Стихотворение о любимых поэтах посвящено Илье Сельвинскому. Значит, и Сельвинским увлекался?
Поиски себя, своего глубокого промера — это еще и поиски своей темы, близкого уму и сердцу жизненного материала. Если исключить войну, в которой Александр Яшин служил верно, как и подобает поэту а гражданину, отдавая всего себя делу победы, но, однако, не создал ничего такого, что бы выделилось, стало приметным явлением в поэзии военных лет, то нетрудно заметить: поиски темы, жизненного материала долгое время шли у Яшина не в глубину, а вширь, как бы расходясь в пространстве кругами. Оставив Вологодчину, он не «приживается» и в Москве, ищет поэзию за столичными пределами, его, как говорят в таких случаях, бросает по свету. И вот он уже в Сталинграде на строительстве Волго-Донского канала, гидроэлектростанции. Десятки стихов, нисколько не хуже, но и не лучше таких же стихов у других... Первый клич — на освоение целины! — и Яшин уже на Алтае, и ему уже мало стихов, точнее, к стихам, к поэзии он хочет подобраться, подойти от самого дела и поступает на курсы механизаторов, сам своими руками намерен осваивать целину, а уже потом писать о ней. Конечно, в этом весь Яшин с его редкостной самоотдачей реальному делу, постоянным стремлением обеспечить каждую свою строку полновесным запасом собственных впечатлений и переживаний, жизненным опытом.
И, однако, чем дальше он уходил от своей Вологодчины, тем неизбежнее становилось возвращение туда. Центробежные силы должны были рано или поздно смениться на центростремительные. Вширь все-таки не получалось, во всяком случае, гак, как хотелось бы, чтобы приносило полное удовлетворение. И когда Яшин писал: «Тянет в простор полей с каждой весной упорней. Все-таки на селе все мои корни», это означало: не вообще в селе, на Алтае или где-либо еще, а у себя дома, в родной деревне Блудново, и нигде больше.
И тут, как мне думается, в самый раз хоть коротко коснуться так называемой проблемы «большой» и «малой родины». Особой проблемы здесь нет, и, однако, легко заметить, что всякий раз, когда пишут о «большой» и «малой родине», то как бы заранее предполагается некая существенная разница между ними, а порой и противоположение. Большая — и есть большая, и пишут ее чаще всего с большой буквы, это вся страна со всеми ее просторами и новым ее социалистическим устройством, а малая — она и есть малая, место, где ты родился, вырос, чаще всего это почему-то деревня, никто же и никогда не скажет не то что о Москве, но и о Костроме, что они — малая родина, а отсюда и ассоциации — один или два порядка домов, березки, околица, поля, старые, вековечные обычаи. А за околицей и полями, за долами и лесами уже как бы и простирается подразумеваемая большая Родина со всей ее духовной широтой и новью. Словно большая Родина не состоит из бесчисленного числа малых, — а каждая из малых и есть самая настоящая частица большой!
Между прочим, наши классики, великие предшественники в литературе, такого нынешнего деления Родины не знали, для них была столица, Петербург, которую они, разумеется, никак не могли называть большой Родиной, и была Россия — одна, и совсем не малая. И если Тургенев или Бунин писали об орловской деревне, а Лев Толстой — о тульской, а Щедрин — о своем Пошехонье, то никому и в голову не приходило, что они пишут не о всей России. И разве существует разница между Петербургскими романами и повестями Достоевского и «Братьями Карамазовыми», где действие, как известно, в основном происходит в заштатном городке Старая Русса. И что делать тогда со всей историей, приключившейся в гоголевском «Ревизоре», в совсем уж захолустном городе, в котором, как в зеркале, отразилась вся николаевская Россия. Сам Николай I это с негодованием заметил.
Для писателя родина — меньше всего географическое понятие, а скорее и прежде всего понятие социальное и национальное, человеческое, не столько пейзаж (хотя и пейзаж), сколько весь сложнейший комплекс современных человеческих отношений, который можно увидеть где угодно — и в огромном городе, и в затерявшейся в лесах северной деревне. Важно только увидеть пристрастным, любовным и болеющим за людей взглядом. Взглядом сына, всегда помнящего о земле своих дедичей и отчичей. А такой, не туристский, не сторонний любопытствующий взгляд скорее всего и обнаруживается у человека на его «малой родине»: там все ему памятно и знакомо, вое близко. И, значит, там ему легче, душевно проще (из этого совсем не следует, что вообще легко и просто) найти свою личную тему большой Родины. Не потому ли Твардовский постоянно возвращался к своей родной Смоленщине, а Прокофьев к Ладоге, Смелякова же, скажем, нельзя иначе и представить, как коренным горожанином-москвичом. И не это ли чувство близости к своим истокам и позволило им особенно остро чувствовать пульс всей народной жизни, постоянно держать руку на этом пульсе и отмечать все его изменения — ровные здоровые толчки пульсирующей крови или перебои, где бы они ни происходили? Ибо народный организм один. И когда начинаются смешные споры и толки, смоленский ли парень Теркин, или из-под Тамбова, или из каких других мест, то точнее, чем сам поэт, не ответишь: «Каждой роте придан Теркин». Следовательно, каждому месту и краю, что и делает его общенациональным типом, истинно русским характером, но увиден, а ранее того почувствован он был, конечно же, в родных поэту смоленских местах. Где и когда и только ли на войне? Конечно, не только на ней, но и до нее. Такое могучее художественное создание, как «Василий Теркин», могло осуществиться лишь в результате всего «золотого запаса впечатлений» (любимое выражение Твардовского), закрома которого пополнялись с раннего детства, и так называемая «малая родина» заняла в них, прямо скажем, немалое место.
Такова, в сущности, нехитрая диалектика, но как порой до нее нелегко дойти, постичь ее собственной поэтической судьбой. Яшин до нее добирался долго, в метаниях и поисках. Орнаментальная, празднично-фольклорная Вологодчина была исчерпана, новые поэтические ходы в этой теме не предвиделись. Послевоенная Вологодчина была увидена через тогдашнюю литературу о деревне: так возникла «Алена Фомина», в которой было больше желаемого, чем реальности, а потому народный характер Алены Фоминой и не получился (попробуйте сравните эту поэму с романами Федора Абрамова или рассказами Василия Белова о тех же местах и о том же времени — и вы увидите, как далеко отстояла поэма от жизни). Тогда-то, по-видимому, у Яшина и начались метания и блуждания по стране. Но и в командировочных наездах и даже в искреннем желании окорениться в другом краю всегда так или иначе оставалась в глубине сердца родная, тяжело, трудно поднимавшаяся после войны Вологодчина. Жило в Яшине его Блудново, и никуда он от него не мог уйти, если бы и захотел. И не когда-нибудь позже, а уже в 1955 году, в пору своих алтайских увлечений, он напишет в стихотворении «Только на родине» — как видим, название опять же, как многое в Яшине, категорично, он и человеком был меньше всего округло-расплывчатым, неопределенным, напротив, слыл и действительно являлся даже мало знакомым ему людям откровенным, размашисто резким и бескомпромиссно прямым, — так вот, уже в этом стихотворении он пишет:
Но если б вырос я в другом краю,
То все неповторимое,
Как чудо.
Переместилось, верно бы, отсюда в тот край, другой —
На родину мою.
Алтаю, как и другим краям и местам, вполне достойным и все-таки не своим, суждено было остаться в стихах, в биографии, но не в сердце.
Я не хочу, чтобы меня поняли плоско, что, мол, возвратившись на круги своя, писатель только и может обрести самого себя, заговорить в свой полный голос. Если бы дело стояло за нехитрым рецептом: ищи себя не где-нибудь, а только на своей «малой родине», то как бы все было до простодушия прелестно. Но и у себя дома можно ничегошеньки не увидеть И предаваться обманчивому, мнимо лирическому стихоплетению («Росы, косы, березы», — иронизировал как-то над одним из таких «деревенских» лириков Твардовский. — А сам, небось, дня без теплой уборной прожить не может»). Примеров тому — сколько угодно. Не меньшее, а, пожалуй, большее, скажем со всей определенностью так: решающее значение для творчества Яшина (и не только одного его) имели происходившие перемены в жизни и общественном самосознании, в том числе и в литературе, приведшие к более глубокому, аналитическому взгляду на жизненные явления, усилившие стремление увидеть, понять и передать переживания простых тружеников, раскрыть все богатство их духовного мира. Короче, все то, что активно встало и противопоставило себя так называемой «лакировочной», неправдивой, а потому и антихудожественной литературе. Александр Яшин был в числе тех, кто остро почувствовал вред «лакировки». И суть не в том, что он сам отдал ей в свое время некоторую дань, хотя, конечно, и от этого никуда не уйдешь. Суть в той страстной заинтересованности в жизни, в ярком человеческом, общественном темпераменте Яшина. Яшина равнодушного, вялого, анемичного вообще невозможно представить. Порывистого, страстного, увлекающегося — да. Ровного, безразличного, бестревожно посматривающего на жизнь — о нет, такого Яшина не было! Чтобы понять это, не нужно было даже знать его лично. Любой пишущий так или иначе выявляет себя в том, что пишет, порой даже и не сознавая того. Скрыть себя, свою личность в литературе невозможно. А Яшин никогда и не пытался делать этого. В своей лирике он весь как на ладони.
Многочисленные пути и дороги слились в одну — к отчему дому, и Яшин пошел по ней. Тогда-то по-настоящему и разгорелся и заполыхал далеко видный костер его таланта. Он знал, о чем пишет. Знал, о ком и для кого пишет и зачем пишет.
И, по-видимому, не случайно начал с прозы: она давала возможность прямее и полнее высказаться о том, что наболело, обрисовать людей очень близких или совсем далеких, а то и чуждых. В ней было легче развернуться для свободного, не стесненного никакими поэтическими условностями разговора.
Начало было огорчительно неудачным. Рассказ «Рычаги» попал под сильный огонь критики. Намерения автора были вполне здоровыми, так же как в свое время «рациональное зерно» было заложено в очерке Ф. Абрамова «Вокруг да около». Яшин призывал к развитию активности, самостоятельности колхозников, к тому, чтобы люди чувствовали себя не «винтиками» и не «рычагами» чужой воли, а хозяевами своей земли, ответственными за все, что на ней происходит. У Абрамова цель очерка, если на то пошло, была гораздо уже — Абрамов воевал против явной нелепости: в лесах и на неудобях уходит под снег трава, а ее не разрешают косить. Весь сюжет был построен на этом, очерк содержал практическую критику реального положения вещей и столь же практическое предложение. Но поначалу увидели в очерке все, что угодно, только не это, главное, о чем вскоре было принято соответствующее партийное решение.
Однако в «Рычагах», одной из первых проб поэта в прозе, серьезное жизненное явление было воплощено не без схематизма, не без авторского нажима и пережима, из-за чего картина получилась безнадежно мрачной, а это и позволило критикам толковать о предвзятости, нарочитости и прочем. Думаю, что недостатки рассказа почувствовал и сам Яшин. Критика не прошла для него даром. Но, к сожалению, было все — и упадок сил, известный творческий кризис: «Но я не знаю страшней мученья, коль пропадает к работе влеченье». Ничего не скажешь, тяжелое признание, относится оно к 1959 году. И все же Яшин был не из тех, кто легко поддается ударам жизни. «Все как болезнь. А есть ли леченье?» — спрашивал он в том же стихотворении и отвечал себе: есть. Это время, надежда на собственные силы и та незаметная даже самому человеку внутренняя работа, переомысливание собственного жизненного и художественного опыта, которое и образует новое качество, поднимает художника на новую ступень: «Только терпенье, одно терпенье: выдюжить, выждать — и в свой черед все образуется, боль пройдет». В этих словах — не пассивность, а вполне понятное желание остановиться, оглядеться, сосредоточиться. Пройдет все наносное, лишнее, образуется то, что и должно образоваться, — новый опыт, нисколько не противоречащий старому, но и поднимающийся, возвышающийся над старым.
От творческих кризисов не застрахован ни один серьезный художник. И как бы эти кризисы, остановки ни были субъективно тяжелы, они нередко являются в конце концов и благом: они — примета преодоления некоего перевала, за которым открываются неведомые дотоле творческие дали. Так было и с Яшиным. Не будем искать сейчас точного времени, когда Яшин миновал свой перевал: вряд ли в таких тонких делах вообще существует какая-либо точность. Но о его книге лирики «Совесть» уже все без исключения писали как о значительном рывке поэта вперед. Вышла эта книга в 1962 году. Стихи, помещенные в ней, датируются 1959-1961 годами. Тогда же началась работа и над стихами, вошедшими в книгу «Босиком по земле» (1962—1967). От стихотворений этих лет буквально все писавшие и говорившие о Яшине ведут как бы новый отсчет в его творчестве.
На эти годы приходится и «Вологодская свадьба». Впервые этот очерк был напечатан в декабре 1962 года. Приблизительно в то же время была написана чуть ли не вся известная нам проза Яшина. Повесть «Сирота» —
В свое время много несправедливого было сказано критикой по поводу, пожалуй, одного из самых лучших, необыкновенно цельных и естественных прозаических произведений Яшина — его «Вологодской свадьбы». Хотя, наверное, как всякое художественное произведение, и этот очерк не лишен каких-то недостатков. Это особенно ощутимо в повести Яшина «Сирота». В отличие от «Вологодской свадьбы», она была единодушно одобрена нашей критикой, хотя как раз в ней-то сатирических красок куда больше и наложены они гуще, чем в очерке. Но это, так сказать, один из парадоксов, в которые порою впадает критическая мысль.
Мне и сейчас, при новом чтении повести, выбор Яшиным ее героя, объекта для сатирико-психологического исследования не представляется самым удачным. Сиротство, как одно из неизбежных и долговременных последствий войны, — явление, что там говорить, тяжкое, труднопереносимое всеми и вдовами, и самими сиротами. Да и не ими одними. И сколько сиротства оставила на нашей земле война: погибших-то ведь 20 миллионов. 20 миллионов! Каждый раз, когда вспоминается эта страшная цифра, не сразу освобождаешься от печальных раздумий. И, наверное, не из сирот можно было бы найти персонаж для беспощадного, не знающего сожаления авторского гнева.
Но таков уж Яшин с его нравственным максимализмом. Он выбрал сироту да еще круглого: отец погиб на фронте, а мать Павла Мамыкина вскорости после войны тоже умерла от постоянного недоедания ради сирот («Но больше всех голодала мать. Что бы ни появлялось на обеденном столе, она говорила, что уже сыта») и тяжкой, без разгиба и отдыха работы. Тоже во благо тех же сирот — Павла и его младшего братика Шурки. Выбрал сироту, чтобы показать, как в наших условиях, на благородстве и участии множества людей, возникает и пышным цветом распускается тунеядство, паразитизм, хищнический, рваческий карьеризм. Я нисколько не преувеличиваю, употребляя эти очень сильные словам В Павлуше, потом Павле, уже с младых ногтей мечтающем о том, когда его станут подобострастно величать Павлом Ивановичем, восседающем сначала в тарантасе, а потом и в легковой машине, все это есть. Он из тех, кого народ выразительно припечатывает одним словом «захребетник», да еще захребетник молодой, совсем юный, так что еще весь полон подловатой энергия и нерастраченной хитрости, беззастенчивой наглости. Далеко пойдет? Да вряд ли. Далеко не идет он и в повести, но жизнь многим, в особенности близким своим, родным, с которыми церемониться он с детства не привык да и не намерен, испортить может. И портит. И хоть бы по одному этому социальную опасность он в себе таит. Именно опасность, потому что способен пусть в небольшие начальнички, но вылезти, а тогда и не одним родным, а и подчиненным его, обществу всему будет нанесен моральный ущерб. Да и без материального урона наверняка не обойдется. Потому что Павел Мамыкин по натуре своей хищник, хапуга, рвач, с малых лет уразумевший — подумать только что! — «что быть сиротой не так уж плохо. Понял и запомнил». И тогда же, с шести лет, стал сначала полуинстинктивно, а потом и сознательно спекулировать на своем сиротстве.
«Сироту» называли в критике повестью сатирической. Думаю, что это не совсем так. Не всякое обличение — сатира. Большую роль играют и метод, художественные средства обличения. При всей своей беспощадности «Сирота» — повесть сугубо психологическая, а в ряде мест даже и лирическая (вспомним страницы, связанные с несчастной любовью Нюрки Молчуньи к милому ее сердцу Павлуше; вот уж и вправду тот случай, когда сердцу не прикажешь!). И драматическая — потому что по всему повествованию, как тень, опекающая и оберегающая старшенького, надежду разоренной семьи, Пашуту, проходит бабка Анисья. Вот еще один народный образ, зорко увиденный и необычайно точно выписанный Яшиным. Образ чуть ли не трагический, хотя в нем и нет той исключительности, которая чаще всего сопутствует трагическому в литературе. И мудра, и знающа бабка Анисья («сама не хуже любого фельдшера лечила в деревне всех скудающихся», т. е. хворающих). Но вот уж буквально верна поговорка: и на старуху бывает проруха. И вся та проруха в чем? — в любвеобилии, в жалости к сироткам с малолетства, в вере, что старшенький, особо милый ее Щедрому сердцу Павлуша, «выйдет в люди», «станет человеком», пойдет далеко, ведь учится, «от него всего можно ожидать». И не ожидала бедная старуха только одного — что не оправдает ее любви любимый внучек, вырастет из него не человек, а негодяй. Слепа любовь, да еще старушечья, да еще к внукам-сиротам, «а думать, — как прекрасно и точно пишет автор, — бабушка не привыкла, она больше сердцем чувствовала, что хорошо, что плохо, что справедливо на земле, что нет», но и сердце долгие годы обманывало ее. И пришлось ей убедиться, каков на деле он, ее любимый внучек Павлуша, когда приехал делиться с самой Анисьей и братом Шуркой, разорять отцовское гнездо. Всего на свете она могла ожидать, но только не этого — холодного и расчетливого бессердечья того, кому всю душу свою отдала. Страницы, на которых описывается ссора Павла с братом и безутешное горе Анисьи, слишком поздно прозревшей Анисьи, да и понявшей ли до конца все, что случилось, тоже никому неизвестно, — при всей сдержанности письма исполнены настоящего трагизма. Не будем бояться этих высоких слов, которые мы обычно любим применять к героям, людям необыкновенной судьбы и высокого полета, а не к каким-то старушкам с их слепой и непонятливой любовью, которая и у читателя порой вызывает досаду: ну как же это, вроде бы умная Анисья не может отличить, где настоящее золото, а где дрянь: к Шурке, работяге, честному, приверженному земле и труду, она совсем иначе относится. «Шурка тоже, конечно, парень неплохой, растет в отца, но это же простой работяга, земляной человек, — размышляет бедная старуха. — Такие вытягиваются сами по себе, как сорная трава, чего с ними возиться». Даже, так думает Анисья, уверенная, что Павлуша-то совсем иного покроя и другой судьбы человек. И каково же горько старухе убедиться, что все не так.
«— О господи! — рыдала Анисья.
А Шурка стал утешать ее, уже не слушая ни Павла, ни Прокофия Кузьмича:
— Ничего не бойся, бабушка, и ждать ничего не придется. Пускай делится, никакого суда не будет, не бойся. Буржуи мы, что ли, какие, чтобы по судам ходить. Ты на меня положись, я тебе новую избу выстрою. Пускай все берет — скорей подавится».
Как же не угадала раньше Анисья, что именно Шурка и есть близкий ее судьбе человек, что он от народного здорового корня, а не Павлуша — нарост, дурной побег? Не догадывалась, но и винить ее трудно. И не пожалеть нельзя, невозможно не попечалиться над ее незадавшейся судьбой.
«Бабушка умерла, когда Павел увез на машине последние бревна от избы. Михайло Лексеич взялся стругать доски, чтобы сколотить гроб, но Шурка захотел все сделать сам.
Хоронили Анисью по-хорошему, был народ, были слезы. Больше всех плакала Нюрка. Она словно с молодостью своей прощалась. Простился со старухой и Прокофий Кузьмич. Не было только Павла. Он, должно быть, сразу начал перестраивать городской дом, потому и не успел приехать на похороны».
В старой доброй манере русской классической повести кончает свою «Сироту» Яшин. Каждый из персонажей еще раз, напоследок, обнаружил свою характерность, повернулся к нам своей стороной и в последнем поступке окончательно выказал себя. Шурка, конечно же, захотел все сделать сам для бабушки Анисьи, хотя она меньше привечала его, чем Павла. А Павла и след простыл: увез разобранную избу — и едва ли теперь он появится в деревне, разве лишь для какого-нибудь нового хищного набега. Нюрка Молчунья — и не такая она молчунья, мы уже видели ее твердость, когда вместе с Шуркой наотрез отказалась теребить лен вместе с сорняками, предпочтя руками своими выбрать его, хоть и была эта работа каторжной, но зато по совести, — Нюрка, давно полюбившая Павла и теперь, после его женитьбы на городской, потерявшая остаток веры в него, плакала больше всех, «словно с молодостью своей прощалась»...
Не случайно проходят все они в конце повести перед нами — и главный «герой» Павел словно затерялся между ними: скупо о нем сказано, холодно, чего и заслуживает. И совсем другая интонация слышится, когда ложится последний словесный блик на других людей.
В нашей критике как-то принято считать «Сироту» повестью в основном обличительной, вследствие этого и одногеройной. Повестью о Павле Мамыкине. И в названии стоит «Сирота». Один сирота, хотя их двое, есть еще и Шурка. Но при чтении повести явственно чувствуешь, что не история Павла, не исследование его душонки больше всего занимает и волнует автора, а сама конфликтная ситуация, которую создает в жизни людей такая душонка. Для бабушка Анисьи — трагическая ситуация, для Шурки — скорее долгий и неприятный эпизод, который он переживает. Шурка его переживет. По духу своему он родной брат Мишки, Михаила Пряслина из романов Федора Абрамова — крепкой, надежной породы. И у Нюрки Молчуньи, чем-то напоминающей Лизу Пряслину — своей неугомонностью, ловкостью в работе, что ли? — пройдет ее печаль и горе: должно быть, оплакивает она свою любовь последний раз. А председатель колхоза Прокофий Кузьмич, тоже в свое время питавший надежду, что «образованный» Павел когда-нибудь сменит его на хлопотном председательском посту, тот уже давно свыкся, что если и будет замена, то другая...
Не о Павле Мамыкине эта повесть, во всяком случае, не о нем одном. Вместе с Павлом автор нам как бы вынул целый кусок народной жизни и показал его во всей своей куда как не простой сложности. Кусок ли, обнаженный ли пласт — выбирайте любое определение, — нам лишь важно заметить сейчас, что жизнь в повести представлена, какой она есть, без затенения ила специального высветления отдельных ее участков. Нет, ни Шурка, ни Нюрка Молчунья, ни Прокофий Кузьмич или колхозный пасечник Михайло Лексеич, ни другие персонажи — это не фон, на котором развертывается история Пашки. И довольно большой эпизод со льном, в котором выявляются подлинные характеры многих людей (только не Пашки), — не специально «производственное» включение ради повествовательного «баланса», чтобы легче было потом «отбиваться» от критики: мол, и это отражено. Не о том пекся автор: его вся жизнь родной вологодской деревни интересовала, со всеми своими хлопотами, неурядицами, огорчениями, бедами и всякими неожиданными проявлениями, вроде произрастания Пашкиной сорняковой натуры. Жизнь, взятая, разумеется, под определенным ракурсом, с особо пристальным вниманием к определенному типу, характеру, персонажу — но ведь это право автора. Не авторский произвол, а суверенное художническое право. Ведь и в «Вологодской свадьбе», в сущности, показана нам только свадьба, а мы уже видели, что на ней выявилось и проступило, какой стороной обернулись на ней люди и что все это значило. Не фольклорно-этнографическую или жанровую картинку мы увидели, а всю многосложную деревенскую жизнь со всей ее разноречивой живописностью и уймой проблем и забот.
Проза Яшина заставляет думать, и думать серьезно. Она заставляет ходить «босиком по земле» (немалый смысл в этом названии яшинского стихотворного сборника), я не в туристских кедах. И читать ее надо с живой душой, а не с холодным менторским рассудком, почему-то всегда знающим, что положено и что не положено в литературе. В литературе все положено, если изображается народная жизнь, нет там никаких второстепенных участков, все главные, если они осматриваются заинтересованным взглядом и разрабатываются таким же как сам народ, трудягой-художником, а не готовым на выгодную поделку ремесленником.
Тема народа и тема родины — малой, большой — все одно, мы уже видели, что нет для Яшина между ними разницы, — словно слились воедино в одном из самых откровенных и проникновеннейших яшинских рассказов «Угощаю рябиной». Казалось бы, самый что ни на есть бесхитростный, почти дачный, «переделкинский» сюжет: весной, пряча лыжи на чердак, автор заметил собранные осенью и забытые на стропилах, кисти рябины. Обнаружил, обрадовался связкам пожухших, сморщенных ягод и начал их раздаривать кому попадется, первым встречным. Вот, собственно, и весь сюжет, больше ничего и не происходит в рассказе. Но вложено в этот простенький сюжетик так много, и кисти рябины оказываются такой коварной «лакмусовой бумажкой», которая сразу, мгновенно, при первом же разговоре обнаруживает для автора суть встречных-поперечных. И, конечно, определяет авторское отношение к ним. Одних неожиданная апрельская рябина взволновала, настроила на шумные и красноречивые, притом довольно верные, точные воспоминания, как, например, автора колхозных романов, который и покачал вверх-вниз связку, и, как знаток, понюхал и тут же многое с радостью припомнил. И рассказчик все еще ждал, а знает ли, вспомнит ли писатель, что замороженная рябина — надежнейшее народное средство от угара... «Я слушал и ждал: вспомнит ли об угаре?.. Вспомнил!» — чуть ли не ликует автор. Другого рябина навела на приятную мысль о настоечке... «А третий неожиданна спросил: — Что это? — Рябина, конечно. — Да? Рябина? — удивился он. — «Что стоишь, качаясь»? Откуда она у вас?» Но этот хоть заинтересовался, откуда, проявил какой-то интерес и любознательность. По писательской своей привычке даже аналогию с людьми тут же сообразил: когда рассказчик заметил, что если рябина одичает, то ягода ее станет мелкой, горькой, почти ядовитой, то «любознательный друг» «засиял от догадки: «Происходит, собственно, то же, что и с людьми?» «Собственно, то же», — подтвердил рассказчик, и разговор все же получился. Но сморщенной, неказистой на вид ягодки этот приятель так в рот и не взял. Ни единой. «Один раз он даже тронул листья, пошуршал ими, но так и не решился взять в рот ни единой рябиновой ягодки». Зато накрашенная немолодая дама, печатавшая в газетах очерки на морально-бытовые темы, пришла от вида кистей в совершенный восторг: «— Это же диво дивное, чудо чудное! И как пахнет!». И с разрешения автора «быстро клюнула ягодку, съела ее, сморщилась и заахала еще энергичней». А рябиновые кисти тут же опустила в стакан с водой: «— Какой букет, ах! Он у меня будет стоять на письменном столе. Это же сама Россия!» Чудное деревенское лакомство и не лакомство даже, а еду, которую в деревне заготовляли к зиме «наравне с брусникой, и клюквой, и грибами», — в стаканчик, как букетик, да еще символический: «сама Россия!»...
Не буду перечислять всех, кто встретился автору по дороге, когда он шел со связкой рябины, нашелся даже и такой, что с ходу предложил: «Слушай, Сашка, продай мне все это!» «Как это продай?» — растерялся рассказчик, чего он не ожидал, так торга! А вышло, что собеседник именно торговался: «А не хочешь продать — отдай так, я тебе тоже подкину какой-нибудь сувенирчик». — И он стал рыться в своих многочисленных широких карманах, небрежно раздергивая серебристые змейки-«молнии». И пришлось этому хлюсту все-таки дать веточку и при этом очень хотелось сказать: «Поешь, может, на пользу пойдет!».
И только одна «гардеробщица Поля подошла к делу чисто практически:
— Я вот заморю эту веточку по-нашему, по-рязанскому, да чаек заварю, побалуюсь, молодое житье вспомню. Раньше у нас девки рябиной милых привораживали. Помогало. Я уж отворожила...»
Поле, как, впрочем, и «ширококостному, шумному» автору колхозных романов, — только им и не пришлось ничего ни говорить, ни объяснять о рябине. Они ее и так хорошо знают, она для них с детства знакома, своя.
«Лакмусовая бумажка» отчетливо отделила одних от других. «Сама Россия»... Для одних презабавный букетик па столе или вообще сувенирные «витамины», для других — и еда, и лакомство с детства, и средство от угара, то есть от самой смерти, и поэзия («рябиной милых привораживали»)... «Это же сама Россия!» — с литературным жеманством воскликнула авторша морально-бытовых сочинений, изобразив из рябины моментальный красочный натюрмортик. «Сама Россия!» — совсем иначе, сладко и трудно вздохнул автор и тут же вспомнил, не мог не вспомнить:
«Я вспомнил о Бобришном Угоре на моей родине. Осенью, когда похолодает, и по утрам река светла до дна, и лесные опушки просвечивают насквозь, когда на мокрой от росы траве посверкивает паутина, а в ясном, прозрачном воздухе носятся стаи молодых уток, — вдруг из всех перелесков выдвигаются на передний план нарядные, увешанные гроздьями рябины: вот они мы, не проглядите, дескать, не пренебрегайте нашей ягодой, мы щедрые! Ветерок их оглаживает, ерошит сверху донизу, и птицы на каждой ветке жируют, перелетая, как из гостей в гости, с одной золотой вершины на другую, а они стоят себе, чуть покачиваясь, и любуются сами собой...»
И дальше хочется цитировать, и дальше будет удивительно свободно, просто и поэтично литься гимн рябине. Да, такую прозу хочется и читать, и перечитывать. Есть в ней одновременно и емкость мысли, и редкостная повествовательная свобода, не признающая никаких канонов, кроме необходимости полноты выражения и отображения жизни. Это в традициях русского рассказа, который может обернуться и очерком нравов, быта, и повестью, и даже небольшим романом. Твердых жанровых перегородок и неукоснительных отличий эта проза не знает да и знать не хочет. «Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? — вдруг спрашивает в своем «Герое нашего времени» Лермонтов и тут же отвечает: — Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле». И советует: «Итак, погодите, или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую (разрядка моя. — А. К.), потому что переезд через Крестовую Гору... достоин вашего любопытства». И спокойно начинает: «Итак, мы спускались с Гуд-Горы в Чертову Долину…», и мы читаем прекрасное и по сей день описание и Чертовой долины, и Крестовой горы, и метели, застигнувшей на перевале путников. Вроде бы все это действительно никакого отношения к истории Бэлы и Печорина не имеет. Но зато как в описании вырисовывается Максим Максимович, без которого мы бы не все узнали и о самом «герое нашего времени», Печорине, да и без Кавказа Печорин уже не Печорин.
Это и есть та художественная свобода, к которой так и хочется применить известную диалектическую формулу: свобода есть осознанная необходимость. Потому-то рассказчик и не советует пропускать описание: оно необходимо, без него многое пропадет для читателя.
Именно этой доброй традиции верен Яшин-прозаик. И в самом деле такое естественное, абсолютно раскованное письмо лишь по внешности легко достижимо, напротив, достигнуть, добиться его — большое мастерство, ибо оно заключает в себе особую внутреннюю писательскую самодисциплину — и то невидимое читателю строгое самоограничение, которое и делает свободное повествование нигде не провисающим, туго натянутым, как певучая струна. Поэтому хотелось бы отвести прозвучавший в одной из статей о Яшине упрек его прозе в разностильности. И в «Вологодской свадьбе», и в «Сироте», и в «Угощаю рябиной», да, собственно говоря, везде, даже в лирических зарисовках, объединенных в циклах «Сладкий остров» и «Вместе с Пришвиным», мы можем встретить и публицистические отступления, и вроде бы внезапно врывающуюся в повествование, глубоко личную исповедь, чуть ли не крик души, и размышления на самые разные темы. Но если это и отступления, то того самого характера, на которые указывал Лермонтов: пропускать их не только не следует, их и не минуешь, а если и захочешь миновать, то лучше просто не брать книгу в руки: может быть, она еще и не по зубам...
О художественных достоинствах и особенностях яшинской прозы, наверно, можно было бы говорить много, она того стоит. Об удивительной близости прозы к его же лирике последних лет, близости тем, мотивов, даже самой стилистики, что не мешает прозе оставаться прозой, а лирике лирикой и лишь свидетельствует о цельности личности Яшина, окончательно обретенной им в период расцвета его творчества, так трагически оборванного болезнью. Наверное, о художественных особенностях яшинской прозы можно было бы написать специальную статью. Об искусном владении Яшиным всем богатством народной речи, которая нигде и никогда не переходит в стилизацию, а остается всюду авторской речью писателя, поэта Александра Яшина, — и в этом, да и не только в этом, мы легко заметим прямую связь яшинской прозы с прозой талантливейших наших прозаиков Василия Белова, Валентина Распутина, Виктора Астафьева, Виктора Лихоносова и других помоложе, входящих в литературу и, наверное, не минующих при этом опыта Яшина. О тонком искусстве лирической миниатюры, не сбивающейся на привычные еще от тургеневских времен «стихотворения в прозе», а близкий, скорее, к бунинским зарисовкам его последних книг. И тут мог бы пойти тоже особый разговор о пришвинском цикле и о «Сладком острове». Там-то уж наверняка надо было бы поговорить о Яшине-пейзажисте: тоже особая тема.
Да и о многом другом можно было бы написать. Уверен, что и напишут еще. А сейчас, в заключение заметок, хотелось бы сказать об одной заботе: надо бы собрать под крышей одного тома всю прозу Яшина. Есть ведь у него и «городская повесть» «Короткое дыхание», напечатанная три года назад в «Звезде», но почти совсем не замеченная критикой. А любопытная повесть, чем-то близкая залыгияскому «Южно-американскому варианту» и тоже, ко по-своему трактующая мотивы любви, этики, положения женщины в наш особый век, век НТР. Совсем недавно в журнале «Октябрь» мы познакомились с дневниками Яшина военных лет: не художественная проза, личный дневник, но из него мы многое узнаем о Яшине, и не только о нем. Говорят, что среди бумаг Яшина есть и кое-что другое, еще не увидевшее света. Уже семь с лишним лет прошло после его смерти: пора бы донести до читателя все его рукописи, даже и незаконченные. Яшин аз тех писателей, о которых хочется знать все, во всяком случае, возможно больше.
«Есть стихи живые и стихи мертвые. Мертвые стихи — это рабское повторение азов, зарифмовывание готовых фраз. Живые стихи — те, в которых бьется живое человеческое сердце и чувство; неповторимое, яростное восприятие грозовых событий, «свое живое слово, свой индивидуальный призыв».
Так записал Яшин в своем дневнике 16 августа 1942 года. У него много и прекрасных стихов, и первоклассной прозы, в которых бьется живое человеческое сердце, свое живое слово, свое восприятие и свой призыв к людям.
И мы слышим его и долга будем слышать.
Л-ра: Наш современник. – 1975. – № 11. – С. 167-183.
Произведения
Критика